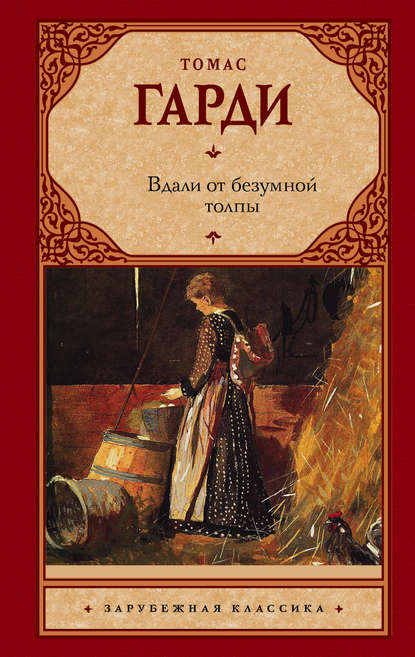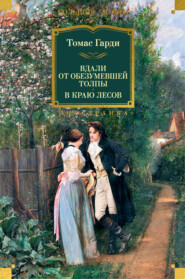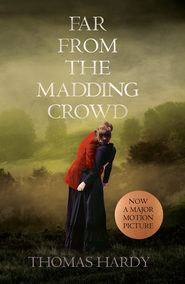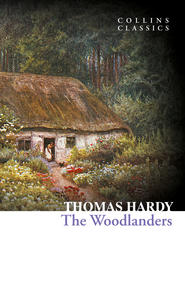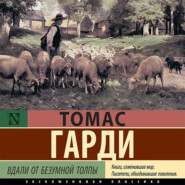По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вдали от безумной толпы
Автор
Жанр
Год написания книги
1874
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Говоря о земле, сельские жители обыкновенно опускают слово «акр», подобно тому как оленя называют «десятковым», не поясняя, что десять – число отростков на его рогах.
– Нынче шляпка была мне нужна. Я ездила на мельницу.
– Мне это известно.
– Откуда же?
– Я видел вас.
– Где?
Каждый мускул лица и тела незнакомки сковало боязливое ожидание ответа.
– Здесь, в роще, и на склоне холма.
Взор, каким Оук окинул тропу, выдавал его осведомленность о том, чего ему знать не полагалось. Снова поглядев на собеседницу, он тотчас опять захотел отвести глаза, как если бы его поймали на воровстве. Девушка же, припомнив свои недавние акробатические экзерсисы, почувствовала, что лицо ее загорелось, будто от крапивы. И хотя это вовсе не входило у нее в обычай, на сей раз она покраснела. Каждый дюйм прелестной кожи принял цвет лепестков розы: сперва нежной розы «Бедро нимфы», затем всевозможные оттенки розы провансальской и, наконец, алой тосканской. Оук из деликатности отвернулся. Несколько мгновений он смотрел в сторону, думая о том, достаточно ли собеседница овладела собою и скоро ли он сможет опять поглядеть ей в лицо. Наконец раздался шорох, легкий, как трепет засохшего листа на ветру, и Габриэль повернул голову. Девицы и след простыл. Обретя вид полутрагический-полукомический, Оук возвратился к своим делам.
Миновало пять дней и пять вечеров. Каждое утро молодая особа приходила доить здоровую корову и лечить больную, но ни разу не позволила своему взору остановиться на персоне фермера Оука. Он глубоко ее оскорбил – не тем, что увидел то, чего не увидеть не мог, а тем, что дал ей об этом знать. «Где нет закона, нет и преступления»[7 - Послание к римлянам апостола Павла, 4:15.], а там, куда не смотрят чужие глаза, нет и непристойности. Девушке, по-видимому, казалось, будто, проследив за нею, Габриэль превратил ее в женщину предосудительного поведения. Это досадное обстоятельство дало Оуку обильную пищу для сожалений. Оно же раздуло в его душе то скрытое пламя, что зародилось после первой встречи с темноволосою красавицей.
И все же знакомство, едва начавшееся, вероятно, завершилось бы для Оука медленным забвением, если бы не случай, произошедший на исходе недели. В тот день стало холодать, под вечер мороз усилился, постепенно и словно бы исподволь сковав все кругом. В такую пору дыхание крестьянина, что спит в своем скромном жилище, превращается в иней на простыне, а в доме большом и толстостенном у тех, кто сидит в гостиной перед разожженным огнем, мерзнут спины, даже если лица пылают. Той ночью многие пташки уснули на голых ветвях, не отужинав.
В час доения Оук по привычке следил за тропой, ведущей к коровьей хижине. По прошествии некоторого времени он стал замерзать и, подложив годовалым овечкам побольше соломы, вернулся в свое убежище, чтобы подбросить в печку дров. Из-под двери дуло. Оук прикрыл щель мешком, а свое ложе повернул немного к югу. Однако холодный воздух все равно струился через отдушину. Точнее, отдушин было две, и фермер знал: когда огонь разожжен, а дверь заперта, по меньшей мере одну следует оставлять открытой – ту, которая не обращена к ветру. И все же теперь Оук решил на минутку-другую закрыть оба отверстия, пока хижина немного не нагреется. Фермер сел. Ощутив непривычную боль в голове и отнеся ее за счет того, что прошлыми ночами приходилось мало спать, он хотел встать, открыть одно оконце, а затем дать себе немного отдыха, однако уснул прежде, чем успел исполнить свое намерение.
Габриэль не знал, долго ли он пробыл в беспамятстве. Когда сознание стало к нему возвращаться, ему показалось, будто с ним происходят странные вещи: лает собака, чьи-то решительные руки расслабляют на нем шейный платок… Голова болела неистово. Оук открыл глаза и, к удивлению своему, увидел, что в хижине уже сгустилась вечерняя мгла, а в этой мгле он различил прелестные губы и белые зубки молодой особы. Более того, его голова покоилась на ее коленях, лицо и шея были мокры, а женские пальчики расстегивали ему воротник.
– Что со мною? – спросил Габриэль безучастным голосом.
Девушка как будто обрадовалась, хотя и не возликовала.
– Уже ничего, раз вы не умерли. И как вам удалось не задохнуться в этом фургоне?
– Ах, фургон… – пробормотал Габриэль. – Я купил его за десять фунтов, а теперь, наверное, продам. Буду сидеть под изгородью, как делали встарь. Спать с овцами на соломе. Уже во второй раз я здесь едва не угорел!
Последнее восклицание фермер сопроводил ударом кулака по полу.
– Виновата не хижина, – произнесла девушка так, словно прежде чем начать говорить, она подумала – немалая редкость для женщины. – Вероятно, вам следовало быть умнее и не закрывать оба оконца враз.
– Вероятно, – ответил Оук рассеянно.
Покуда это мгновение не затерялось во множестве событий, он хотел поймать то чувство, которое испытывал, лежа вот так – головою на платье хорошенькой молодой особы. Он желал бы дать название своему ощущению, однако нашел, что уловить последнее грубыми силками языка не легче, чем сетью поймать аромат.
Девушка помогла Габриэлю сесть, и его лицо понемногу приняло всегдашний буро-красный оттенок.
– Как мне вас благодарить? – спросил он тоном неподдельной признательности.
– О, не стоит! – ответила девица с улыбкою и с улыбкой же выслушала новый вопрос:
– Как вы меня нашли?
– Я шла из коровника и приметила вашу собаку: она выла и царапала дверь. Хорошо еще, что беда не случилась с вами позже: молоко у нашей Дейзи почти закончилось, и в другой раз я, должно быть, приду сюда уже на той неделе или на следующей. Так вот собака меня увидала, подскочила ко мне и схватила за юбку. Я обошла фургон кругом, чтобы взглянуть, не закрыты ли оконца. У моего дяди хижина наподобие вашей, и я слыхала, как он говорил пастуху, чтобы тот непременно отворял одну отдушину, прежде чем ложиться спать. Когда я вошла внутрь, вы лежали будто мертвый. Воды при мне не было, и я плеснула на вас молока, позабыв, что оно теплое. Вы не очнулись.
– Выходит, я должен был умереть? – проговорил Габриэль так тихо, словно адресовал этот вопрос более себе самому, нежели своей собеседнице.
– Ах, нет!
О вероятности столь печального исхода девица предпочла не думать. Признай она, что спасла фермеру жизнь, не удалось бы избежать речей, соответствующих возвышенному духу сего деяния, а таковые были ей не по нраву.
– Вы моя спасительница, мисс… Простите, с вашей тетушкой я знаком, а вашего имени не знаю.
– Полагаю, мне нет нужды его говорить. У вас со мною, верно, не будет больше никаких дел.
– И все же я хотел бы знать, как вы зоветесь.
– Спросите у моей тети, она вам скажет.
– Мое имя Габриэль Оук.
– А мое – нет. Ваше, видно, очень вам по нраву, раз вы произносите его с такою решимостью, Габриэль Оук.
– Мне ничего не остается, ведь другого имени у меня нет и уж не будет.
– Мое всегда казалось мне странным и неблагозвучным.
– Думаю, скоро вы его перемените.
– Боже праведный! Не чересчур ли много вы думаете о других людях, Габриэль Оук?
– Простите, мисс, я полагал, они будут вам приятны. По совести, я не мастер говорить и не сравнюсь с вами в умении взвешивать то, что у меня на языке. Однако я благодарю вас. Дайте же мне вашу руку!
Девушка поколебалась, несколько смущенная тем, с какой старомодной серьезностью Оук вздумал завершить их непринужденную беседу.
– Извольте, – промолвила она и исполнила его просьбу, с выражением деланой безучастности поджав губы.
Оук продержал руку девушки всего мгновение и, побоявшись пожать ее слишком крепко, тронул пальцы едва ощутимо, как делают люди малодушные.
– Простите, – сказал он секунду спустя.
– За что же?
– За то, что выпустил вашу руку так скоро.
– Возьмите ее опять, ежели хотите. Вот она.
На этот раз рука молодой особы пробыла в руке Оука дольше – на удивление долго.
– До чего мягкая у вас кожа! Не загрубела и не потрескалась, хотя теперь зима.
– Ну довольно, – сказала девушка, не отнимая руки. – Быть может, вам бы хотелось также ее поцеловать? Я разрешаю.