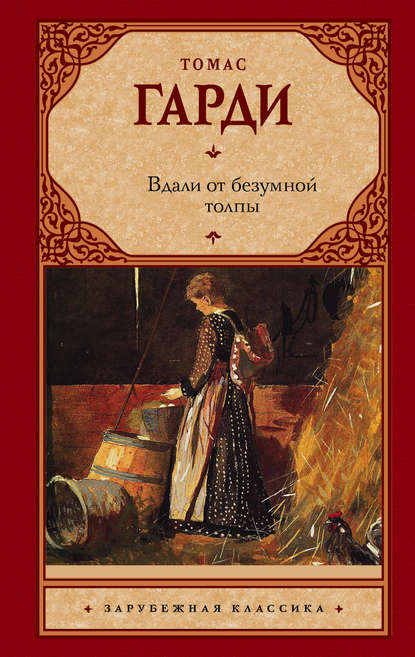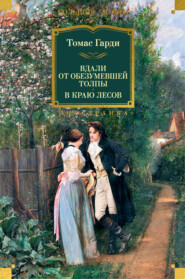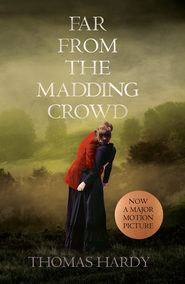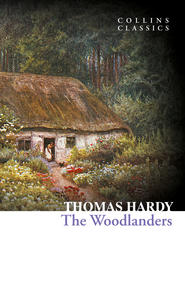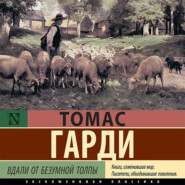По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вдали от безумной толпы
Автор
Жанр
Год написания книги
1874
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но довольно пока о собаках. На другой стороне Норкомбского холма была меловая яма, из которой черпало известь не одно поколение окрестных фермеров. С двух сторон от нее стояла изгородь в виде буквы «V», слегка разомкнутой. Нижние концы, нависавшие над самым краем ямы, соединяла кое-как сработанная перекладина.
Однажды вечером Оук вернулся в свой дом, решив, что ночное бдение на холме более не нужно. Он окликнул собак, чтоб запереть их в сарае до утра. На зов явился только Джордж. Второго пса нигде не было: ни в доме, ни на улице, ни в саду. Оук припомнил, что, уходя с пастбища, оставил собак за поглощением мяса мертвого ягненка (такую пищу он давал им, лишь если другая кончалась). Решив, что молодой пес еще ест, Габриэль лег в постель – роскошь, какую он в последние месяцы позволял себе только по воскресеньям.
Ночь выдалась тихая и влажная. Перед самым рассветом фермера разбудила знакомая музыка, звучавшая весьма громко. Пастух замечает звон овечьего колокольчика так же, как все мы замечаем тиканье часов, то есть лишь тогда, когда привычный звук прекращается или же меняет свои свойства. Не привлекая к себе особого внимания, ленивое позвякивание сообщает фермеру, как бы далеко тот ни находился, что в загоне все спокойно. В торжественной тишине занимавшейся зари Габриэль уловил странный частый звон. Такой звук мог быть вызван одной из двух причин: либо животные, на чьих шеях висят колокольцы, вышли на новое пастбище и щиплют траву с особой жадностью, либо они бросились бежать (в последнем случае звон более ровен). Опытное ухо фермера Оука тотчас определило, что стадо мчится со всех ног.
Габриэль вскочил с постели, оделся, пронесся по окутанной утренним туманом деревенской улице и взобрался на холм. Оягнившихся животных он держал отдельно от тех, которым предстояло ягниться позже. Последних – в его стаде их насчитывалось двести голов – словно ветром сдуло. Пятьдесят овец с ягнятами были в своем загоне, как накануне вечером, но большей части отары даже след простыл. Оук во весь голос прокричал пастушеское «Овей! Овей! Овей!» – и никто не заблеял в ответ. Подойдя к ограде, Габриэль увидел в ней брешь, а рядом – следы копыт. То, что овцам вздумалось выбраться на волю в зимнюю пору, удивило фермера, однако он приписал эту странность их любви к плющу, который в избытке рос среди буков.
В лесу животных не оказалось. Оук вновь стал их звать, и зов его разнесся по окрестным холмам и долинам, подобно воплям Геракла, что разыскивал юного оруженосца Гиласа, канувшего в пучине у берегов Мизии. Овцы не приходили. Тогда Габриэль вышел из леса на гребень холма и на самой вершине увидал темный силуэт своего молодого пса. Подобно Наполеону на острове Святой Елены, тот стоял неподвижно над тем местом, где сближались две изгороди, поставленные над известковою ямой.
Фермера поразила жуткая догадка. Ощутив внезапную слабость во всем теле, он двинулся вперед и увидел возле сломанной перекладины следы своих овечек. Пес подбежал, лизнул руку хозяина и завилял хвостом, явно ожидая благодарности за караульную службу. Габриэль поглядел в яму: на дне лежали умирающие или уже умершие животные – двести изуродованных тел, в каждом из которых таилось по меньшей мере еще одно тело.
Оук был человеком добросердечным – в такой степени, что это часто мешало осуществлению его стратегических замыслов. Всю свою жизнь он страшился того дня, когда каждый пастух предает своих беззащитных овец, превращая их в баранину.
Первым делом Габриэля, стоящего над ямой, поразила жалость к безвременно погибшим нежным созданиям и их нерожденному потомству. Только после он вспомнил о другом: овцы не были застрахованы. Все, что удалось сберечь за годы аскетической жизни, пошло прахом. Мечты о собственной ферме погибли – быть может, навсегда. С восемнадцати до двадцати восьми лет Оук терпеливо трудился, не щадя сил, чтобы теперь остаться ни с чем. Он склонился над оградой и закрыл лицо руками.
Оцепенение, однако, не может продолжаться вечно. Примечательно и вместе с тем для Габриэля вполне свойственно, что первые слова, какие он произнес, овладев собою, были словами благодарности: «Слава Господу, не давшему мне жены! Как бы она вынесла бедность, которая ждет меня теперь?!»
Подняв голову, Оук устремил вперед бесстрастный взор, размышляя, можно ли еще хоть что-то сделать. За ямой виднелся овал пруда, а над ним висел истонченный хромово-желтый серп луны. Слева ее охраняла утренняя звезда. Пруд блестел, как глаз мертвеца. Пробудившийся ветер растягивал и сотрясал, не разрывая, отражение месяца, а свет звезды растянулся по водной глади фосфорическою полосой. Все это Габриэль приметил и запомнил.
Насколько теперь можно было судить, беда случилась так: бедный молодой пес, до сих пор полагавший, что чем дальше он загонит овец, тем лучше, отужинал мертвым ягненком и, исполненный новых сил, заставил своих боязливых подопечных перемахнуть через ограду. Взбежав по склону холма, испуганное стадо сломало подгнившее ограждение ямы и оказалось на дне.
Сын Джорджа, исполнивший свой долг с таким исключительным рвением, оказался слишком хорошим работником, чтобы жить на этом свете. Его забрали и в полдень того же дня пристрелили – пример несчастливой судьбы, часто постигающей собак и философов, которые имеют склонность приводить цепь рассуждений к логическому завершению, стремясь достичь совершенства в мире, где столь важную роль играют компромиссы.
Практически все, имевшееся на ферме Оука, ему предоставил один торговец, который должен был получать долю от дохода, пока ссуда не будет погашена. Те животные и орудия, что принадлежали самому Габриэлю, стоили, как оказалось, примерно столько, чтобы их продажа покрыла долги, оставив неудачливого фермера свободным человеком, владеющим надетым на него платьем и более ничем.
Глава VI
Ярмарка. Путешествие. Пожар
Минуло два года. Перенесемся в Кестербридж, главный город графства, где в тот февральский день проходила ежегодная ярмарка наемных работников. Две или три сотни бодрых и крепких трудяг стояли на площади в ожидании Удачи. Все они принадлежали к тому сорту людей, для которых работа есть не что иное, как борьба с земным притяжением, а любой перерыв в работе есть удовольствие. Возчики выделяли себя в этой толпе тем, что обматывали вокруг шапок кусок кнута, костюм кровельщиков дополнялся сплетенным пуком соломы, пастухи держали в руках посохи. Так наниматель с одного взгляда понимал, кто какого места ищет.
Среди желающих наняться на службу был атлетически сложенный молодой человек, который казался выше других по положению. Кое-кто из краснолицых крестьян даже подходил к нему как к фермеру и предлагал свои услуги, в конце прибавляя «сэр». Но он отвечал: «Я сам хочу наняться. Управляющим. Не знаешь ли, у кого найдется для меня место?»
Габриэль сделался бледен и печален. Глаза глядели раздумчиво. Он прошел через тяжкие испытания, которые многое отняли у него, однако дали ему еще больше. Со скромного трона сельского царя фермер Оук был низвергнут в смоляные ямы Сиддима[10 - См. Бытие, 14:10.], где приобрел доселе неведомое ему величавое спокойствие и ту безучастность к собственной судьбе, которая если не делает человека негодяем, то возвышает его. Падение обернулось восхождением, а потеря – приобретением.
Тем утром из Кестербриджа уходил стоявший там кавалерийский полк, и сержант со своими людьми разъезжал по четырем улицам, составлявшим город, вербуя рекрутов. Под конец дня Оук, которого так никто и не нанял, почти пожалел о том, что не пошел служить отчизне. Раз места управляющего для него не нашлось, а ждать уж не было сил, он надумал взяться за другую работу.
Всем фермерам требовались пастухи, Габриэль же знал толк в овцах. Зайдя в темную улицу и свернув в еще более темный переулок, он вошел в лавку кузнеца.
– Много ли времени тебе нужно, чтоб изготовить крюк для пастушьего посоха?
– Треть часа.
– Сколько возьмешь?
– Два шиллинга.
Оук сел на скамью, а кузнец выковал крюк и приладил древко, не взяв за него отдельной платы. Из кузнечной лавки Габриэль направился в лавку готового платья, где имелась разнообразная одежда для сельских жителей. Поскольку большая часть его денег ушла на посох, он выменял свое пальто на кафтан заправского пастуха, а по совершении сей сделки торопливо вернулся на центральную площадь и встал, как овчар, с посохом в руках. Однако теперь как будто больше требовались управляющие. И все же раза два или три к Габриэлю подходили. Между ним и фермером происходил разговор такого содержания:
– Ты откуда?
– Из Норкомба.
– Не ближний свет.
– Пятнадцать миль отсюда.
– На чьей ферме служил прежде?
– На своей.
Такой ответ неизменно действовал как известие об эпидемии холеры: фермер отходил прочь, качая головой. Далее дело не продвигалось: Габриэль, как и его пес, оказался слишком хорош, чтобы ему доверять. Воспользоваться случаем, который предлагает себя сам, и привести обстоятельства в соответствие с этим случаем верней, чем собственным умом измыслить хороший план. Оук пожалел о своем решении стать под пастушеские знамена. Лучше бы он говорил, что готов взяться за любую работу.
Сгустились сумерки. Какие-то весельчаки принялись насвистывать и распевать песни возле хлебной биржи. Рука Габриэля, долгое время лежавшая без дела в кармане пастушьего кафтана, взяла флейту. Проявляя мудрость, купленную дорогой ценой, Оук заиграл «Плута на ярмарке» так, будто никогда не ведал горя. Габриэль владел сим пасторальным инструментом, подобно жителю идиллической Аркадии, и сейчас, издавая звуки всем знакомой песни, он веселил и свое сердце, и сердца гуляк. За полчаса вдохновенной игры ему удалось изрядно подзаработать: для того, кто всего лишился, горстка однопенсовиков – хоть и небольшое, но состояние. Порасспросив людей, Оук узнал, что назавтра будет ярмарка в Шоттсфорде.
– Далеко ли Шоттсфорд?
– Милях в десяти от Уэзербери.
Уэзербери! Место, куда отправилась Батшеба!.. Для Габриэля полночь внезапно сменилась полуднем.
– А до Уэзербери сколько будет?
– Миль пять или шесть.
Вероятно, Батшеба давно уж покинула Уэзербери, и все же это селение представляло для Оука достаточный интерес, чтобы попытать счастья именно в тех краях. К тому же тамошние жители были сами по себе интересны. Из рассказов следовало, что уэзерберийцы смелы, веселы, хитры и процветают, как никто другой во всем графстве.
Решив переночевать в Уэзербери на пути в Шоттсфорд, Габриэль тотчас зашагал туда по указанной ему кратчайшей дороге. Она тянулась через заливные луга, пересекаемые трепещущими ручейками: струи воды сплетались в косы посередине русла, а у берегов образовывали оборки. Там, где течение было быстрее, сбивались белые облачка пены, и ручей безмятежно уносил их дальше. Сухие скелетики листьев в беспорядке кружились на плечах ветра и падали на землю. Птички на изгородях чистили перышки, уютно устраиваясь на ночлег. Стоило Габриэлю приостановиться, чтобы на них поглядеть, они тотчас вспархивали.
В Йелберийском лесу дичь рассаживалась по гнездам. Оук то и дело слышал скрипучий отрывистый крик фазана или хрипловатый посвист его подруги. Ко времени, когда три или четыре мили остались позади, очертания предметов слились во всепоглощающей тьме. Спустившись с Йелберийского холма, Оук с трудом различил фургон, стоящий под могучим развесистым деревом у дороги.
Габриэль подошел и увидел, что лошадей нет. Поблизости, очевидно, не было ни души: хозяин покинул фургон на ночь, оставив внутри лишь пучок сена. Оук присел на оглоблю и задумался о своем положении. По его подсчету выходило, что значительная часть пути уже пройдена. Поскольку с восхода солнца Габриэль был на ногах, крытая повозка и пук соломы весьма его манили, и он подумал, не лечь ли прямо здесь, чтобы не платить за постой в Уэзербери.
Доев остатки хлеба с ветчиной и запив их сидром, благоразумно припасенным в дорогу, Оук, насколько мог видеть в темноте, разделил сено на две половины: одну разложил на досках, а другою укрылся с головой, как одеялом. Тело его никогда не ощущало большего удобства, однако, значительно превосходя других людей своего рода занятий в склонности к размышлению и созерцанию, он не мог вполне заглушить внутреннюю печаль. Теперешняя страница жизни Габриэля Оука была не из счастливых, и, думая о своих горестях, влюбленный муж в пастушеском облаченье уснул, ведь пастухи, подобно мореплавателям, обладают завидной способностью вызывать Морфея.
Внезапно очнувшись от сна, продолжительность коего была ему неизвестна, Оук почувствовал, что телега движется, причем с внушительной для безрессорной повозки быстротой. Голова его билась о дощатое дно, словно палочка барабанщика о литавры. На передке фургона сидели люди, чей разговор долетал до Габриэля. Будь он человеком преуспевающим, он, возможно, встревожился бы не на шутку, но горести, подобно опию, усыпляют страх. Оук осторожно выглянул наружу и первое, что он увидел, были звезды. Ковш Большой Медведицы указал ему время – около девяти. Значит, спал он часа два. Произведя сие астрономическое исчисление мгновенно и безо всякого усилия, Габриэль тихонько повернулся, дабы увидеть, если удастся, в чьи руки он попал.
Впереди сидели, свесив ноги, двое. Один из них, очевидно возчик, правил. По всей вероятности, они ехали с Кестербриджской ярмарки, как и Оук.
– Что ни говори, а собой она хороша. Впрочем, эти холеные кобылки бывают горды, как черти.
– Твоя правда, Билли Смоллбери, твоя правда.
Последние слова произнес голос, изначальную нетвердость коего усугубила тряска. Принадлежал он тому, кто держал поводья.
– Девица много о себе мнит – всюду люди говорят.
– Вот оно что! Ежели так, я на нее и взглянуть не посмею. Ей-же-ей! Я человек скромный.