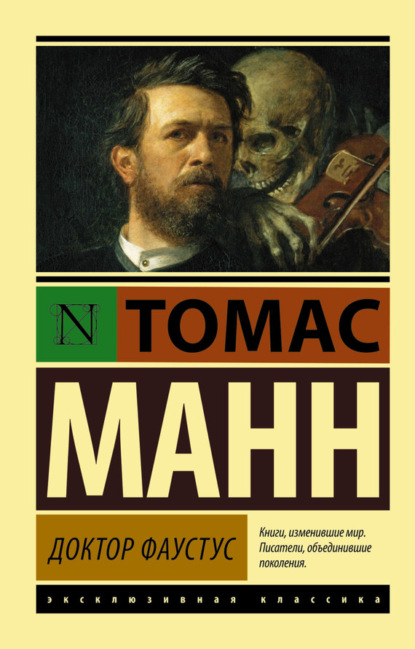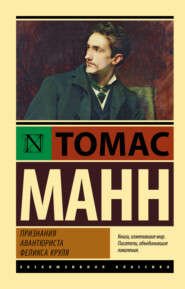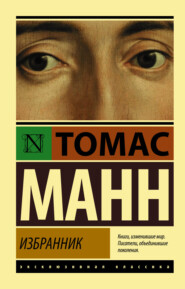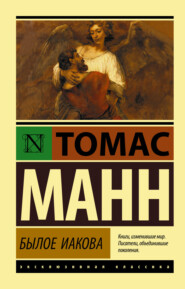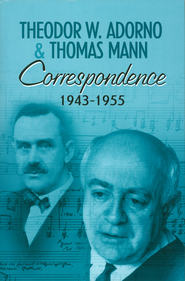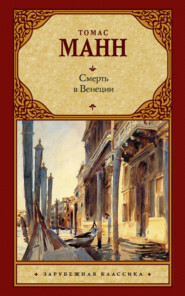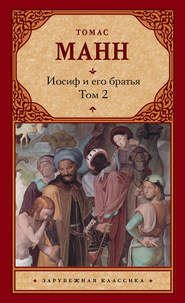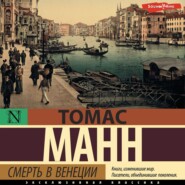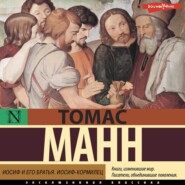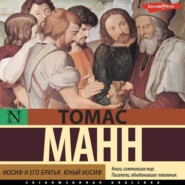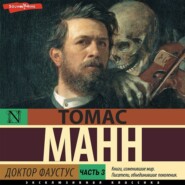По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Доктор Фаустус
Автор
Жанр
Год написания книги
1947
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этих произведениях, добавил оратор, субъективное и условное вступают в новую взаимосвязь – взаимосвязь, обусловленную смертью.
На этом слове Кречмар запнулся. Его язык пулеметным огнем обстреливал нёбо, челюсти и подбородок сотрясались в такт этому огню, пока наконец не обрели покоя в гласной, позволившей угадать, что это за слово. А когда оно уже было узнано, оратор не дал его у себя отнять, не позволил, чтобы, как это нередко бывало, кто-нибудь услужливо и весело крикнул его с места. Он должен был сам выговорить это слово и своего добился. «Там, где сошлись величие и смерть, – пояснил он, – возникает склоняющаяся к условности объективность, более властная, чем даже деспотический субъективизм, ибо если чисто личное является превышением доведенной до высшей точки традиции, то здесь индивидуализм перерастает себя вторично, вступая величавым призраком уже в область мифического, коллективного».
Он не спрашивал, понятно ли нам это, да и мы себя не спрашивали. И если Кречмар почитал главным, чтобы мы это слышали, то и мы держались того же мнения. «В свете вышесказанного, – продолжал он, – и следует рассматривать произведение, о котором мы сегодня преимущественно говорили». Тут он уселся за пианино и на память сыграл всю сонату, ее первую часть и необычайно громоздкую вторую; в исполнение он умудрялся вклинивать свои комментарии и, чтобы обратить наше внимание на построение сонаты, еще и пел с воодушевлением, подчеркивая отдельные моменты, что все вместе являло зрелище столь же увлекательное, сколь и комическое, на которое живо отзывалась наша маленькая аудитория. Так как удар у него был очень сильный и в форте он отчаянно гремел, то ему приходилось кричать изо всей мочи, чтобы его пояснения хоть как-то до нас доходили, и петь, до крайности напрягая голос, ибо он во что бы то ни стало хотел еще и вокально оттенить исполняемое. Ртом он воспроизводил то, что играли руки. «Бум-бум, вум-вум! Тум-тум!» – иллюстрировал Кречмар резкие начальные акценты первой части и высоким фальцетом пел полные мелодической прелести пассажи, которые временами, словно нежные блики света, освещают мрачное грозовое небо этой сонаты. Наконец он сложил руки на коленях, передохнул несколько секунд, сказал: «Сейчас оно будет», – и заиграл вариацию, «Adagio molto semplice e cantabile»[16 - «Адажио очень простое и певучее» (ит.).].
Ариетта, обреченная причудливым судьбам, для которых она в своей идиллической невинности, казалось бы, вовсе не была создана, раскрывается тотчас же, полностью уложившись в шестнадцать тактов и образуя мотив, к концу первой своей половины звучащий точно зов, вырвавшийся из душевных глубин, – всего три звука: одна восьмая, одна шестнадцатая и пунктированная четверть, которые скандируются примерно так: «си?нь-небе?с», «бо?ль любви?» или «бу?дь здоро?в», или «жи?л-да-бы?л», «те?нь дере?в» – вот и все. Как дальше претворяется в ритмикогармонической и контрапунктической чреде этот мягкий возглас, это грустное и тихое звукосочетание, какой благодатью осенил его композитор и на что его обрек, в какие ночи и сияния, в какие кристальные сферы, где одно и то же жар и холод, покой и экстаз, он низверг и вознес его, – это можно назвать грандиозным, чудесным, небывалым и необычайным, так, впрочем, и не назвав все это по имени, ибо поистине оно безыменно! И Кречмар, усердно работая руками, играл нам эти немыслимые пресуществления, пел что было сил: «ди?м-да-да?» – и тут же перебивал свое пение криком: «Непрерывные трели, фиоритуры и каденции! Слышите эту навязчивую условность? Вот-вот… речь… очищается… не от одной только риторики… исчезла ее… субъективность. Видимость искусства отброшена. Искусство в конце концов всегда сбрасывает с себя видимость искусства. Ди?м-да-да?! Прошу внимания, мелодию здесь… перевешивает груз фуги, аккордов: она становится монотонной, статичной! Два ре! Три ре подряд! Это аккорды – ди?м-да-да?! Прошу слушать, что здесь происходит».
Было неописуемо трудно в одно и то же время слушать его выкрики и сложнейшую музыку. Мы сидели напряженные, всем телом подавшись вперед, зажав руки между коленями, и попеременно смотрели ему то на руки, то в рот. Характерно здесь большое отстояние баса от дисканта, правой руки от левой, а потом настает момент, обостренный до крайности, когда кажется, что бедный мотив одиноко, покинуто парит над бездонной, зияющей пропастью, – момент такой возвышенности, что кровь отливает от лица, и за ним по пятам следует боязливое самоуничижение, робкий испуг, испуг перед тем, что могло такое свершиться. Но до конца свершается еще многое. А под конец, в то время как этот конец наступает, в доброе, в нежное самым неожиданным, захватывающим образом врывается мрак, одержимость, упорство. Долго звучавший мотив, который говорит «прости» слушателю и сам становится прощанием, прощальным зовом, кивком, – это ре-соль-соль претерпевает некое изменение, как бы чуть-чуть мелодически расширяется. После начального до он, прежде чем перейти к ре, вбирает в себя до-диез, так что теперь пришлось бы скандировать уже не «си?нь-небе?с» или «бу?дь здоро?в», а «о?, ты си?нь-небе?с!», «бу?дь здоро?в, мой дру?г!», «зе?лен до?льный лу?г!», и нет на свете свершения трогательнее, утешительнее, чем это печально-всепрощающее до-диез. Оно как горестная ласка, как любовное прикосновение к волосам, к щеке, как тихий, глубокий взгляд, последний взгляд в чьи-то глаза. Страшно очеловеченное, оно осеняет крестом всю чудовищно разросшуюся композицию, прижимает ее к груди слушателя для последнего лобзания с такой болью, что глаза наполняются слезами: «по?-за-бу?дь печа?ль!», «Бо?г вели?к и бла?г!», «все? лишь со?н оди?н!», «не? кляни? меня?!». Затем это обрывается. Быстрые, жесткие триоли спешат к заключительной достаточно случайной фразе, которой могла бы окончиться и любая другая пьеса.
На этом слове Кречмар запнулся. Его язык пулеметным огнем обстреливал нёбо, челюсти и подбородок сотрясались в такт этому огню, пока наконец не обрели покоя в гласной, позволившей угадать, что это за слово. А когда оно уже было узнано, оратор не дал его у себя отнять, не позволил, чтобы, как это нередко бывало, кто-нибудь услужливо и весело крикнул его с места. Он должен был сам выговорить это слово и своего добился. «Там, где сошлись величие и смерть, – пояснил он, – возникает склоняющаяся к условности объективность, более властная, чем даже деспотический субъективизм, ибо если чисто личное является превышением доведенной до высшей точки традиции, то здесь индивидуализм перерастает себя вторично, вступая величавым призраком уже в область мифического, коллективного».
Он не спрашивал, понятно ли нам это, да и мы себя не спрашивали. И если Кречмар почитал главным, чтобы мы это слышали, то и мы держались того же мнения. «В свете вышесказанного, – продолжал он, – и следует рассматривать произведение, о котором мы сегодня преимущественно говорили». Тут он уселся за пианино и на память сыграл всю сонату, ее первую часть и необычайно громоздкую вторую; в исполнение он умудрялся вклинивать свои комментарии и, чтобы обратить наше внимание на построение сонаты, еще и пел с воодушевлением, подчеркивая отдельные моменты, что все вместе являло зрелище столь же увлекательное, сколь и комическое, на которое живо отзывалась наша маленькая аудитория. Так как удар у него был очень сильный и в форте он отчаянно гремел, то ему приходилось кричать изо всей мочи, чтобы его пояснения хоть как-то до нас доходили, и петь, до крайности напрягая голос, ибо он во что бы то ни стало хотел еще и вокально оттенить исполняемое. Ртом он воспроизводил то, что играли руки. «Бум-бум, вум-вум! Тум-тум!» – иллюстрировал Кречмар резкие начальные акценты первой части и высоким фальцетом пел полные мелодической прелести пассажи, которые временами, словно нежные блики света, освещают мрачное грозовое небо этой сонаты. Наконец он сложил руки на коленях, передохнул несколько секунд, сказал: «Сейчас оно будет», – и заиграл вариацию, «Adagio molto semplice e cantabile»[16 - «Адажио очень простое и певучее» (ит.).].
Ариетта, обреченная причудливым судьбам, для которых она в своей идиллической невинности, казалось бы, вовсе не была создана, раскрывается тотчас же, полностью уложившись в шестнадцать тактов и образуя мотив, к концу первой своей половины звучащий точно зов, вырвавшийся из душевных глубин, – всего три звука: одна восьмая, одна шестнадцатая и пунктированная четверть, которые скандируются примерно так: «си?нь-небе?с», «бо?ль любви?» или «бу?дь здоро?в», или «жи?л-да-бы?л», «те?нь дере?в» – вот и все. Как дальше претворяется в ритмикогармонической и контрапунктической чреде этот мягкий возглас, это грустное и тихое звукосочетание, какой благодатью осенил его композитор и на что его обрек, в какие ночи и сияния, в какие кристальные сферы, где одно и то же жар и холод, покой и экстаз, он низверг и вознес его, – это можно назвать грандиозным, чудесным, небывалым и необычайным, так, впрочем, и не назвав все это по имени, ибо поистине оно безыменно! И Кречмар, усердно работая руками, играл нам эти немыслимые пресуществления, пел что было сил: «ди?м-да-да?» – и тут же перебивал свое пение криком: «Непрерывные трели, фиоритуры и каденции! Слышите эту навязчивую условность? Вот-вот… речь… очищается… не от одной только риторики… исчезла ее… субъективность. Видимость искусства отброшена. Искусство в конце концов всегда сбрасывает с себя видимость искусства. Ди?м-да-да?! Прошу внимания, мелодию здесь… перевешивает груз фуги, аккордов: она становится монотонной, статичной! Два ре! Три ре подряд! Это аккорды – ди?м-да-да?! Прошу слушать, что здесь происходит».
Было неописуемо трудно в одно и то же время слушать его выкрики и сложнейшую музыку. Мы сидели напряженные, всем телом подавшись вперед, зажав руки между коленями, и попеременно смотрели ему то на руки, то в рот. Характерно здесь большое отстояние баса от дисканта, правой руки от левой, а потом настает момент, обостренный до крайности, когда кажется, что бедный мотив одиноко, покинуто парит над бездонной, зияющей пропастью, – момент такой возвышенности, что кровь отливает от лица, и за ним по пятам следует боязливое самоуничижение, робкий испуг, испуг перед тем, что могло такое свершиться. Но до конца свершается еще многое. А под конец, в то время как этот конец наступает, в доброе, в нежное самым неожиданным, захватывающим образом врывается мрак, одержимость, упорство. Долго звучавший мотив, который говорит «прости» слушателю и сам становится прощанием, прощальным зовом, кивком, – это ре-соль-соль претерпевает некое изменение, как бы чуть-чуть мелодически расширяется. После начального до он, прежде чем перейти к ре, вбирает в себя до-диез, так что теперь пришлось бы скандировать уже не «си?нь-небе?с» или «бу?дь здоро?в», а «о?, ты си?нь-небе?с!», «бу?дь здоро?в, мой дру?г!», «зе?лен до?льный лу?г!», и нет на свете свершения трогательнее, утешительнее, чем это печально-всепрощающее до-диез. Оно как горестная ласка, как любовное прикосновение к волосам, к щеке, как тихий, глубокий взгляд, последний взгляд в чьи-то глаза. Страшно очеловеченное, оно осеняет крестом всю чудовищно разросшуюся композицию, прижимает ее к груди слушателя для последнего лобзания с такой болью, что глаза наполняются слезами: «по?-за-бу?дь печа?ль!», «Бо?г вели?к и бла?г!», «все? лишь со?н оди?н!», «не? кляни? меня?!». Затем это обрывается. Быстрые, жесткие триоли спешат к заключительной достаточно случайной фразе, которой могла бы окончиться и любая другая пьеса.