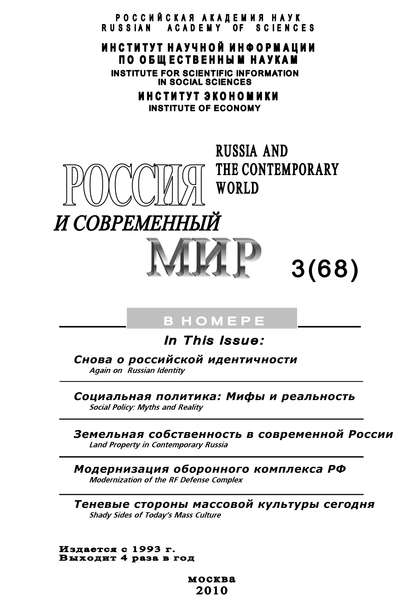По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Россия и современный мир № 3 / 2010
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Россия и современный мир № 3 / 2010
Юрий Иванович Игрицкий
Журнал «Россия и современный мир» #68
Профиль журнала – анализ проблем прошлого, настоящего и будущего России их взаимосвязи с современными глобальными и региональными проблемами. Журнал имеет многоплановый, междисциплинарный характер, публикуя материалы по истории, социологии, философии, политической и экономической наукам. Ключевые рубрики – «Россия и мир в XXI веке» и «Россия вчера, сегодня, завтра».
Юрий Игрицкий
Россия и современный мир № 3 / 2010
РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, ИМПЕРСКОЕ НАСЛЕДИЕ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Д.В. Ефременко
Ефременко Дмитрий Валериевич – доктор политических наук, заведующий отделом ИНИОН РАН
Предлагаемая вниманию читателей статья представляет собой попытку обсудить возможности, риски и перспективы проектной деятельности, объектом которой становится или может стать российское общество. То, что российское общество в принципе поддается социальной инженерии, – факт эмпирический. В России, увы, оказалось возможным ставить самые радикальные социальные эксперименты. Но при этом все инициаторы подобных экспериментов (если, конечно, им удавалось дожить до появления первых значимых результатов их социально-конструктивистской деятельности) обнаруживали, что новые реалии имеют мало общего с первоначальным замыслом. Не ожидает ли та же судьба и нынешний модернизационный проект? Весьма вероятно, что именно так и произойдет. Более того, открытыми остаются общие вопросы о совместимости России и модернизации, о самой возможности российского модерна. Впрочем, на данный момент ясно, что власть предлагает обществу некий проект под названием «модернизация России», смысл которого состоит в коррекции политического курса, продемонстрировавшего низкую эффективность в условиях глобального экономического кризиса.
Недостаточная прорисованность текущего модернизационного проекта связана не только с развертывающейся интригой новой реконфигурации российской власти («проблема 2012»), но и с очевидной незавершенностью становления постсоветской России, причем не столько на уровне институциональном (хотя и здесь едва ли поставлена точка), сколько на уровне национально-государственной идентичности.
Но о каком формировании идентичности идет речь? О квазиэволюционном процессе, лишь отражающем трансформации общества и политической системы, а также внешние вызовы, или же все-таки о конструировании, о проектной деятельности? Долгое время сохранялось впечатление самотека, на который время от времени пытается влиять власть, стремясь направить поток в определенное русло.
Здесь важно понимать: становление постсоветской России – это комплексный процесс, в котором причудливым образом сочетались сознательные усилия, направленные на преодоление или сохранение старого порядка, инертность одних групп общества и нетерпение других, влияние внешних сил, а также события и обстоятельства, свидетельствующие о стихийности исторического развития. На определенном этапе социально-политических трансформаций ход событий обрел неконтролируемый характер. В этих условиях действия важнейших политических и социальных акторов становились вынужденными, реактивными. Позднее, спустя годы, аргумент о вынужденности или безальтернативности действий стал часто использоваться российскими политиками для оправдания решений, принимавшихся ими в конце 1980-х – начале 1990-х годов.
Формирование постсоветской российской идентичности отразило все эти особенности. Но даже при том, что на решающем этапе, а именно в 1990-е, ельцинские, годы, стихийность явно преобладала над конструированием идентичности, неизменным остался ее важнейший ракурс – отношения «государство – общество». Более того, именно дефицит проектной деятельности по «выстраиванию» новой идентичности наиболее явно обнажил то фундаментальное обстоятельство, что общество, как будто бы предоставленное само себе, нуждается во власти, ищет ее.
Так было с самого начала. Уже легенда о призвании варягов дает проекцию последующих двенадцати столетий российской истории: русское общество, осознавая неспособность выработать внутри себя основания устойчивого социального и политического порядка, обращается к той силе, которая способна быть властью и обеспечить искомый порядок. С этого момента и на протяжении веков государственная власть начинает выполнять работу и за себя, и за общество. А в условиях смуты или катастрофы государства, общество в конце концов приходит все к тому же – к необходимости восстановления сильной государственной власти.
Великий русский историк и консервативный мыслитель Н.М. Карамзин охарактеризовал эту властецентристскую парадигму при помощи высокопарного афоризма «Самодержавие – Палладиум России». При этом Карамзин имел в виду не только абсолютную власть российского императора, но прежде всего воплощенное в личности монарха нераздельное государственное начало. Ту же самую мысль, хотя и в критическом духе, высказал В.О. Ключевский применительно к особенностям русского исторического процесса: «Государство пухло – народ хирел». Наиболее убедительным и трагическим образом эта тенденция нашла свое подтверждение в ходе потрясений, постигших Россию в веке ХХ. Но даже и в «постмодернистском» XXI в. повторяется то же самое. Как подчеркивает Ю.С. Пивоваров, «то, что мы видим сегодня, есть не только и не просто “возвращение” к советским временам. Это возвращение вообще. Возвращение к тому, что было всегда, несмотря на множество реформ, поверхностный политический плюрализм и т.п.» (15, с. 15).
Для характеристики того, что происходило с Россией в последние два десятилетия, наиболее удачным будет термин А. Тойнби «уход-и-возврат». Правда, в случае постсоветской России речь будет идти об «уходе-и-возврате» государства. «Уход» государства не следует понимать упрощенно, как свертывание государственных институтов. Эти институты продолжали существовать даже в момент коллапса Советского Союза. Точнее, в это время существовали и противостояли друг другу институты государственной власти СССР и новой России. Когда вечером 25 декабря 1991 г. с кремлевского флагштока был спущен красный флаг с серпом и молотом, государственные институты новой России выступили в качестве технического преемника старой власти. Но на первых порах новая власть всячески акцентировала моменты разрыва с прежним режимом, называя в качестве основных источников своей легитимности лишь альтернативные выборы российского парламента (1990) и президента (1991), а также «августовскую демократическую революцию».
Государство, по сути, давало понять, что оно отныне отказывается играть экзистенциальную, смыслообразующую роль для российского общества. У либеральных реформаторов, безусловно, было намерение радикально преобразовать само общество, но сделать это они стремились не традиционными средствами государственного насилия, а при помощи «невидимой руки рынка». Для этого государству требовалось «уйти» из экономики, а также по возможности сократить свою «сферу ответственности» за социальное обеспечение. Однако, несмотря на внешне инновационные формы «ухода» государства из экономики (ваучеризация, чуть позднее – залоговые аукционы), фактически этот процесс осуществлялся с использованием традиционной машинерии, обеспечивающей перераспределение командных позиций внутри системы власть – собственность. К разрыву неизбывной для России связи между властью и собственностью либеральные реформы начала 1990-х годов не привели. При этом «административный ресурс» и институты государственного принуждения начали использоваться и в целях политической борьбы. Уже в Конституции 1993 г. были заложены все механизмы, обеспечивающие быстрый и зримый «возврат» государства.
«Отцы» нынешней Конституции сделали практически все, чтобы заблокировать формирование новой российской идентичности на основе модели конституционного патриотизма, т.е. совокупности правовых принципов, способных консолидировать политическую нацию (см.: 30). Здесь, конечно, большую роль сыграли исторические обстоятельства принятия Конституции 1993 г. Все-таки это конституция «на крови» (пусть даже и «малой»). И хотя сегодня уже несколько подзабыты аргументы, ставящие под сомнение легитимность результатов референдума 12 декабря 1993 г. (см.: 9, с. 344–349), многие все еще могут припомнить «ценное признание» Г. Бурбулиса, поведовавшего, через что была принята эта конституция[1 - . В академическом издании придется воздержаться от дословного цитирования. Но источник укажем: 20, с. 9.]. Впрочем, более важно то, что наличествующие в российской конституции формулы, которые в правовых государствах объединенной Европы могут быть положены в основу конституционного патриотизма, в нашем случае оказываются лишь ритуальным приложением к существенно иному политико-правовому содержанию. Но именно это содержание обеспечивает функциональность Конституции 1993 г., делает ее в полном смысле российской конституцией. По сути дела, как подчеркивает Ю.С. Пивоваров, нынешняя конституция воспроизводит в современных условиях российскую конституционную константу, восходящую к «Введению к Уложению государственных законов» М.М. Сперанского (16, с. 37). В этой схеме существует разделение властей, но только функциональное, а над «триадой исполнительная / законодательная / судебная власти» возвышается власть как таковая, олицетворением и носителем которой в версии 1993 г. выступает президент (в модификации 2008 г., произведенной без радикального изменения конституции, – тандем президента и премьер-министра).
Деликатность положения российской власти в 1990-е годы выразилась, в частности, в том, что фактически вернувшись в колею Русской системы (17), она все еще не решалась открыто провозгласить самоё себя средоточием национальной идентичности. Вместо этого предпринимались странные действия по созданию комиссии, уполномоченной президентским указом искать национальную идею. По всей видимости, создавая эту комиссию власть отдавала дань инерции идеократических предрассудков (8, с. 200). Комиссия национальную идею не нашла, а вскоре, в августе 1998, власти стало и вовсе не до того.
В итоге, почти все последнее десятилетие XX в. российское общество оставалось без патерналистской опеки со стороны государства. Именно в это время произошли наиболее радикальные социальные изменения, хотя, очевидно, не те, которых ожидали либеральные реформаторы. Для понимания сущности уже происшедших в России перемен чрезвычайно важно осознавать, что в своей совокупности они явились тяжелейшей социальной травмой, обусловленной жизненной дезориентацией, обесцениванием в новых условиях накопленного социального опыта, разрушением привычных смыслов и значений. А «уход» государства стал фактором, предельно усилившим болезненность и радикальность травмирующих перемен.
Идея социальной трансформации как травмы получила разработку в трудах выдающегося польского социолога П. Штомпки, который выделяет следующие фазы травматического состояния.
Во-первых, это предпосылки грядущей травматизации, связанные с нарастанием кризисных явлений в экономике, социальной сфере, культуре, сфере политических отношений. Иначе говоря, речь здесь идет именно о том наборе обстоятельств, в которых М.С. Горбачёву пришлось начинать свою перестройку.
Во-вторых, это сами травматические события, ощущение того, что их ход вышел из-под контроля власти или осознание того, что власть оставляет общество и конкретного индивида один на один с новыми вызовами. Впрочем, травматические ощущения не облегчаются и в том случае, если индивид ощущает себя объектом продуманных манипуляций со стороны власть предержащих.
В-третьих, вслед за утратой социального статуса мощным травмирующим фактором становится утрата жизненных идеалов и ориентиров. Таким образом, социально-экономические испытания обретают духовно-нравственное и социально-психологическое измерение.
В-четвертых, симптомами и последствиями травмы становится изменение образцов социального поведения. К их числу, например, можно отнести примирение большинства с такой социальной язвой, как коррупция, ее вынужденное принятие в качестве новой системы координат социальных отношений и участие в ней.
В-пятых, это активная и пассивная посттравматическая адаптация (стремление преодолеть трудности либо примирение с ними).
В-шестых, преодоление травматического состояния происходит в условиях политической и экономической стабилизации, и дальнейшее укрепление стабильности служит подтверждением успешного преодоления социальной травмы (23, с. 6–16).
Впрочем, надо понимать, что «остаточные боли» еще долго будут мучить российское общество. Кроме того, в случае России речь должна идти не только о травме реформ 1990-х годов, но и об общей травме потрясений всего XX в., когда были уничтожены либо претерпели радикальную ломку многие социальные слои и группы российского социума. Это уже является глубокой травмой исторической памяти.
Социологические опросы, проводившиеся в 1996–2002 гг. сотрудниками Института сравнительной политологии РАН, демонстрировали, что конституирующую роль в формировании социального порядка играют такие категории, как выгода, успех, право сильного, тогда как закон, права человека, уважение к чужому мнению в глазах большинства опрошенных не имеют большого значения (14, с. 15). Постсоветская социальная трансформация, еще более усиленная политикой государства и информационным мэйнстримом, привела к возникновению нового социума, в котором доминируют ставка на силу и эгоистический интерес при минимизации сотрудничества с другими социальными акторами. Но те же самые опросы показали, что социально востребованными остаются ценности морали, равенства, труда, семьи и традиции. По сути дела, расчеты либеральных реформаторов на то, что ценности свободы автоматически разовьются в условиях неконтролируемой игры рыночных сил и сокращения роли государства в экономической жизни, оказались перечеркнуты. Сама интерпретация свободы сузилась до представлений об экономической свободе.
Институциональный порядок, установившийся к концу 1990-х годов, не ставился под сомнение в смысле его конституционной законности. Однако большинство опрошенных фактически усомнились в его социальной легитимности, поскольку, по их мнению, этот порядок был ориентирован на защиту прав и интересов меньшинства, несправедлив, нестабилен и в любом случае крайне далек от социального идеала. Можно сказать, что к началу «эпохи Путина» значительная часть граждан России была готова к трансформации институционального порядка, которая в большей степени соответствовала бы их ценностным ориентациям.
В конце концов, это должно было привести к развилке между формальными, не сумевшими обрести в 1990-е годы реального наполнения институтами, импортированными извне (многопартийность, разделение властей, выборность должностных лиц на всех уровнях власти и т.д.) и квинтэссенцией российской политической культуры – государственным патернализмом. Либо названные институты должны были заработать таким образом, чтобы покончить с традиционным для России «властецентризмом», либо, напротив, сами эти институты должны были стать орудиями, обеспечивающими в новых условиях воспроизводство все той же государственной парадигмы. Вышло так, что российская власть при Б.Н. Ельцине, при всей ее демократической фразеологии, провела основную работу по воспроизводству Русской системы в новом институциональном дизайне. То, что делалось затем при В.В. Путине, стало лишь завершением этого процесса.
Период экономического подъема, на который пришлись два срока президентства Путина, принято объяснять благоприятным сочетанием ряда обстоятельств, в числе которых – удешевление стоимости рабочей силы и продукции отечественного производства в первые годы после дефолта, а затем непрерывный рост цен на энергоносители. Спорить с этим объяснением не приходится, но оно тем не менее не является исчерпывающим. В «истории успеха» Путина присутствовал и компонент политического мастерства, заключавшийся в способности второго президента России максимизировать действие благоприятных для развития страны и для его собственного режима факторов и ограничить действие неблагоприятных. Главным же было то, что режим Путина пошел навстречу запросу уставшего от перемен общества, обеспечив долгожданную стабильность. Социальные и экономические изменения не остановились, но они вернулись в знакомую и понятную обществу государственническую колею. Россия вновь оказалась в привычной для нее системе координат.
Однако именно «возврат» государства и путинская стабилизация показали, насколько значительны и фундаментальны перемены, происшедшие с Россией в 1990-е годы. Государство вернулось, но действует оно в иной социальной реальности и в принципиально новом внешнем окружении. Что же касается постсоветской российской идентичности, то государство в лице путинского режима обнаружило, что за десять лет уже возникла некая протоидентичность и с ней требуется что-то делать. При этом следует подчеркнуть, что решающая роль государства в формировании национально-государственной идентичности не является чем-то уникальным, характерным только для России (см.: 3, с. 139–140).
Первым конструктивистским действием на этом направлении стало решение вопроса о государственной символике. Предложенное Путиным решение поначалу показалось многим критикам механическим соединением несоединимого – радующего традиционалистов византийского двуглавого орла, угодного либералам петровского триколора, и ласкающей слух коммунистов мелодии сталинского гимна. Но вскоре обнаружилось, что все «срослось», что эклектичный синтез принят почти всеми и даже весьма востребован одной из самых массовых групп – спортивными болельщиками. И, разумеется, сам синтез символов был символичен, указывая на волю власти не к дистанцированию от прошлого, но к подчеркиванию преемственности в отношении всех периодов истории российской и советской государственности.
Идеологическим оформлением «возврата» государства стала концепция суверенной демократии. Ее создатель В.Ю. Сурков в последние годы предлагал несколько определений суверенной демократии, различающихся в своих нюансах. Первое из них, озвученное Сурковым в феврале 2006 г. в выступлении перед активом «Единой России», таково: суверенная демократия – это «образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами, ее образующими» (21). В данном определении постулируется наличие российской нации, хотя, скорее, именно идея суверенной демократии является очередным и на сегодня наиболее значимым усилием власти по конституированию этой самой нации. Точнее, при помощи идеи суверенной демократии власть очерчивает те рамки, в которых сегодня российскую нацию можно вообразить.
Охранительная суть концепции суверенной демократии сомнений не вызывает. Но из этого не следует, что аргументацию в пользу идеи суверенной демократии можно игнорировать или что эта концепция методологически ошибочна. Критики Суркова нередко воспроизводят замечание Путина на встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» (сентябрь 2007 г.) о том, что нельзя соединять понятия суверенитета и демократии, одно из которых характеризует внешние отношения, а другое – внутреннее политическое устройство (18, с. 121). Но здесь, в частности, можно вспомнить, что незадолго до провозглашения у нас доктрины суверенной демократии З. Бжезинский (а в западном политологическом сообществе не найдется более сильного раздражителя для российских идеологов власти, чем этот ветеран «холодной войны») опубликовал статью «Дилемма последнего суверена» (ее русский перевод озаглавлен «Последний суверен на распутье»). Очевидно, что в России наибольшее внимание привлекла не столько критика Бжезинским бушевской версии американского унилатерализма, сколько концепция иерархии суверенитетов, на вершине которой находятся, разумеется, США. В версии Бжезинского вторжение в Ирак или отказ от Киотского протокола демонстрируют уникальность Америки как последнего подлинно суверенного государства. Суверенитет США рассматривается Бжезинским как ключ к решению глобальных проблем: «Слабость формально независимых государств, которые на самом деле становятся все более зависимыми или даже неспособными к автономному существованию, должна быть компенсирована за счет укрепления наднационального сотрудничества, активно продвигаемого Соединенными Штатами. …Америка должна задавать тон в построении такого мира, который бы в меньшей степени уповал на химеру государственного суверенитета и в большей – ориентировался на неуклонно возрастающую и политически регулируемую взаимозависимость. Поскольку глобализация не только несет с собой новый взгляд на экономические проблемы, но и все глубже трансформирует политические отношения, американский суверенитет, поставленный на службу общему благу, вызовет, по всей видимости, более весомое и стойкое одобрение в мире, нежели нынешняя всепоглощенность Америки собственной безопасностью» (2, с. 23). Ситуация с «более весомым и стойким одобрением» за прошедшие пять лет в основном прояснилась; куда важнее сам принцип. Даже если абсорбция последним сувереном чужого суверенитета и в самом деле где-то происходит с одобрения его прежних носителей, то насколько это одобрение легитимно? Если демократию понимать как право нации через механизм свободных выборов делегировать кому-либо из своих граждан полномочия принимать решения, касающиеся интересов данной нации, то как совместимо такое понимание демократии с глобальными полномочиями последнего суверена? Ведь центр принятия многих важных решений оказывается за пределами соответствующей политики. А это значит, что расставание с «химерой суверенитета» равносильно эрозии демократии. Отчасти такая эрозия, или – если применять более мягкое выражение – «трансформация» демократии происходит по объективным причинам, связанным с процессами интернационализации и глобализации (5, с. 484–485), но в данном случае, во-первых, десуверенизация возводится в нормативный принцип, и, во-вторых, вместо дисперсии суверенитета предлагается его абсорбция в едином центре.
Аналогичные сомнения высказывают и евроскептики, считающие пагубным делегирование все большей доли суверенитета национальных государств наднациональным институтам Евросоюза. Например, Ральф Дарендорф отмечает: «Конституции конституируют права. Права есть юридические гарантии. Это не просто пустые обещания и красивые слова. …Права делают необходимым создание аппарата принуждения, или санкционирующих инстанций. Все три классических власти находят здесь свое место. Но эти власти существуют в совершенной форме только в национальном государстве. Тот, кто отказывается от национального государства, теряет вместе с этим эффективные гарантии своих основных прав. Тот, кто сегодня национальное государство считает излишним, объявляет вместе с этим – быть может даже непреднамеренно – излишними гражданские права» (26, с. 109).
Вообще говоря, и сэр Ральф Дарендорф, и высокопоставленный российский чиновник Владислав Сурков, защищая суверенитет, отстаивают принципы демократии. Только в случае Суркова речь идет совсем не о либеральной демократии. Здесь важно понимать, что неолиберальная демократия в России – это не какое-то новообразование, воспроизводящее (как предполагает Ф. Закария) (6, с. 90) опыт латиномериканских режимов 1960–1970 гг., а очередная реинкарнация Русской системы, вновь вызванная к жизни отнюдь не вопреки воле большинства российских избирателей.
Итак, болезненная адаптация общества к новой реальности, «возврат» государства (и по существу, и на символическом уровне), усилия власти по разработке политической идеологии – не является ли все это ингредиентами постсоветской национально-государственной идентичности? Несомненно, да, но набор необходимых ингредиентов все еще не полон. Требуются более общие и устойчивые ценностно-нормативные основания, развернутые как в прошлое, так и в будущее. И прежде всего речь здесь идет о традициях как факторе национального сплочения. Суть проблемы, перефразировав Ленина, блестяще сформулировал А.Б. Гофман: от какого наследства мы не отказываемся? По его словам, «в современной России ситуация с традициями и инновациями, их взаимодействием, отношением к ним со стороны интеллектуалов и власти отличается чрезвычайной неопределенностью, многозначностью, амбивалентностью, синкретизмом» (4, с. 50). Основная сложность состоит в том, что современная Россия – это не страна без традиций, а, скорее, страна с обрывками традиций. Любое обращение к традиции в современных условиях – это новая сборка, конструктивистское действие. Упомянутые выше усилия путинской команды по утверждению государственной символики постсоветской России как раз являются примером такого рода конструктивизма, причем вполне успешного. Очевидно, что сегодня имеются довольно широкие (но не безграничные!) возможности комбинаторики традиций и инноваций, собственного и заимствованного опыта. Например, усилие В. Суркова провозгласить новую синкретическую ценностную триаду в составе материального успеха, свободы и справедливости можно рассматривать как попытку воспользоваться существующими разрывами культурной традиции (см.: 11).
Здесь будет уместно вспомнить старую, но продолжающую действовать формулу нации Эрнеста Ренана: «Нация – это душа, духовный принцип. Две вещи, которые в действительности являются лишь одной, создают эту душу, этот духовный принцип. Одна относится к прошлому, другая – к настоящему. Одна является совместным обладанием богатым наследием воспоминаний, другая есть актуальное согласие, желание жить вместе, воля продолжать пользоваться доставшимся неразделенным наследством» (29, с. 46). Надо полагать, что теперь, по первой части этой формулы, нужно решать более сложную задачу, а именно: как-то распорядиться «богатым наследием воспоминаний». Показательно, что российская власть и при Ельцине, и при Путине очень долго не решалась подступиться к этой задаче. Споры об истории были частью общественной дискуссии, но на уровне официальной риторики подавались (и подаются до сих пор) довольно противоречивые сигналы. Но в последнее время, во многом в связи с системными усилиями представителей политической и интеллектуальной элит стран Балто-Черноморского региона по конструированию желательной для них версии исторического прошлого российская власть стала втягиваться в «историческую политику». И, похоже, втягиваться всерьез и надолго. Вполне вероятно, что решив первоочередные задачи и создав иллюзию адекватного ответа центрально– и восточноевропейским «фальсификаторам», наша историческая политика перейдет в стадию целенаправленной инвентаризации и комплексной реинтерпретации «богатого наследия воспоминаний». Так что, говоря словами Люсьена Февра, самые ожесточенные combats pour l'histoire нам еще предстоят.
Не имея возможности (да, похоже, и желания) формировать постсоветскую национально-государственную идентичность на основе конституционного патриотизма, российская власть будет вынуждена подводить под нее культурно-исторический базис. Но конкретные параметры этого действия будут всецело определяться второй частью формулы Ренана. Скажем, чтобы закрепить «желание жить вместе», может потребоваться апелляция к идеям славяно-тюркского симбиоза, создание прагматической версии евразийства, включающей реабилитацию ордынского периода нашей истории (кстати, такое развитие событий пришлось бы по душе многим украинским энтузиастам исторической политики).
Формирование современной российской идентичности на культурно-исторических основаниях неизбежно связано с образом значимого Другого[2 - . Перенос этого термина из лексикона социальной психологии в российский политологический дискурс весьма успешно осуществлен О.Ю. Малиновой (см.: 12).]. Формирование идентичности как притяжение к значимому Другому или отталкивание от него является способом редукции неопределенности, т.е. технологически менее сложным и потому весьма распространенным вариантом нациестроительства. Например, для современного Европейского союза (если говорить о европейской идентичности) на роль значимого Другого могут претендовать США, внешний (а в подтексте – внутренний) ислам и Россия вместе с прилегающим к ЕС постсоветским (буферным) пространством. Для самой России долгое время никакой альтернативы не было – только Запад, который по мере надобности может представать и в образе гегемонистской Америки, и в облике умиротворенной Европы. И даже у Суркова в «Параграфах pro суверенную демократию» присутствует все та же безальтернативность: «Не выпасть из Европы, держаться Запада – существенный элемент конструирования России» (21).
Но теперь ситуация иная. Ведь кажется, что и Бжезинский с «последним сувереном», и Сурков с «суверенной демократией» – это даже не «вчера», а «чуть ранее сегодня». А между тем безальтернативность Запада – и как значимого Другого для России, и как лидера цивилизационного развития, – исчезает на глазах. Сдвиг происходит настолько фундаментальный, что даже обозначившиеся признаки заката американской глобальной гегемонии выглядят всего лишь частным его проявлением. На кону стоит нечто большее. Несколько успокаивающий термин Фарида Закарии «подъем остальных» (7) на деле означает, что 500-летний «момент однополярности»[3 - . Воспользуемся здесь метафорой одного из идеологов американского неоконсерватизма Ч. Краутхаммера, который писал об исторически длительной, но все-таки преходящей эпохе глобального американского доминирования (28).] европейской (западной) цивилизации близится к завершению. И здесь Россия обнаруживает, что у нее есть выбор, что альтернативой заповеди «держаться Запада» является шанс поучаствовать в «подъеме остальных». Можно сказать и резче: Россия слишком долго пребывала на периферии западной цивилизации, чтобы теперь, на излете ее доминирования, присоединяться к ней и делить ответственность за все ее грехи. В конце концов, у России слишком много своих собственных грехов.
Фарид Закария безусловно прав, говоря об общем подъеме незападных стран. Но все взгляды устремлены на Китай, и у России есть для этого свои особые причины. Именно в лице Китая Россия обрела второго значимого Другого. Предвиделось это давно. Еще Константин Леонтьев в «Записках отшельника» предрекал: «Россия может погибнуть только двояким путем – или с Востока от меча пробужденных китайцев, или путем добровольного слияния с общеевропейской республиканской федерацией» (10, с. 445). Правда, более чем за столетие Россия демонстрировала и возможность третьего пути – самоликвидации, тогда как «угроза» Китая почти все это время оставалась «спящей». Сейчас, когда Китай «пробудился», рассуждения об угрозе могут быть более опасны, чем сама «угроза». В подъеме Китая следует видеть не угрозу России, а риск, т.е. ситуацию, в которой возможен как проигрыш, так и выигрыш. Причем тактический выигрыш для российского политического режима уже очевиден. Прежде всего, он состоит в том, что сопоставление исторического опыта двух стран дает дополнительные аргументы в пользу «возврата» государства: путь Дэн Сяопина был правилен, путь Горбачёва – ложен; сильно (скорее всего – безнадежно) отстав от восточного соседа, Россия возвращается на правильный путь. При этом достижения Китая меняют и шкалу политических ценностей, поскольку успех и эффективность перестают отождествляться с либеральной демократией.
Тактический выигрыш для российской власти от подъема Китая связан и с тем, что сближение с «красным драконом» в рамках двустороннего партнерства или многосторонних форматов ШОС и БРИК, позволяет временно «заимствовать» политический капитал Пекина в непростых взаимоотношениях с Вашингтоном и Брюсселем. Впрочем, даже и это не главное. Свидетельством тому служит быстрый переход российских руководителей от гордости за почти полноправное членство (надолго ли?) в западном клубе G8 к энтузиазму соучредителя клуба новых лидеров глобального экономического роста – БРИК. Оставаясь преимущественно виртуальным объединением, БРИК начинает продуцировать и консолидировать нормативную власть. Нормативное послание БРИК состоит не только в отстаивании вестфальских принципов суверенитета, стремлении к многополярности и демонтажу Вашингтонского консенсуса, но в принципиальном признании плюрализма ценностей, культурных ориентаций и моделей политического устройства. В сущности, нормативное послание БРИК есть не что иное, как перевод концепции множественности модернов Ш. Эйзенштадта (27) на язык глобальной политики. При этом устойчивость всей конструкции БРИК может быть обеспечена только благодаря предельно широкому и гибкому толкованию демократии и прав человека. В свою очередь данная ситуация оказывает влияние на формирование российской национально-государственной идентичности, поскольку существенно снижается внешнее давление, побуждающее к освоению вполне определенного набора политических принципов, институтов и практик.
Если говорить об изменениях последних пяти лет, то за это время у России почти появился и третий значимый Другой – региональный. Речь, разумеется, идет об Украине. Не секрет, что концепция суверенной демократии явилась в числе прочего и идеологическим ответом на вызов украинской «оранжевой революции». Сегодня, после поражения на президентских выборах лидеров майдана и политического реванша Виктора Януковича, можно сказать, что дестабилизирующий потенциал «оранжевой революции» в Москве систематически переоценивался. Тем не менее Украина настолько преуспела в позиционировании себя как «не-России» (во многих случаях явно во вред самой себе), что и в российском политическом классе стала расти популярность констатации «Мы – не Украина». Относительно свежий пример – заявление В. Путина о необходимости избежать «украинизации» нашей политической жизни (19).
Казус Украины, необходимость определять свое отношение к ней как к независимой стране, как к другому высвечивает и самую важную российскую дилемму, заключающуюся в том, что Россия сегодня – это и остаточная империя, и разделенная, но при этом еще окончательно не сформировавшаяся нация. Несомненно, что в типологии империй Россия (Советский Союз) занимает особую нишу. В контексте данной статьи более важно не это своеобразие, а то, что имперская миссия была (остается?) очень сильным фактором, сдерживающим формирование идентичности, характерной для нации-государства. Разумеется, в империях этот процесс не был полностью блокирован. Как пишет Б. Андерсон, в эпоху капитализма, скептицизма и науки «Романовы открыли, что они великороссы, Ганноверы – что они англичане, Гогенцоллерны – что они немцы …» (1, с. 107). Однако бремя мультиэтнической империи имело немалую цену для того этноса, который должен ее цементировать. Может быть, именно поэтому после распада СССР на арену большой политики так и не вышел русский ирредентизм. Что касается российской власти, то и при Ельцине, и при Путине, и при Путине–Медведеве она инстинктивно чувствует опасность такого варианта ухода от имперскости, при котором альтернативой станет мощный подъем этнонационализма. Вернувшееся домой государство, совсем не заинтересовано в том, чтобы оказаться инструментом охваченного националистическими страстями общества. Русская система – это властецентризм, а не этноцентризм.
Возродить большую империю невозможно. Для этого нет ресурсов, равно как и политической воли. Но и совсем перестать быть империей при таком этническом и территориальном составе тоже не получается. Пытаться покончить с «бременем империи» через отождествление самого крупного этноса с государством самоубийственно (по крайней мере, для государства). Подобное отождествление станет, по всей видимости, триггером ирредентизма русских и сепаратизма других российских этносов. Остается движение в направлении нации-государства, или российской нации. В.А. Тишков, внесший важнейший вклад в разработку идеи российской нации, мыслит ее как гражданскую многонациональную общность, т.е. в духе конституционного патриотизма: «Всеми доступными методами нам нужно решительно утверждать российский[4 - . Курсив мой. – Д.Е.] национализм, имея в виду осознание и отстаивание национального суверенитета и интересов страны, укрепление национальной идентичности российского народа, утверждение безоговорочного приоритета самого понятия “российский народ”. Всякие другие варианты национализма на основе этнических крайностей несостоятельны и должны быть отвергнуты» (22, с. 196).
Соглашаясь с В.А. Тишковым по существу, хотелось бы все же подчеркнуть, что решительное использование «всех доступных методов» весьма рискованно, если речь идет о прокладке курса между Сциллой имперскости и Харибдой этнонационализма. Скорее, это все же лавирование, череда паллиативных мер и компромиссов. Не все, что кажется доступным для конструирования идентичности российской нации, следует непременно использовать. Кроме того, если модель конституционного патриотизма до конца не срабатывает даже в рамках наднационального европейского проекта, то у нас ее эффективность без подкрепления историко-культурными аргументами окажется еще меньшей. Формирование российской идентичности без обращения к «богатому наследию воспоминаний» и без культуралистского обоснования «желания жить вместе», по всей видимости, невозможно. Однако подход к решению этой задачи, в сущности, должен быть тем же, что и в случае космополитического проекта переизобретения Европы (У. Бек, Э. Гранд): толерантная к различиям интеграция и совместимая с интеграцией дифференциация (24; 25).
Юрий Иванович Игрицкий
Журнал «Россия и современный мир» #68
Профиль журнала – анализ проблем прошлого, настоящего и будущего России их взаимосвязи с современными глобальными и региональными проблемами. Журнал имеет многоплановый, междисциплинарный характер, публикуя материалы по истории, социологии, философии, политической и экономической наукам. Ключевые рубрики – «Россия и мир в XXI веке» и «Россия вчера, сегодня, завтра».
Юрий Игрицкий
Россия и современный мир № 3 / 2010
РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, ИМПЕРСКОЕ НАСЛЕДИЕ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Д.В. Ефременко
Ефременко Дмитрий Валериевич – доктор политических наук, заведующий отделом ИНИОН РАН
Предлагаемая вниманию читателей статья представляет собой попытку обсудить возможности, риски и перспективы проектной деятельности, объектом которой становится или может стать российское общество. То, что российское общество в принципе поддается социальной инженерии, – факт эмпирический. В России, увы, оказалось возможным ставить самые радикальные социальные эксперименты. Но при этом все инициаторы подобных экспериментов (если, конечно, им удавалось дожить до появления первых значимых результатов их социально-конструктивистской деятельности) обнаруживали, что новые реалии имеют мало общего с первоначальным замыслом. Не ожидает ли та же судьба и нынешний модернизационный проект? Весьма вероятно, что именно так и произойдет. Более того, открытыми остаются общие вопросы о совместимости России и модернизации, о самой возможности российского модерна. Впрочем, на данный момент ясно, что власть предлагает обществу некий проект под названием «модернизация России», смысл которого состоит в коррекции политического курса, продемонстрировавшего низкую эффективность в условиях глобального экономического кризиса.
Недостаточная прорисованность текущего модернизационного проекта связана не только с развертывающейся интригой новой реконфигурации российской власти («проблема 2012»), но и с очевидной незавершенностью становления постсоветской России, причем не столько на уровне институциональном (хотя и здесь едва ли поставлена точка), сколько на уровне национально-государственной идентичности.
Но о каком формировании идентичности идет речь? О квазиэволюционном процессе, лишь отражающем трансформации общества и политической системы, а также внешние вызовы, или же все-таки о конструировании, о проектной деятельности? Долгое время сохранялось впечатление самотека, на который время от времени пытается влиять власть, стремясь направить поток в определенное русло.
Здесь важно понимать: становление постсоветской России – это комплексный процесс, в котором причудливым образом сочетались сознательные усилия, направленные на преодоление или сохранение старого порядка, инертность одних групп общества и нетерпение других, влияние внешних сил, а также события и обстоятельства, свидетельствующие о стихийности исторического развития. На определенном этапе социально-политических трансформаций ход событий обрел неконтролируемый характер. В этих условиях действия важнейших политических и социальных акторов становились вынужденными, реактивными. Позднее, спустя годы, аргумент о вынужденности или безальтернативности действий стал часто использоваться российскими политиками для оправдания решений, принимавшихся ими в конце 1980-х – начале 1990-х годов.
Формирование постсоветской российской идентичности отразило все эти особенности. Но даже при том, что на решающем этапе, а именно в 1990-е, ельцинские, годы, стихийность явно преобладала над конструированием идентичности, неизменным остался ее важнейший ракурс – отношения «государство – общество». Более того, именно дефицит проектной деятельности по «выстраиванию» новой идентичности наиболее явно обнажил то фундаментальное обстоятельство, что общество, как будто бы предоставленное само себе, нуждается во власти, ищет ее.
Так было с самого начала. Уже легенда о призвании варягов дает проекцию последующих двенадцати столетий российской истории: русское общество, осознавая неспособность выработать внутри себя основания устойчивого социального и политического порядка, обращается к той силе, которая способна быть властью и обеспечить искомый порядок. С этого момента и на протяжении веков государственная власть начинает выполнять работу и за себя, и за общество. А в условиях смуты или катастрофы государства, общество в конце концов приходит все к тому же – к необходимости восстановления сильной государственной власти.
Великий русский историк и консервативный мыслитель Н.М. Карамзин охарактеризовал эту властецентристскую парадигму при помощи высокопарного афоризма «Самодержавие – Палладиум России». При этом Карамзин имел в виду не только абсолютную власть российского императора, но прежде всего воплощенное в личности монарха нераздельное государственное начало. Ту же самую мысль, хотя и в критическом духе, высказал В.О. Ключевский применительно к особенностям русского исторического процесса: «Государство пухло – народ хирел». Наиболее убедительным и трагическим образом эта тенденция нашла свое подтверждение в ходе потрясений, постигших Россию в веке ХХ. Но даже и в «постмодернистском» XXI в. повторяется то же самое. Как подчеркивает Ю.С. Пивоваров, «то, что мы видим сегодня, есть не только и не просто “возвращение” к советским временам. Это возвращение вообще. Возвращение к тому, что было всегда, несмотря на множество реформ, поверхностный политический плюрализм и т.п.» (15, с. 15).
Для характеристики того, что происходило с Россией в последние два десятилетия, наиболее удачным будет термин А. Тойнби «уход-и-возврат». Правда, в случае постсоветской России речь будет идти об «уходе-и-возврате» государства. «Уход» государства не следует понимать упрощенно, как свертывание государственных институтов. Эти институты продолжали существовать даже в момент коллапса Советского Союза. Точнее, в это время существовали и противостояли друг другу институты государственной власти СССР и новой России. Когда вечером 25 декабря 1991 г. с кремлевского флагштока был спущен красный флаг с серпом и молотом, государственные институты новой России выступили в качестве технического преемника старой власти. Но на первых порах новая власть всячески акцентировала моменты разрыва с прежним режимом, называя в качестве основных источников своей легитимности лишь альтернативные выборы российского парламента (1990) и президента (1991), а также «августовскую демократическую революцию».
Государство, по сути, давало понять, что оно отныне отказывается играть экзистенциальную, смыслообразующую роль для российского общества. У либеральных реформаторов, безусловно, было намерение радикально преобразовать само общество, но сделать это они стремились не традиционными средствами государственного насилия, а при помощи «невидимой руки рынка». Для этого государству требовалось «уйти» из экономики, а также по возможности сократить свою «сферу ответственности» за социальное обеспечение. Однако, несмотря на внешне инновационные формы «ухода» государства из экономики (ваучеризация, чуть позднее – залоговые аукционы), фактически этот процесс осуществлялся с использованием традиционной машинерии, обеспечивающей перераспределение командных позиций внутри системы власть – собственность. К разрыву неизбывной для России связи между властью и собственностью либеральные реформы начала 1990-х годов не привели. При этом «административный ресурс» и институты государственного принуждения начали использоваться и в целях политической борьбы. Уже в Конституции 1993 г. были заложены все механизмы, обеспечивающие быстрый и зримый «возврат» государства.
«Отцы» нынешней Конституции сделали практически все, чтобы заблокировать формирование новой российской идентичности на основе модели конституционного патриотизма, т.е. совокупности правовых принципов, способных консолидировать политическую нацию (см.: 30). Здесь, конечно, большую роль сыграли исторические обстоятельства принятия Конституции 1993 г. Все-таки это конституция «на крови» (пусть даже и «малой»). И хотя сегодня уже несколько подзабыты аргументы, ставящие под сомнение легитимность результатов референдума 12 декабря 1993 г. (см.: 9, с. 344–349), многие все еще могут припомнить «ценное признание» Г. Бурбулиса, поведовавшего, через что была принята эта конституция[1 - . В академическом издании придется воздержаться от дословного цитирования. Но источник укажем: 20, с. 9.]. Впрочем, более важно то, что наличествующие в российской конституции формулы, которые в правовых государствах объединенной Европы могут быть положены в основу конституционного патриотизма, в нашем случае оказываются лишь ритуальным приложением к существенно иному политико-правовому содержанию. Но именно это содержание обеспечивает функциональность Конституции 1993 г., делает ее в полном смысле российской конституцией. По сути дела, как подчеркивает Ю.С. Пивоваров, нынешняя конституция воспроизводит в современных условиях российскую конституционную константу, восходящую к «Введению к Уложению государственных законов» М.М. Сперанского (16, с. 37). В этой схеме существует разделение властей, но только функциональное, а над «триадой исполнительная / законодательная / судебная власти» возвышается власть как таковая, олицетворением и носителем которой в версии 1993 г. выступает президент (в модификации 2008 г., произведенной без радикального изменения конституции, – тандем президента и премьер-министра).
Деликатность положения российской власти в 1990-е годы выразилась, в частности, в том, что фактически вернувшись в колею Русской системы (17), она все еще не решалась открыто провозгласить самоё себя средоточием национальной идентичности. Вместо этого предпринимались странные действия по созданию комиссии, уполномоченной президентским указом искать национальную идею. По всей видимости, создавая эту комиссию власть отдавала дань инерции идеократических предрассудков (8, с. 200). Комиссия национальную идею не нашла, а вскоре, в августе 1998, власти стало и вовсе не до того.
В итоге, почти все последнее десятилетие XX в. российское общество оставалось без патерналистской опеки со стороны государства. Именно в это время произошли наиболее радикальные социальные изменения, хотя, очевидно, не те, которых ожидали либеральные реформаторы. Для понимания сущности уже происшедших в России перемен чрезвычайно важно осознавать, что в своей совокупности они явились тяжелейшей социальной травмой, обусловленной жизненной дезориентацией, обесцениванием в новых условиях накопленного социального опыта, разрушением привычных смыслов и значений. А «уход» государства стал фактором, предельно усилившим болезненность и радикальность травмирующих перемен.
Идея социальной трансформации как травмы получила разработку в трудах выдающегося польского социолога П. Штомпки, который выделяет следующие фазы травматического состояния.
Во-первых, это предпосылки грядущей травматизации, связанные с нарастанием кризисных явлений в экономике, социальной сфере, культуре, сфере политических отношений. Иначе говоря, речь здесь идет именно о том наборе обстоятельств, в которых М.С. Горбачёву пришлось начинать свою перестройку.
Во-вторых, это сами травматические события, ощущение того, что их ход вышел из-под контроля власти или осознание того, что власть оставляет общество и конкретного индивида один на один с новыми вызовами. Впрочем, травматические ощущения не облегчаются и в том случае, если индивид ощущает себя объектом продуманных манипуляций со стороны власть предержащих.
В-третьих, вслед за утратой социального статуса мощным травмирующим фактором становится утрата жизненных идеалов и ориентиров. Таким образом, социально-экономические испытания обретают духовно-нравственное и социально-психологическое измерение.
В-четвертых, симптомами и последствиями травмы становится изменение образцов социального поведения. К их числу, например, можно отнести примирение большинства с такой социальной язвой, как коррупция, ее вынужденное принятие в качестве новой системы координат социальных отношений и участие в ней.
В-пятых, это активная и пассивная посттравматическая адаптация (стремление преодолеть трудности либо примирение с ними).
В-шестых, преодоление травматического состояния происходит в условиях политической и экономической стабилизации, и дальнейшее укрепление стабильности служит подтверждением успешного преодоления социальной травмы (23, с. 6–16).
Впрочем, надо понимать, что «остаточные боли» еще долго будут мучить российское общество. Кроме того, в случае России речь должна идти не только о травме реформ 1990-х годов, но и об общей травме потрясений всего XX в., когда были уничтожены либо претерпели радикальную ломку многие социальные слои и группы российского социума. Это уже является глубокой травмой исторической памяти.
Социологические опросы, проводившиеся в 1996–2002 гг. сотрудниками Института сравнительной политологии РАН, демонстрировали, что конституирующую роль в формировании социального порядка играют такие категории, как выгода, успех, право сильного, тогда как закон, права человека, уважение к чужому мнению в глазах большинства опрошенных не имеют большого значения (14, с. 15). Постсоветская социальная трансформация, еще более усиленная политикой государства и информационным мэйнстримом, привела к возникновению нового социума, в котором доминируют ставка на силу и эгоистический интерес при минимизации сотрудничества с другими социальными акторами. Но те же самые опросы показали, что социально востребованными остаются ценности морали, равенства, труда, семьи и традиции. По сути дела, расчеты либеральных реформаторов на то, что ценности свободы автоматически разовьются в условиях неконтролируемой игры рыночных сил и сокращения роли государства в экономической жизни, оказались перечеркнуты. Сама интерпретация свободы сузилась до представлений об экономической свободе.
Институциональный порядок, установившийся к концу 1990-х годов, не ставился под сомнение в смысле его конституционной законности. Однако большинство опрошенных фактически усомнились в его социальной легитимности, поскольку, по их мнению, этот порядок был ориентирован на защиту прав и интересов меньшинства, несправедлив, нестабилен и в любом случае крайне далек от социального идеала. Можно сказать, что к началу «эпохи Путина» значительная часть граждан России была готова к трансформации институционального порядка, которая в большей степени соответствовала бы их ценностным ориентациям.
В конце концов, это должно было привести к развилке между формальными, не сумевшими обрести в 1990-е годы реального наполнения институтами, импортированными извне (многопартийность, разделение властей, выборность должностных лиц на всех уровнях власти и т.д.) и квинтэссенцией российской политической культуры – государственным патернализмом. Либо названные институты должны были заработать таким образом, чтобы покончить с традиционным для России «властецентризмом», либо, напротив, сами эти институты должны были стать орудиями, обеспечивающими в новых условиях воспроизводство все той же государственной парадигмы. Вышло так, что российская власть при Б.Н. Ельцине, при всей ее демократической фразеологии, провела основную работу по воспроизводству Русской системы в новом институциональном дизайне. То, что делалось затем при В.В. Путине, стало лишь завершением этого процесса.
Период экономического подъема, на который пришлись два срока президентства Путина, принято объяснять благоприятным сочетанием ряда обстоятельств, в числе которых – удешевление стоимости рабочей силы и продукции отечественного производства в первые годы после дефолта, а затем непрерывный рост цен на энергоносители. Спорить с этим объяснением не приходится, но оно тем не менее не является исчерпывающим. В «истории успеха» Путина присутствовал и компонент политического мастерства, заключавшийся в способности второго президента России максимизировать действие благоприятных для развития страны и для его собственного режима факторов и ограничить действие неблагоприятных. Главным же было то, что режим Путина пошел навстречу запросу уставшего от перемен общества, обеспечив долгожданную стабильность. Социальные и экономические изменения не остановились, но они вернулись в знакомую и понятную обществу государственническую колею. Россия вновь оказалась в привычной для нее системе координат.
Однако именно «возврат» государства и путинская стабилизация показали, насколько значительны и фундаментальны перемены, происшедшие с Россией в 1990-е годы. Государство вернулось, но действует оно в иной социальной реальности и в принципиально новом внешнем окружении. Что же касается постсоветской российской идентичности, то государство в лице путинского режима обнаружило, что за десять лет уже возникла некая протоидентичность и с ней требуется что-то делать. При этом следует подчеркнуть, что решающая роль государства в формировании национально-государственной идентичности не является чем-то уникальным, характерным только для России (см.: 3, с. 139–140).
Первым конструктивистским действием на этом направлении стало решение вопроса о государственной символике. Предложенное Путиным решение поначалу показалось многим критикам механическим соединением несоединимого – радующего традиционалистов византийского двуглавого орла, угодного либералам петровского триколора, и ласкающей слух коммунистов мелодии сталинского гимна. Но вскоре обнаружилось, что все «срослось», что эклектичный синтез принят почти всеми и даже весьма востребован одной из самых массовых групп – спортивными болельщиками. И, разумеется, сам синтез символов был символичен, указывая на волю власти не к дистанцированию от прошлого, но к подчеркиванию преемственности в отношении всех периодов истории российской и советской государственности.
Идеологическим оформлением «возврата» государства стала концепция суверенной демократии. Ее создатель В.Ю. Сурков в последние годы предлагал несколько определений суверенной демократии, различающихся в своих нюансах. Первое из них, озвученное Сурковым в феврале 2006 г. в выступлении перед активом «Единой России», таково: суверенная демократия – это «образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами, ее образующими» (21). В данном определении постулируется наличие российской нации, хотя, скорее, именно идея суверенной демократии является очередным и на сегодня наиболее значимым усилием власти по конституированию этой самой нации. Точнее, при помощи идеи суверенной демократии власть очерчивает те рамки, в которых сегодня российскую нацию можно вообразить.
Охранительная суть концепции суверенной демократии сомнений не вызывает. Но из этого не следует, что аргументацию в пользу идеи суверенной демократии можно игнорировать или что эта концепция методологически ошибочна. Критики Суркова нередко воспроизводят замечание Путина на встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» (сентябрь 2007 г.) о том, что нельзя соединять понятия суверенитета и демократии, одно из которых характеризует внешние отношения, а другое – внутреннее политическое устройство (18, с. 121). Но здесь, в частности, можно вспомнить, что незадолго до провозглашения у нас доктрины суверенной демократии З. Бжезинский (а в западном политологическом сообществе не найдется более сильного раздражителя для российских идеологов власти, чем этот ветеран «холодной войны») опубликовал статью «Дилемма последнего суверена» (ее русский перевод озаглавлен «Последний суверен на распутье»). Очевидно, что в России наибольшее внимание привлекла не столько критика Бжезинским бушевской версии американского унилатерализма, сколько концепция иерархии суверенитетов, на вершине которой находятся, разумеется, США. В версии Бжезинского вторжение в Ирак или отказ от Киотского протокола демонстрируют уникальность Америки как последнего подлинно суверенного государства. Суверенитет США рассматривается Бжезинским как ключ к решению глобальных проблем: «Слабость формально независимых государств, которые на самом деле становятся все более зависимыми или даже неспособными к автономному существованию, должна быть компенсирована за счет укрепления наднационального сотрудничества, активно продвигаемого Соединенными Штатами. …Америка должна задавать тон в построении такого мира, который бы в меньшей степени уповал на химеру государственного суверенитета и в большей – ориентировался на неуклонно возрастающую и политически регулируемую взаимозависимость. Поскольку глобализация не только несет с собой новый взгляд на экономические проблемы, но и все глубже трансформирует политические отношения, американский суверенитет, поставленный на службу общему благу, вызовет, по всей видимости, более весомое и стойкое одобрение в мире, нежели нынешняя всепоглощенность Америки собственной безопасностью» (2, с. 23). Ситуация с «более весомым и стойким одобрением» за прошедшие пять лет в основном прояснилась; куда важнее сам принцип. Даже если абсорбция последним сувереном чужого суверенитета и в самом деле где-то происходит с одобрения его прежних носителей, то насколько это одобрение легитимно? Если демократию понимать как право нации через механизм свободных выборов делегировать кому-либо из своих граждан полномочия принимать решения, касающиеся интересов данной нации, то как совместимо такое понимание демократии с глобальными полномочиями последнего суверена? Ведь центр принятия многих важных решений оказывается за пределами соответствующей политики. А это значит, что расставание с «химерой суверенитета» равносильно эрозии демократии. Отчасти такая эрозия, или – если применять более мягкое выражение – «трансформация» демократии происходит по объективным причинам, связанным с процессами интернационализации и глобализации (5, с. 484–485), но в данном случае, во-первых, десуверенизация возводится в нормативный принцип, и, во-вторых, вместо дисперсии суверенитета предлагается его абсорбция в едином центре.
Аналогичные сомнения высказывают и евроскептики, считающие пагубным делегирование все большей доли суверенитета национальных государств наднациональным институтам Евросоюза. Например, Ральф Дарендорф отмечает: «Конституции конституируют права. Права есть юридические гарантии. Это не просто пустые обещания и красивые слова. …Права делают необходимым создание аппарата принуждения, или санкционирующих инстанций. Все три классических власти находят здесь свое место. Но эти власти существуют в совершенной форме только в национальном государстве. Тот, кто отказывается от национального государства, теряет вместе с этим эффективные гарантии своих основных прав. Тот, кто сегодня национальное государство считает излишним, объявляет вместе с этим – быть может даже непреднамеренно – излишними гражданские права» (26, с. 109).
Вообще говоря, и сэр Ральф Дарендорф, и высокопоставленный российский чиновник Владислав Сурков, защищая суверенитет, отстаивают принципы демократии. Только в случае Суркова речь идет совсем не о либеральной демократии. Здесь важно понимать, что неолиберальная демократия в России – это не какое-то новообразование, воспроизводящее (как предполагает Ф. Закария) (6, с. 90) опыт латиномериканских режимов 1960–1970 гг., а очередная реинкарнация Русской системы, вновь вызванная к жизни отнюдь не вопреки воле большинства российских избирателей.
Итак, болезненная адаптация общества к новой реальности, «возврат» государства (и по существу, и на символическом уровне), усилия власти по разработке политической идеологии – не является ли все это ингредиентами постсоветской национально-государственной идентичности? Несомненно, да, но набор необходимых ингредиентов все еще не полон. Требуются более общие и устойчивые ценностно-нормативные основания, развернутые как в прошлое, так и в будущее. И прежде всего речь здесь идет о традициях как факторе национального сплочения. Суть проблемы, перефразировав Ленина, блестяще сформулировал А.Б. Гофман: от какого наследства мы не отказываемся? По его словам, «в современной России ситуация с традициями и инновациями, их взаимодействием, отношением к ним со стороны интеллектуалов и власти отличается чрезвычайной неопределенностью, многозначностью, амбивалентностью, синкретизмом» (4, с. 50). Основная сложность состоит в том, что современная Россия – это не страна без традиций, а, скорее, страна с обрывками традиций. Любое обращение к традиции в современных условиях – это новая сборка, конструктивистское действие. Упомянутые выше усилия путинской команды по утверждению государственной символики постсоветской России как раз являются примером такого рода конструктивизма, причем вполне успешного. Очевидно, что сегодня имеются довольно широкие (но не безграничные!) возможности комбинаторики традиций и инноваций, собственного и заимствованного опыта. Например, усилие В. Суркова провозгласить новую синкретическую ценностную триаду в составе материального успеха, свободы и справедливости можно рассматривать как попытку воспользоваться существующими разрывами культурной традиции (см.: 11).
Здесь будет уместно вспомнить старую, но продолжающую действовать формулу нации Эрнеста Ренана: «Нация – это душа, духовный принцип. Две вещи, которые в действительности являются лишь одной, создают эту душу, этот духовный принцип. Одна относится к прошлому, другая – к настоящему. Одна является совместным обладанием богатым наследием воспоминаний, другая есть актуальное согласие, желание жить вместе, воля продолжать пользоваться доставшимся неразделенным наследством» (29, с. 46). Надо полагать, что теперь, по первой части этой формулы, нужно решать более сложную задачу, а именно: как-то распорядиться «богатым наследием воспоминаний». Показательно, что российская власть и при Ельцине, и при Путине очень долго не решалась подступиться к этой задаче. Споры об истории были частью общественной дискуссии, но на уровне официальной риторики подавались (и подаются до сих пор) довольно противоречивые сигналы. Но в последнее время, во многом в связи с системными усилиями представителей политической и интеллектуальной элит стран Балто-Черноморского региона по конструированию желательной для них версии исторического прошлого российская власть стала втягиваться в «историческую политику». И, похоже, втягиваться всерьез и надолго. Вполне вероятно, что решив первоочередные задачи и создав иллюзию адекватного ответа центрально– и восточноевропейским «фальсификаторам», наша историческая политика перейдет в стадию целенаправленной инвентаризации и комплексной реинтерпретации «богатого наследия воспоминаний». Так что, говоря словами Люсьена Февра, самые ожесточенные combats pour l'histoire нам еще предстоят.
Не имея возможности (да, похоже, и желания) формировать постсоветскую национально-государственную идентичность на основе конституционного патриотизма, российская власть будет вынуждена подводить под нее культурно-исторический базис. Но конкретные параметры этого действия будут всецело определяться второй частью формулы Ренана. Скажем, чтобы закрепить «желание жить вместе», может потребоваться апелляция к идеям славяно-тюркского симбиоза, создание прагматической версии евразийства, включающей реабилитацию ордынского периода нашей истории (кстати, такое развитие событий пришлось бы по душе многим украинским энтузиастам исторической политики).
Формирование современной российской идентичности на культурно-исторических основаниях неизбежно связано с образом значимого Другого[2 - . Перенос этого термина из лексикона социальной психологии в российский политологический дискурс весьма успешно осуществлен О.Ю. Малиновой (см.: 12).]. Формирование идентичности как притяжение к значимому Другому или отталкивание от него является способом редукции неопределенности, т.е. технологически менее сложным и потому весьма распространенным вариантом нациестроительства. Например, для современного Европейского союза (если говорить о европейской идентичности) на роль значимого Другого могут претендовать США, внешний (а в подтексте – внутренний) ислам и Россия вместе с прилегающим к ЕС постсоветским (буферным) пространством. Для самой России долгое время никакой альтернативы не было – только Запад, который по мере надобности может представать и в образе гегемонистской Америки, и в облике умиротворенной Европы. И даже у Суркова в «Параграфах pro суверенную демократию» присутствует все та же безальтернативность: «Не выпасть из Европы, держаться Запада – существенный элемент конструирования России» (21).
Но теперь ситуация иная. Ведь кажется, что и Бжезинский с «последним сувереном», и Сурков с «суверенной демократией» – это даже не «вчера», а «чуть ранее сегодня». А между тем безальтернативность Запада – и как значимого Другого для России, и как лидера цивилизационного развития, – исчезает на глазах. Сдвиг происходит настолько фундаментальный, что даже обозначившиеся признаки заката американской глобальной гегемонии выглядят всего лишь частным его проявлением. На кону стоит нечто большее. Несколько успокаивающий термин Фарида Закарии «подъем остальных» (7) на деле означает, что 500-летний «момент однополярности»[3 - . Воспользуемся здесь метафорой одного из идеологов американского неоконсерватизма Ч. Краутхаммера, который писал об исторически длительной, но все-таки преходящей эпохе глобального американского доминирования (28).] европейской (западной) цивилизации близится к завершению. И здесь Россия обнаруживает, что у нее есть выбор, что альтернативой заповеди «держаться Запада» является шанс поучаствовать в «подъеме остальных». Можно сказать и резче: Россия слишком долго пребывала на периферии западной цивилизации, чтобы теперь, на излете ее доминирования, присоединяться к ней и делить ответственность за все ее грехи. В конце концов, у России слишком много своих собственных грехов.
Фарид Закария безусловно прав, говоря об общем подъеме незападных стран. Но все взгляды устремлены на Китай, и у России есть для этого свои особые причины. Именно в лице Китая Россия обрела второго значимого Другого. Предвиделось это давно. Еще Константин Леонтьев в «Записках отшельника» предрекал: «Россия может погибнуть только двояким путем – или с Востока от меча пробужденных китайцев, или путем добровольного слияния с общеевропейской республиканской федерацией» (10, с. 445). Правда, более чем за столетие Россия демонстрировала и возможность третьего пути – самоликвидации, тогда как «угроза» Китая почти все это время оставалась «спящей». Сейчас, когда Китай «пробудился», рассуждения об угрозе могут быть более опасны, чем сама «угроза». В подъеме Китая следует видеть не угрозу России, а риск, т.е. ситуацию, в которой возможен как проигрыш, так и выигрыш. Причем тактический выигрыш для российского политического режима уже очевиден. Прежде всего, он состоит в том, что сопоставление исторического опыта двух стран дает дополнительные аргументы в пользу «возврата» государства: путь Дэн Сяопина был правилен, путь Горбачёва – ложен; сильно (скорее всего – безнадежно) отстав от восточного соседа, Россия возвращается на правильный путь. При этом достижения Китая меняют и шкалу политических ценностей, поскольку успех и эффективность перестают отождествляться с либеральной демократией.
Тактический выигрыш для российской власти от подъема Китая связан и с тем, что сближение с «красным драконом» в рамках двустороннего партнерства или многосторонних форматов ШОС и БРИК, позволяет временно «заимствовать» политический капитал Пекина в непростых взаимоотношениях с Вашингтоном и Брюсселем. Впрочем, даже и это не главное. Свидетельством тому служит быстрый переход российских руководителей от гордости за почти полноправное членство (надолго ли?) в западном клубе G8 к энтузиазму соучредителя клуба новых лидеров глобального экономического роста – БРИК. Оставаясь преимущественно виртуальным объединением, БРИК начинает продуцировать и консолидировать нормативную власть. Нормативное послание БРИК состоит не только в отстаивании вестфальских принципов суверенитета, стремлении к многополярности и демонтажу Вашингтонского консенсуса, но в принципиальном признании плюрализма ценностей, культурных ориентаций и моделей политического устройства. В сущности, нормативное послание БРИК есть не что иное, как перевод концепции множественности модернов Ш. Эйзенштадта (27) на язык глобальной политики. При этом устойчивость всей конструкции БРИК может быть обеспечена только благодаря предельно широкому и гибкому толкованию демократии и прав человека. В свою очередь данная ситуация оказывает влияние на формирование российской национально-государственной идентичности, поскольку существенно снижается внешнее давление, побуждающее к освоению вполне определенного набора политических принципов, институтов и практик.
Если говорить об изменениях последних пяти лет, то за это время у России почти появился и третий значимый Другой – региональный. Речь, разумеется, идет об Украине. Не секрет, что концепция суверенной демократии явилась в числе прочего и идеологическим ответом на вызов украинской «оранжевой революции». Сегодня, после поражения на президентских выборах лидеров майдана и политического реванша Виктора Януковича, можно сказать, что дестабилизирующий потенциал «оранжевой революции» в Москве систематически переоценивался. Тем не менее Украина настолько преуспела в позиционировании себя как «не-России» (во многих случаях явно во вред самой себе), что и в российском политическом классе стала расти популярность констатации «Мы – не Украина». Относительно свежий пример – заявление В. Путина о необходимости избежать «украинизации» нашей политической жизни (19).
Казус Украины, необходимость определять свое отношение к ней как к независимой стране, как к другому высвечивает и самую важную российскую дилемму, заключающуюся в том, что Россия сегодня – это и остаточная империя, и разделенная, но при этом еще окончательно не сформировавшаяся нация. Несомненно, что в типологии империй Россия (Советский Союз) занимает особую нишу. В контексте данной статьи более важно не это своеобразие, а то, что имперская миссия была (остается?) очень сильным фактором, сдерживающим формирование идентичности, характерной для нации-государства. Разумеется, в империях этот процесс не был полностью блокирован. Как пишет Б. Андерсон, в эпоху капитализма, скептицизма и науки «Романовы открыли, что они великороссы, Ганноверы – что они англичане, Гогенцоллерны – что они немцы …» (1, с. 107). Однако бремя мультиэтнической империи имело немалую цену для того этноса, который должен ее цементировать. Может быть, именно поэтому после распада СССР на арену большой политики так и не вышел русский ирредентизм. Что касается российской власти, то и при Ельцине, и при Путине, и при Путине–Медведеве она инстинктивно чувствует опасность такого варианта ухода от имперскости, при котором альтернативой станет мощный подъем этнонационализма. Вернувшееся домой государство, совсем не заинтересовано в том, чтобы оказаться инструментом охваченного националистическими страстями общества. Русская система – это властецентризм, а не этноцентризм.
Возродить большую империю невозможно. Для этого нет ресурсов, равно как и политической воли. Но и совсем перестать быть империей при таком этническом и территориальном составе тоже не получается. Пытаться покончить с «бременем империи» через отождествление самого крупного этноса с государством самоубийственно (по крайней мере, для государства). Подобное отождествление станет, по всей видимости, триггером ирредентизма русских и сепаратизма других российских этносов. Остается движение в направлении нации-государства, или российской нации. В.А. Тишков, внесший важнейший вклад в разработку идеи российской нации, мыслит ее как гражданскую многонациональную общность, т.е. в духе конституционного патриотизма: «Всеми доступными методами нам нужно решительно утверждать российский[4 - . Курсив мой. – Д.Е.] национализм, имея в виду осознание и отстаивание национального суверенитета и интересов страны, укрепление национальной идентичности российского народа, утверждение безоговорочного приоритета самого понятия “российский народ”. Всякие другие варианты национализма на основе этнических крайностей несостоятельны и должны быть отвергнуты» (22, с. 196).
Соглашаясь с В.А. Тишковым по существу, хотелось бы все же подчеркнуть, что решительное использование «всех доступных методов» весьма рискованно, если речь идет о прокладке курса между Сциллой имперскости и Харибдой этнонационализма. Скорее, это все же лавирование, череда паллиативных мер и компромиссов. Не все, что кажется доступным для конструирования идентичности российской нации, следует непременно использовать. Кроме того, если модель конституционного патриотизма до конца не срабатывает даже в рамках наднационального европейского проекта, то у нас ее эффективность без подкрепления историко-культурными аргументами окажется еще меньшей. Формирование российской идентичности без обращения к «богатому наследию воспоминаний» и без культуралистского обоснования «желания жить вместе», по всей видимости, невозможно. Однако подход к решению этой задачи, в сущности, должен быть тем же, что и в случае космополитического проекта переизобретения Европы (У. Бек, Э. Гранд): толерантная к различиям интеграция и совместимая с интеграцией дифференциация (24; 25).