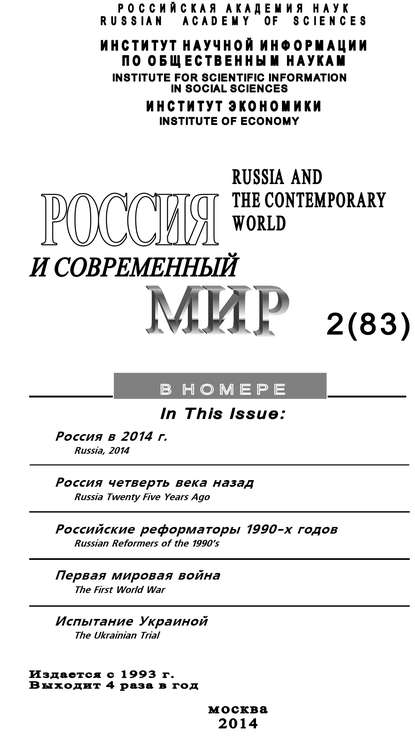По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Россия и современный мир №2 / 2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ХХ – начало XXI века показали, что развитие государства и общества, конечно, не предопределено, но во многом зависит от того, на каких основаниях происходит утверждение нового порядка. Дело в том, что последние 100 лет, начиная с Балканских войн и Первой мировой, происходила очень активная перекройка политической карты Европы. Иными словами, речь идет о различных видах легитимности. Причем если ранее мы знали три основных типа легитимности: сакральную, правовую и историческую, то теперь к ним добавились некоторые иные.
Мне уже приходилось в нашем журнале, да и не только в нем касаться темы «легитимность». Но трансформация политической ситуации в стране, появление ряда законов, имеющих в целом запретительно-ограничивающий характер, все более громкие призывы к изменению Конституции (скажем, отмена ст. 13 – «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»; или предложение депутата Е. Мизулиной внести в Преамбулу Основного закона запись о роли православной религии в истории России («фундамент»), заставляют нас вновь обратиться к этому вопросу. И каким бы далеким от нужд повседневной жизни, каким бы «теоретическим» он ни казался, убежден, от того как он решен во многом зависит устойчивость всякой социо-политической системы.
Классический пример – Германия. Она четырежды в этом столетии переучреждалась: в 1919, 1933, 1949 и 1990 гг. Веймарская Конституция 1919 г. зафиксировала весьма странное состояние этой страны. На развалинах Второго рейха была создана республика. Однако первая статья Конституции гласила: «Германский рейх есть республика» (рейх в переводе на русский империя). То есть рейх стал республикой. Во главе этого рейха стоял не кайзер, а президент, который избирался на семь лет. Практически не было никаких ограничений типа «на один срок», «на два срока». То есть в принципе был возможен пожизненный президент. И еще одно изменение: парламент получал б?льшие права, чем имел в эпоху Вильгельма II. Но в принципе в политико-правовом отношении Веймарская республика была исторически закономерной модернизацией вильгельмовского режима.
В скобках скажем: в отечественной науке мало обращают внимания на схожесть властных конфигураций Германии, согласно Веймарской конституции, и Франции, согласно Конституции V Республики. И понятно почему: слишком исторически далеко друг от друга 1919 и 1958 гг., слишком далеки друг от друга исторические традиции Франции и Германии. Здесь интересно другое: как в различные исторические эпохи и в различных политических культурах работают схожие юридические модели. Во Франции получилось в высшей степени успешно, а в Германии она привела к катастрофе.
Однако вернемся к теме легитимности. Правовая в веймарскую эпоху была двоякой: а) сама республиканская конституция; и б) связь с немецким рейхом. Подчеркнем: эта связь носила не только исторический характер, что вполне понятно, но и закреплялась юридически (республика есть рейх). Важнейшей легитимностью Веймарской республики был также Версальский договор, который, по известному выражению, «поставил Германию на колени». То есть Веймарский порядок вырастал из поражения в войне, национального позора и унижения. Естественно, что для большинства немцев Веймар был по преимуществу продуктом распада не только могучей, прогрессировавшей, энергичной мировой державы, но и некоей привычной нормы, нормальности. Это и привело к ситуации, которую зафиксировал Т. Манн: «Республика без республиканцев, демократия без демократов».
Кстати, и в самом тексте Конституции 1919 г. слово «республика» употреблено лишь один раз (в первой статье). Когда говорится о стране, всегда используется «рейх». И по всему этому Основному закону сплошные: рейхспрезидент, рейхсканцлер, рейхстаг, рейхсрегирунг, рейхсминистр, рейхсвер и т.д. Да и вторая главная часть Конституции называется «Основные права и обязанности немцев». Не граждан, но – немцев!
Сегодня ретроспективно совершенно ясно, что у такой Германии было два пути: усиление демократического потенциала, заложенного в Конституции, и демократического потенциала самого общества или путь диктаторского реваншизма. В целом Германия пошла по второму пути, «обогатив» его взрывом звериного национализма и мобилизационно-тотальных технологий. Здесь, конечно, громадную роль сыграл великий экономический кризис, «отменивший» возможность социальной демократии и подтолкнувший страну к тотальному дирижизму общества (элементы мобилизационного дирижизма были характерны тогда для всех стран – США, СССР, Аргентины, Японии и т.д.).
Понятно, что режим, построенный на таких легитимностях, был непрочным.
Национал-социалистический порядок тоже имел букет легитимностей. Включая, кстати говоря, и отрицательную, т.е. легитимность преодоления поражения, унижения и отказа от Веймарской демократии. Эта негативная легитимность порождала легитимность позитивную: мы встанем с колен! мы это можем! мы это сделаем! И как обязательное следствие: мы им отомстим! – внутри: национал-предателям и «пятой колонне», вовне – западным плутократам, мировому еврейству и жидобольшевизму.
С точки зрения правовой легитимности гитлеровский порядок был, так сказать, двойным. Это, кстати, зафиксировано в классической книге Эрнста Фрэнкеля «Двойное государство». Согласно Фрэнкелю, в 1930-е годы элементы веймарской системы сохранялись. Хотя по мере приближения к войне и в ходе войны заметно уступали свое место нацистской чрезвычайщине. То есть национальный социализм в ходе своей эволюции вытеснял остатки Веймара. Попутно заметим, что диктатор внес изменения и в саму конструкцию 1919 г. «Законом о главе Германского рейха» от 01.08.1934 он объявлялся и рейхспрезидентом и канцлером одновременно. 2 августа, т.е. на следующий день, умер Гинденбург, и Гитлер упразднил пост президента, теперь он был «фюрер и рейхсканцлер».
С этого момента (1934) Германия обрела еще одну легитимность: фюрерскую. Ее можно квалифицировать как квазирелигиозную, но это не вполне исчерпывает ее содержание. Я думаю, что должно быть найдено какое-то иное определение. Дело в том, что, с одной стороны, фюрерская легитимность была зафиксирована в лозунге: «Адольф Гитлер – это Германия, Германия – это Адольф Гитлер». С другой стороны, известно также, что участники движения так называемых немецких христиан (протестанты), в которое вошло до четверти протестантских священников, утверждали, что Гитлер есть явление арийского Христа. И в этом смысле фюрерская легитимность являлась одной из важнейших, фундаментальных для всего порядка.
Еще одна легитимность – идеократическая. Причем, как и в случае с большевизмом, идеократия выходила за рамки социально-политического и претендовала на универсалистский статус. Она выступила и со своей антропологией, и со своей физикой, и со своей этнологией и т.д.
Ключевой легитимностью также следует назвать антисемитизм. Здесь речь шла не только о «священной» ненависти к евреям. Антисемитизм выступил – и это самое главное – в качестве универсальной формулы нацистского мировоззрения. Он был доведенной до абсолютного предела теорией и практикой абсолютного зла. Смысл этих теории и практики был в том, что дихотомия «свой-чужой» / «друг-враг» объявлялась базовой для человечества, и «чужой-враг» были обречены на уничтожение. По отношению к врагам и чужим действовал принцип: в плен не брать; раскаянию не верить; гадину раздавить до конца.
Немаловажной формой легитимности было коллективное соучастие во зле, негласный сговор верхушки и немецкого народа жить «по умолчанию», закрывать глаза на творящиеся вокруг преступления и беззакония. Это к вопросу о коллективной вине и коллективной ответственности. Немецкий народ, как это ни горько сознавать, в своем большинстве дал санкцию на то, что происходило в Германии в 1930–1940-е годы. Разумеется, эта санкция имела как активную, так и пассивную формы.
Интересно отметить, что режимам типа нацистского не просто не хватает традиционных видов легитимности. Эти последние играют крайне незначительную роль. На первые же позиции выходят кровь, почва, судьба, рок, история, музыка, антропометрика, физическое устройство мира и т.д. Именно в этом настоящая тоталитарность таких режимов, где политическая диктатура является лишь средством, но не целью. Цель – это тотальный (используем новояз) войнопорядок. Такие режимы функционируют лишь на основе тотальной войны «своих» с «чужими», «друзей» с «врагами».
В 1949 г. произошло учреждение нового германского государства и социального порядка, основанного на классических западных ценностях. Впервые Германия (ее западная часть) встала на рельсы единого западного развития. На этот раз поражение в мировой войне и крах режима имели совершенно иные последствия для немцев, чем это было в 1920-е годы. Важнейшей легитимностью ФРГ стало признание вины Германии и немецкого народа за преступления Третьего рейха. История показала, что это единственный и единственно эффективный тип легитимности для посттоталитарных сообществ. Дело не только в необходимости и плодотворности признания вины, покаяния и т.п., но и, что не менее важно, в возвращении из состояния тотального войнопорядка и тотальной идеократии в «посюсторонний», «расколдованный», секулярный, релятивистский социальный и правовой порядок, в котором абсолютное принадлежит лишь совести человека и в миру действует релятивистско-плюральным способом. Иными словами, «или / или» меняется на «и–и».
В 1990 г. Германия учредилась в четвертый раз. На бывшую ГДР были распространены все те легитимности, которые существовали в ФРГ. К ним добавилась еще одна: преодоление режима СЕПГ–Штази. Разумеется, для жителей Саара это играло одну роль, а для жителей Саксонии – другую. И это тоже очень важно. Включение ГДР в ФРГ привело к тому, что тема вины за преступления Третьего рейха в значительной степени утратила свое легитимизирующее значение. И, напротив, преодоление коммунистического эксперимента на востоке Германии для западных немцев стало естественным и доступным средством по излечению от боли былых преступлений.
Бремя внутренней вины, говоря языком Бердяева, было объективировано и перенесено на жителей бывшей ГДР. – Теперь пусть они каются. Мы свой путь покаяния уже прошли. Это великое событие – объединение Германии – могло бы сыграть с немцами злую шутку, но, убежден, этого не произойдет. Современная Германия в 1990-е и «нулевые» годы обрела еще одну легитимность, которая уравновешивает возможные негативные последствия объединения страны. Это общеевропейская легитимность. Смысл ее только в том, что Германия есть составная часть какого-то б?льшего целого, и что преимущественной идентичностью современного немца является то, что он – европеец. Может быть, на сегодняшний день это самая мощная и эффективная легитимность для всех европейских государств и всех европейцев. И, напротив, чем больше в тот или иной момент становится зазор между, например, понятиями «грек-европеец», «португалец-европеец», тем менее устойчива греческая или португальская системы. В этом, скажем попутно, величие замысла и претворения европейской интеграции. Это необходимо подчеркнуть, поскольку сегодня Европейский союз переживает не самые лучшие времена, а недоброжелатели не устают соревноваться в прогнозах его скорого развала.
Мне кажется, что в контексте нашей новейшей истории этот краткий экскурс в прошлое и настоящее легитимности власти в Германии весьма небесполезен и поучающ. Во всяком случае, немцы показывают нам и позитивные, и негативные варианты решения этого вопроса. Разумеется, у нас своя специфика. Но это не отменяет методологического и типологического значения германского примера.
Wohin treibt Ru?land?
Действительно, куда? И движется ли она вообще? К тому же двигаться можно и вперед, и назад, и вбок.
Сегодня у нас есть удивительная площадка, с которой мы можем оценить недавнее прошлое нашей страны и одновременно сделать осторожное предположение, куда она может пойти. Как мы хорошо знаем, в социально-исторической жизни народов нет таких предопределенностей или законов, как в природе, где царствует закон необходимости. В истории этого быть не может. Решающую роль играет свободная воля человека. Собственно говоря, это и есть величайший дар, который получили мы, скажем метафорически, от Бога.
Главное наше отличие от других живых существ – даже не интеллект, но возможность различения добра и зла. И тем не менее существует то, что в науке называется коридором возможностей. Выбор, который делает общество, ограничен определенными рамками. И это не только рамки добра и зла, а экономические, правовые, ментальные и др. ограничения. Вот и посмотрим на возможный выбор России – куда она может двигаться – с этих позиций.
Но есть еще одна позиция, кстати говоря, очень удобная. В советские времена достижения СССР традиционно сравнивались с 1913 г. Поэтому интересно посмотреть, что за 100 лет произошло с нашей страной. В новой же концепции единого учебника истории для средней школы 1914 год назван фактическим, а не хронологическим началом ХХ в. Это тоже площадка для обзора уже случившегося и анализа настоящего.
Скажем сразу, наша страна имеет обыкновение обманывать предположения самых проницательных аналитиков. Всем известен прогноз Д.И. Менделеева о том, что к 2000 г. в России должно жить до 400 млн человек. Но этого не случилось. Или в коллективном труде зарубежных ученых под руководством русского социолога и правоведа Николая Сергеевича Тимашева «Великое отступление» утверждалось, что если бы Россия не остановилась в своем развитии в 1917 г., то к 1940 г. вышла бы на первое место в мире по ВВП на душу населения, т.е. обогнала бы США. И было еще много обещаний, но они не исполнились.
Кстати говоря, были не только приятные предсказания, но и совершенно пессимистические. О чем это говорит? Во всяком случае не о том, что «умом Россию не понять», а о том, что мы должны быть крайне осторожны в своих предвидениях и заранее знать об их относительности. Это опять же связано со свободной волей человека, с тем, что она всегда может порождать новые возможности и новые конфликты. Вот почему науке остается говорить лишь о коридоре возможностей. В этом состоят назначение и ограниченность социально-гуманитарного знания.
Сначала о хронологии. Нам сказали, что ХХ век начинается войной 1914 г.[11 - Мы об этом уже говорили, но здесь – другой контекст.] Вообще-то, это довольно распространенная точка зрения в европейской и американской историографии. Именно у англичан и французов Великая война – это Первая мировая, а не Вторая, как у нас. Мы почти готовы согласиться с этим. Действительно, без войны, видимо, не было бы ни Февраля, ни Октября. Не рухнули бы Германская и Австро-Венгерская империи. Именно она окончательно подорвала Францию как великую мировую державу, и в результате, и вследствие ее США стали, выражаясь современным языком, сверхдержавой.
Но по мне «почти» – важнее, чем «согласен». Для русских, если принять эту точку зрения, 1917 год и все, что за ним, прочитывается как разрушительное воздействие мировых процессов на русско-национальное. И здесь собственные причины трагедии русских революций уступают место внешним. Причем это влияние внешних обстоятельств варьируется в диапазоне объективных социально-экономических и проч. условий до конспирологических теорий – теорий заговора. В данном случае неважно, какие они, – главное, что внешние. Нас же интересует внутреннее. Поскольку мы согласны с тезисом, что прежде всего обсуждаются не условия, в которых живет человек, а то, как он себя ведет в данных ему условиях.
В этом смысле – а наша цель, напомним, хотя бы отчасти понять, куда движется Россия, – назначить началом столетия начало Первой мировой войны означает перевести 1917 год в разряд следствий, а не причин. На самом деле права была советская историография, когда говорила, что именно 1917 год открыл новую эру в истории человечества. Только в отличие от советчиков, для которых это была апологетика, для меня – центральный пункт моего понимания и акт морального выбора. И я утверждаю, что ХХ век в России, а потом и в мире (поскольку Россия является одним из мировых центров) начался снежным Февралем 17-го года.
В том, что мы называем Февральской революцией, с невероятной отчетливостью выявилась (проявилась, отразилась) эссенция истории. Февраль – это, на первый взгляд, триумф, а на поверку поражение мировой культуры, цивилизации, прогресса. Что это означает? Что за странные слова? В Феврале 17-го русская история, вроде бы, достигла своей кульминации. Казалось, мы приехали на ту станцию, к которой стремились всегда. Февраль осуществили лучшие русские люди. Можно ли представить себе более завидную, более человеколюбивую биографию, чем у первого министра – председателя Временного правительства, князя Георгия Евгеньевича Львова? Или более искусного и искушенного политика, чем Павел Николаевич Милюков? Более пылкого, чистого человека и великого оратора, чем Александр Федорович Керенский? Более благородного homo politicus, чем Владимир Дмитриевич Набоков? И именно этим людям мы обязаны самым страшным саморазгромом России за всю ее историю.
Скажем и другое. В отличие от большинства исследователей (подчеркнем: исследователей, а не идеологов), я утверждаю: последний русский император Николай Александрович Романов, даже в сравнении с Александром I и Александром II, – лучший русский царь по одной простой причине: при нем – а он не мешал тому и даже по мере понимания способствовал – произошел самый большой за все тысячелетие расцвет Отечества. Этот человек – не мое наблюдение, но я им воспользуюсь – был лучшим в породе властителей, как Юрий Андреевич Живаго в породе интеллигенции. Хочется напомнить: роман «Доктор Живаго» потому и стал событием мирового значения, что не только реабилитировал то великое, что создала Россия в ходе своего тысячелетнего развития, а именно: интеллигенцию, но и обеспечил ей навсегда статус мирового уровня. Это понятие стоит в одном ряду с такими, как греческие философы, римские юристы, средневековые схоласты, мастера эпохи Возрождения и т.д.
Так вот, Николай II – это квинтэссенция русской власти в ее лучшем и мировом смысле. Он был внуком двух выдающихся государей-реформаторов: датского Христиана IX и нашего Александра II. И своею судьбой соединил два этих либеральных тока – русский и европейский. Величие этого человека заключается в том, что всей своей органикой – и человеческой, и самодержавно-царской – он не хотел и даже боялся этих реформ. Но позволил им быть. Что-то высшее, чем «органика», вело его. Он всегда принимал единственно правильное решение. Это касается лишь самого существенного. – По мелочам он ошибался постоянно. Главный итог его царствования – не в том, что он все проиграл (а вместе с ним – мы). Главный итог в том, что он показал, как можно.
Но и к этому человеку должно предъявить претензии. Он был обязан в решающий момент спасти страну. Не имел права отрекаться (права не юридического, но нравственного). Болезнь наследника, обида на ближайшее окружение и, наверное, что-то другое не оправдывают его срыва. И он, и те, кто его свел с престола, навсегда несут ответственность перед нами. И не потому, что ошиблись. И не потому, что проиграли. Чтобы Россия имела таких властителей и таких оппозиционеров мы потратили тысячу лет. Они безответственно распорядились этим тысячелетием. Последовавшее столетие стало расплатой за их несостоятельность.
Казалось бы, после такого поражения Россия была обречена. И мне до недавнего времени так казалось. Тем более, что главный человек русского ХХ столетия – А.И. Солженицын – сказал, что мы напрочь проиграли этот век. И вот – конец этого столетия. В обстоятельствах, в которых оказался русский народ, он впервые в своей истории стал субъектом исторического развития. Не попы, помещики и капиталисты, как говорил мой отец, но, повторим, народ оказался субъектом русского процесса.
Народ выжил в условиях коллективизации и индустриализации – в переводе на обычный русский, в обстоятельствах его планомерного уничтожения. Он восстановил себя, пожертвовав тридцатью миллионами, в условиях самой страшной за всю историю человечества войны. Скажу кощунственные слова, но готов за них отвечать. Все эти гитлеры, гестапо и СС заставили русский народ подняться с колен. В этом смысле совершенно точны памятники в Трептов-парке и в Пловдиве: русский солдат – во весь рост. Мы встали на колени, не решив внутренние проблемы, а поднялись с них, когда ощутили себя ответчиками за весь мир. В этом величие событий первой половины 1940-х годов. В этом фундамент для нашего будущего. В этом, если угодно, индульгенция за позор революции и гражданской войны.
Но к этому никакого отношения не имеют большевистский режим и Иосиф Сталин. Они – это те самые условия, которые не обсуждаются. Обсуждаемся мы с вами.
Сразу откроем все карты. Наши «верхи», как властные, так и оппозиционные, мы сами (то, что называется русским народом) позволили разрушиться тысячелетнему русскому дому, но мы же сами начали процесс его восстановления. И в этом главный смысл ХХ столетия. Всегда любил цитировать Пастернака: но пораженье от победы ты сам не должен отличать. А почему, собственно, не должен? Просто обязан. Я много раз бездумно повторял эти прекрасные слова. Может быть, они и верны по отношению к каждому конкретному человеку – в каком-то воспитательном, педагогическом смысле, но не верны по отношению к социальной жизни. Еще как надо отличать!
ХХ век был для России не только поражением, но и победой. Повторим: именно в этом столетии русский народ стал субъектом своей (и мировой) истории. Звучит, конечно, странновато. Когда же над ним ставились такие эксперименты? (Идти в колхозы, в коммунизм.) Да никогда. Но и никогда он не решал сам свою судьбу. Уже не было просвещенных русских политиков, просвещенных русских властителей. Были Сталин и ЧК. И вдруг этот самый народ взял и сказал: не хочу сдаваться германцу, не хочу Сталина, не хочу ЧК – и последовал маленковско-хрущёвско-брежневско-косыгинский период. И впервые в русской истории не цари, не графы Толстые (Львы и пр.), не графы Уваровы и пр., а «просто русские» могли сказать себе: вот я и делаю ракеты, перекрываю Енисей, и даже в области балета я впереди планеты всей. В этом был великий ответ русского народа на то, что ему было предложено русской историей в ХХ столетии.
* * *
…Казалось бы, наконец, поставлена точка. И то, что хотелось сказать было сказано (в меру умения…). Но еще о нашем Четырнадцатом. Он все смешал и одновременно расставил по местам. Стало ясно: завершился какой-то период истории. Какой? – Хронологически, видимо, четвертьвековой. От весны 89-го (I съезд народных депутатов СССР), когда мы впервые ощутимо вдохнули воздух свободы и до весны 14-го, вернувшей Крым Российской Федерации и закрывшей для русских (надеюсь, все же на время; вопрос в том: на месяцы, годы или..?) тему «свобода». Когда-то по Брестскому миру Ленин отдал часть территории России, чтобы сохранить себе власть. Он разменял пространство на время-для-себя. Сегодня руководство страны прирастило земли с тем (в том числе), чтобы укрепить свою власть. То есть прямо противоположная конфигурация. Увеличение времени-для-себя на основе расширения пространства.
Но эта нынешняя операция тоже требует определенных жертв. Это – сокращение нашей свободы, нашего времени (кстати, типологически схоже с большевистским вариантом). Иными словами, при всем внешне разительном различии операций двух Владимиров сущностно они близки. И в первом, и во втором случаях за все должно платить общество («кто не с нами, тот против нас», «классовый враг», «социально чуждый элемент», «пятая колонна», «национал-предатели», «иностранные агенты»).
Еще один Владимир, Набоков (писатель), говорил, что у России две истории – (тайной) свободы и (тайной) полиции. Скобки ставлю уже я. Сегодня и свобода у нас не тайная, худо-бедно в Конституции закрепленная и поведением-сознанием людей подтвержденная, да и полиция совершенно явная. Думаю, весенние события – это переход к новому историческому периоду (не обязательно по длительности сопоставимому с ушедшим), по набоковской классификации – полицейскому.
Ну, что ж – «час мужества пробил на наших часах».
Российские реформаторы 1990-х годов: общественно-политический портрет
Р.Х. Симонян, Т.М. Кочегарова
Симонян Ренальд Хикарович – доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН.
Кочегарова Тамара Михайловна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института социологии РАН.
Весной 2011 г., в преддверии 20-летия экономических реформ, премьер-министр В. Путин призвал к новой индустриализации. Этот призыв активизировал научную общественность в поиске ответа на вопрос: как могло случиться, что великая страна в мирное время, имея огромные доходы от продажи ценного сырья, в течение 20 лет даже не стояла на месте, но пятилась назад? В то время как все постсоциалистические государства Европы и Азии, не обладающие ни технической базой, ни интеллектуальными ресурсами, ни природными богатствами, сравнимыми с Россией, более или менее успешно развивались. Ответ на этот вопрос пытаются найти в общественных закономерностях, в «особом» историческом пути России, предопределяющем траекторию ее политического развития, оставляя в стороне философский постулат о возрастании роли субъективного фактора в историческом процессе, что искажает наши представления о происшедшем.
По справедливому замечанию П. Штомпки, «Новейшая история перестала быть естественноисторическим и становится социально-историческим процессом, решающую роль приобретают субъективные факторы – политическая воля, личность руководителя, люди его окружения» [25, c. 290]. В нашей научной литературе подробно рассматривались вопросы, связанные с российскими реформами 1990-х годов, их последствиями для России, но практически не было попыток анализа субъективного фактора российской реформации.
Между тем именно этот фактор оказался решающим в выборе методов проведения реформ, и, прежде всего, их политэкономической основы – приватизации, в результате которой в России возникли новые отношения собственности. Эти отношения как были, так и остаются базовыми, они определяют все остальные общественные отношения – социальные, политические, правовые, духовные, этнокультурные, нравственно-психологические.
Мне уже приходилось в нашем журнале, да и не только в нем касаться темы «легитимность». Но трансформация политической ситуации в стране, появление ряда законов, имеющих в целом запретительно-ограничивающий характер, все более громкие призывы к изменению Конституции (скажем, отмена ст. 13 – «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»; или предложение депутата Е. Мизулиной внести в Преамбулу Основного закона запись о роли православной религии в истории России («фундамент»), заставляют нас вновь обратиться к этому вопросу. И каким бы далеким от нужд повседневной жизни, каким бы «теоретическим» он ни казался, убежден, от того как он решен во многом зависит устойчивость всякой социо-политической системы.
Классический пример – Германия. Она четырежды в этом столетии переучреждалась: в 1919, 1933, 1949 и 1990 гг. Веймарская Конституция 1919 г. зафиксировала весьма странное состояние этой страны. На развалинах Второго рейха была создана республика. Однако первая статья Конституции гласила: «Германский рейх есть республика» (рейх в переводе на русский империя). То есть рейх стал республикой. Во главе этого рейха стоял не кайзер, а президент, который избирался на семь лет. Практически не было никаких ограничений типа «на один срок», «на два срока». То есть в принципе был возможен пожизненный президент. И еще одно изменение: парламент получал б?льшие права, чем имел в эпоху Вильгельма II. Но в принципе в политико-правовом отношении Веймарская республика была исторически закономерной модернизацией вильгельмовского режима.
В скобках скажем: в отечественной науке мало обращают внимания на схожесть властных конфигураций Германии, согласно Веймарской конституции, и Франции, согласно Конституции V Республики. И понятно почему: слишком исторически далеко друг от друга 1919 и 1958 гг., слишком далеки друг от друга исторические традиции Франции и Германии. Здесь интересно другое: как в различные исторические эпохи и в различных политических культурах работают схожие юридические модели. Во Франции получилось в высшей степени успешно, а в Германии она привела к катастрофе.
Однако вернемся к теме легитимности. Правовая в веймарскую эпоху была двоякой: а) сама республиканская конституция; и б) связь с немецким рейхом. Подчеркнем: эта связь носила не только исторический характер, что вполне понятно, но и закреплялась юридически (республика есть рейх). Важнейшей легитимностью Веймарской республики был также Версальский договор, который, по известному выражению, «поставил Германию на колени». То есть Веймарский порядок вырастал из поражения в войне, национального позора и унижения. Естественно, что для большинства немцев Веймар был по преимуществу продуктом распада не только могучей, прогрессировавшей, энергичной мировой державы, но и некоей привычной нормы, нормальности. Это и привело к ситуации, которую зафиксировал Т. Манн: «Республика без республиканцев, демократия без демократов».
Кстати, и в самом тексте Конституции 1919 г. слово «республика» употреблено лишь один раз (в первой статье). Когда говорится о стране, всегда используется «рейх». И по всему этому Основному закону сплошные: рейхспрезидент, рейхсканцлер, рейхстаг, рейхсрегирунг, рейхсминистр, рейхсвер и т.д. Да и вторая главная часть Конституции называется «Основные права и обязанности немцев». Не граждан, но – немцев!
Сегодня ретроспективно совершенно ясно, что у такой Германии было два пути: усиление демократического потенциала, заложенного в Конституции, и демократического потенциала самого общества или путь диктаторского реваншизма. В целом Германия пошла по второму пути, «обогатив» его взрывом звериного национализма и мобилизационно-тотальных технологий. Здесь, конечно, громадную роль сыграл великий экономический кризис, «отменивший» возможность социальной демократии и подтолкнувший страну к тотальному дирижизму общества (элементы мобилизационного дирижизма были характерны тогда для всех стран – США, СССР, Аргентины, Японии и т.д.).
Понятно, что режим, построенный на таких легитимностях, был непрочным.
Национал-социалистический порядок тоже имел букет легитимностей. Включая, кстати говоря, и отрицательную, т.е. легитимность преодоления поражения, унижения и отказа от Веймарской демократии. Эта негативная легитимность порождала легитимность позитивную: мы встанем с колен! мы это можем! мы это сделаем! И как обязательное следствие: мы им отомстим! – внутри: национал-предателям и «пятой колонне», вовне – западным плутократам, мировому еврейству и жидобольшевизму.
С точки зрения правовой легитимности гитлеровский порядок был, так сказать, двойным. Это, кстати, зафиксировано в классической книге Эрнста Фрэнкеля «Двойное государство». Согласно Фрэнкелю, в 1930-е годы элементы веймарской системы сохранялись. Хотя по мере приближения к войне и в ходе войны заметно уступали свое место нацистской чрезвычайщине. То есть национальный социализм в ходе своей эволюции вытеснял остатки Веймара. Попутно заметим, что диктатор внес изменения и в саму конструкцию 1919 г. «Законом о главе Германского рейха» от 01.08.1934 он объявлялся и рейхспрезидентом и канцлером одновременно. 2 августа, т.е. на следующий день, умер Гинденбург, и Гитлер упразднил пост президента, теперь он был «фюрер и рейхсканцлер».
С этого момента (1934) Германия обрела еще одну легитимность: фюрерскую. Ее можно квалифицировать как квазирелигиозную, но это не вполне исчерпывает ее содержание. Я думаю, что должно быть найдено какое-то иное определение. Дело в том, что, с одной стороны, фюрерская легитимность была зафиксирована в лозунге: «Адольф Гитлер – это Германия, Германия – это Адольф Гитлер». С другой стороны, известно также, что участники движения так называемых немецких христиан (протестанты), в которое вошло до четверти протестантских священников, утверждали, что Гитлер есть явление арийского Христа. И в этом смысле фюрерская легитимность являлась одной из важнейших, фундаментальных для всего порядка.
Еще одна легитимность – идеократическая. Причем, как и в случае с большевизмом, идеократия выходила за рамки социально-политического и претендовала на универсалистский статус. Она выступила и со своей антропологией, и со своей физикой, и со своей этнологией и т.д.
Ключевой легитимностью также следует назвать антисемитизм. Здесь речь шла не только о «священной» ненависти к евреям. Антисемитизм выступил – и это самое главное – в качестве универсальной формулы нацистского мировоззрения. Он был доведенной до абсолютного предела теорией и практикой абсолютного зла. Смысл этих теории и практики был в том, что дихотомия «свой-чужой» / «друг-враг» объявлялась базовой для человечества, и «чужой-враг» были обречены на уничтожение. По отношению к врагам и чужим действовал принцип: в плен не брать; раскаянию не верить; гадину раздавить до конца.
Немаловажной формой легитимности было коллективное соучастие во зле, негласный сговор верхушки и немецкого народа жить «по умолчанию», закрывать глаза на творящиеся вокруг преступления и беззакония. Это к вопросу о коллективной вине и коллективной ответственности. Немецкий народ, как это ни горько сознавать, в своем большинстве дал санкцию на то, что происходило в Германии в 1930–1940-е годы. Разумеется, эта санкция имела как активную, так и пассивную формы.
Интересно отметить, что режимам типа нацистского не просто не хватает традиционных видов легитимности. Эти последние играют крайне незначительную роль. На первые же позиции выходят кровь, почва, судьба, рок, история, музыка, антропометрика, физическое устройство мира и т.д. Именно в этом настоящая тоталитарность таких режимов, где политическая диктатура является лишь средством, но не целью. Цель – это тотальный (используем новояз) войнопорядок. Такие режимы функционируют лишь на основе тотальной войны «своих» с «чужими», «друзей» с «врагами».
В 1949 г. произошло учреждение нового германского государства и социального порядка, основанного на классических западных ценностях. Впервые Германия (ее западная часть) встала на рельсы единого западного развития. На этот раз поражение в мировой войне и крах режима имели совершенно иные последствия для немцев, чем это было в 1920-е годы. Важнейшей легитимностью ФРГ стало признание вины Германии и немецкого народа за преступления Третьего рейха. История показала, что это единственный и единственно эффективный тип легитимности для посттоталитарных сообществ. Дело не только в необходимости и плодотворности признания вины, покаяния и т.п., но и, что не менее важно, в возвращении из состояния тотального войнопорядка и тотальной идеократии в «посюсторонний», «расколдованный», секулярный, релятивистский социальный и правовой порядок, в котором абсолютное принадлежит лишь совести человека и в миру действует релятивистско-плюральным способом. Иными словами, «или / или» меняется на «и–и».
В 1990 г. Германия учредилась в четвертый раз. На бывшую ГДР были распространены все те легитимности, которые существовали в ФРГ. К ним добавилась еще одна: преодоление режима СЕПГ–Штази. Разумеется, для жителей Саара это играло одну роль, а для жителей Саксонии – другую. И это тоже очень важно. Включение ГДР в ФРГ привело к тому, что тема вины за преступления Третьего рейха в значительной степени утратила свое легитимизирующее значение. И, напротив, преодоление коммунистического эксперимента на востоке Германии для западных немцев стало естественным и доступным средством по излечению от боли былых преступлений.
Бремя внутренней вины, говоря языком Бердяева, было объективировано и перенесено на жителей бывшей ГДР. – Теперь пусть они каются. Мы свой путь покаяния уже прошли. Это великое событие – объединение Германии – могло бы сыграть с немцами злую шутку, но, убежден, этого не произойдет. Современная Германия в 1990-е и «нулевые» годы обрела еще одну легитимность, которая уравновешивает возможные негативные последствия объединения страны. Это общеевропейская легитимность. Смысл ее только в том, что Германия есть составная часть какого-то б?льшего целого, и что преимущественной идентичностью современного немца является то, что он – европеец. Может быть, на сегодняшний день это самая мощная и эффективная легитимность для всех европейских государств и всех европейцев. И, напротив, чем больше в тот или иной момент становится зазор между, например, понятиями «грек-европеец», «португалец-европеец», тем менее устойчива греческая или португальская системы. В этом, скажем попутно, величие замысла и претворения европейской интеграции. Это необходимо подчеркнуть, поскольку сегодня Европейский союз переживает не самые лучшие времена, а недоброжелатели не устают соревноваться в прогнозах его скорого развала.
Мне кажется, что в контексте нашей новейшей истории этот краткий экскурс в прошлое и настоящее легитимности власти в Германии весьма небесполезен и поучающ. Во всяком случае, немцы показывают нам и позитивные, и негативные варианты решения этого вопроса. Разумеется, у нас своя специфика. Но это не отменяет методологического и типологического значения германского примера.
Wohin treibt Ru?land?
Действительно, куда? И движется ли она вообще? К тому же двигаться можно и вперед, и назад, и вбок.
Сегодня у нас есть удивительная площадка, с которой мы можем оценить недавнее прошлое нашей страны и одновременно сделать осторожное предположение, куда она может пойти. Как мы хорошо знаем, в социально-исторической жизни народов нет таких предопределенностей или законов, как в природе, где царствует закон необходимости. В истории этого быть не может. Решающую роль играет свободная воля человека. Собственно говоря, это и есть величайший дар, который получили мы, скажем метафорически, от Бога.
Главное наше отличие от других живых существ – даже не интеллект, но возможность различения добра и зла. И тем не менее существует то, что в науке называется коридором возможностей. Выбор, который делает общество, ограничен определенными рамками. И это не только рамки добра и зла, а экономические, правовые, ментальные и др. ограничения. Вот и посмотрим на возможный выбор России – куда она может двигаться – с этих позиций.
Но есть еще одна позиция, кстати говоря, очень удобная. В советские времена достижения СССР традиционно сравнивались с 1913 г. Поэтому интересно посмотреть, что за 100 лет произошло с нашей страной. В новой же концепции единого учебника истории для средней школы 1914 год назван фактическим, а не хронологическим началом ХХ в. Это тоже площадка для обзора уже случившегося и анализа настоящего.
Скажем сразу, наша страна имеет обыкновение обманывать предположения самых проницательных аналитиков. Всем известен прогноз Д.И. Менделеева о том, что к 2000 г. в России должно жить до 400 млн человек. Но этого не случилось. Или в коллективном труде зарубежных ученых под руководством русского социолога и правоведа Николая Сергеевича Тимашева «Великое отступление» утверждалось, что если бы Россия не остановилась в своем развитии в 1917 г., то к 1940 г. вышла бы на первое место в мире по ВВП на душу населения, т.е. обогнала бы США. И было еще много обещаний, но они не исполнились.
Кстати говоря, были не только приятные предсказания, но и совершенно пессимистические. О чем это говорит? Во всяком случае не о том, что «умом Россию не понять», а о том, что мы должны быть крайне осторожны в своих предвидениях и заранее знать об их относительности. Это опять же связано со свободной волей человека, с тем, что она всегда может порождать новые возможности и новые конфликты. Вот почему науке остается говорить лишь о коридоре возможностей. В этом состоят назначение и ограниченность социально-гуманитарного знания.
Сначала о хронологии. Нам сказали, что ХХ век начинается войной 1914 г.[11 - Мы об этом уже говорили, но здесь – другой контекст.] Вообще-то, это довольно распространенная точка зрения в европейской и американской историографии. Именно у англичан и французов Великая война – это Первая мировая, а не Вторая, как у нас. Мы почти готовы согласиться с этим. Действительно, без войны, видимо, не было бы ни Февраля, ни Октября. Не рухнули бы Германская и Австро-Венгерская империи. Именно она окончательно подорвала Францию как великую мировую державу, и в результате, и вследствие ее США стали, выражаясь современным языком, сверхдержавой.
Но по мне «почти» – важнее, чем «согласен». Для русских, если принять эту точку зрения, 1917 год и все, что за ним, прочитывается как разрушительное воздействие мировых процессов на русско-национальное. И здесь собственные причины трагедии русских революций уступают место внешним. Причем это влияние внешних обстоятельств варьируется в диапазоне объективных социально-экономических и проч. условий до конспирологических теорий – теорий заговора. В данном случае неважно, какие они, – главное, что внешние. Нас же интересует внутреннее. Поскольку мы согласны с тезисом, что прежде всего обсуждаются не условия, в которых живет человек, а то, как он себя ведет в данных ему условиях.
В этом смысле – а наша цель, напомним, хотя бы отчасти понять, куда движется Россия, – назначить началом столетия начало Первой мировой войны означает перевести 1917 год в разряд следствий, а не причин. На самом деле права была советская историография, когда говорила, что именно 1917 год открыл новую эру в истории человечества. Только в отличие от советчиков, для которых это была апологетика, для меня – центральный пункт моего понимания и акт морального выбора. И я утверждаю, что ХХ век в России, а потом и в мире (поскольку Россия является одним из мировых центров) начался снежным Февралем 17-го года.
В том, что мы называем Февральской революцией, с невероятной отчетливостью выявилась (проявилась, отразилась) эссенция истории. Февраль – это, на первый взгляд, триумф, а на поверку поражение мировой культуры, цивилизации, прогресса. Что это означает? Что за странные слова? В Феврале 17-го русская история, вроде бы, достигла своей кульминации. Казалось, мы приехали на ту станцию, к которой стремились всегда. Февраль осуществили лучшие русские люди. Можно ли представить себе более завидную, более человеколюбивую биографию, чем у первого министра – председателя Временного правительства, князя Георгия Евгеньевича Львова? Или более искусного и искушенного политика, чем Павел Николаевич Милюков? Более пылкого, чистого человека и великого оратора, чем Александр Федорович Керенский? Более благородного homo politicus, чем Владимир Дмитриевич Набоков? И именно этим людям мы обязаны самым страшным саморазгромом России за всю ее историю.
Скажем и другое. В отличие от большинства исследователей (подчеркнем: исследователей, а не идеологов), я утверждаю: последний русский император Николай Александрович Романов, даже в сравнении с Александром I и Александром II, – лучший русский царь по одной простой причине: при нем – а он не мешал тому и даже по мере понимания способствовал – произошел самый большой за все тысячелетие расцвет Отечества. Этот человек – не мое наблюдение, но я им воспользуюсь – был лучшим в породе властителей, как Юрий Андреевич Живаго в породе интеллигенции. Хочется напомнить: роман «Доктор Живаго» потому и стал событием мирового значения, что не только реабилитировал то великое, что создала Россия в ходе своего тысячелетнего развития, а именно: интеллигенцию, но и обеспечил ей навсегда статус мирового уровня. Это понятие стоит в одном ряду с такими, как греческие философы, римские юристы, средневековые схоласты, мастера эпохи Возрождения и т.д.
Так вот, Николай II – это квинтэссенция русской власти в ее лучшем и мировом смысле. Он был внуком двух выдающихся государей-реформаторов: датского Христиана IX и нашего Александра II. И своею судьбой соединил два этих либеральных тока – русский и европейский. Величие этого человека заключается в том, что всей своей органикой – и человеческой, и самодержавно-царской – он не хотел и даже боялся этих реформ. Но позволил им быть. Что-то высшее, чем «органика», вело его. Он всегда принимал единственно правильное решение. Это касается лишь самого существенного. – По мелочам он ошибался постоянно. Главный итог его царствования – не в том, что он все проиграл (а вместе с ним – мы). Главный итог в том, что он показал, как можно.
Но и к этому человеку должно предъявить претензии. Он был обязан в решающий момент спасти страну. Не имел права отрекаться (права не юридического, но нравственного). Болезнь наследника, обида на ближайшее окружение и, наверное, что-то другое не оправдывают его срыва. И он, и те, кто его свел с престола, навсегда несут ответственность перед нами. И не потому, что ошиблись. И не потому, что проиграли. Чтобы Россия имела таких властителей и таких оппозиционеров мы потратили тысячу лет. Они безответственно распорядились этим тысячелетием. Последовавшее столетие стало расплатой за их несостоятельность.
Казалось бы, после такого поражения Россия была обречена. И мне до недавнего времени так казалось. Тем более, что главный человек русского ХХ столетия – А.И. Солженицын – сказал, что мы напрочь проиграли этот век. И вот – конец этого столетия. В обстоятельствах, в которых оказался русский народ, он впервые в своей истории стал субъектом исторического развития. Не попы, помещики и капиталисты, как говорил мой отец, но, повторим, народ оказался субъектом русского процесса.
Народ выжил в условиях коллективизации и индустриализации – в переводе на обычный русский, в обстоятельствах его планомерного уничтожения. Он восстановил себя, пожертвовав тридцатью миллионами, в условиях самой страшной за всю историю человечества войны. Скажу кощунственные слова, но готов за них отвечать. Все эти гитлеры, гестапо и СС заставили русский народ подняться с колен. В этом смысле совершенно точны памятники в Трептов-парке и в Пловдиве: русский солдат – во весь рост. Мы встали на колени, не решив внутренние проблемы, а поднялись с них, когда ощутили себя ответчиками за весь мир. В этом величие событий первой половины 1940-х годов. В этом фундамент для нашего будущего. В этом, если угодно, индульгенция за позор революции и гражданской войны.
Но к этому никакого отношения не имеют большевистский режим и Иосиф Сталин. Они – это те самые условия, которые не обсуждаются. Обсуждаемся мы с вами.
Сразу откроем все карты. Наши «верхи», как властные, так и оппозиционные, мы сами (то, что называется русским народом) позволили разрушиться тысячелетнему русскому дому, но мы же сами начали процесс его восстановления. И в этом главный смысл ХХ столетия. Всегда любил цитировать Пастернака: но пораженье от победы ты сам не должен отличать. А почему, собственно, не должен? Просто обязан. Я много раз бездумно повторял эти прекрасные слова. Может быть, они и верны по отношению к каждому конкретному человеку – в каком-то воспитательном, педагогическом смысле, но не верны по отношению к социальной жизни. Еще как надо отличать!
ХХ век был для России не только поражением, но и победой. Повторим: именно в этом столетии русский народ стал субъектом своей (и мировой) истории. Звучит, конечно, странновато. Когда же над ним ставились такие эксперименты? (Идти в колхозы, в коммунизм.) Да никогда. Но и никогда он не решал сам свою судьбу. Уже не было просвещенных русских политиков, просвещенных русских властителей. Были Сталин и ЧК. И вдруг этот самый народ взял и сказал: не хочу сдаваться германцу, не хочу Сталина, не хочу ЧК – и последовал маленковско-хрущёвско-брежневско-косыгинский период. И впервые в русской истории не цари, не графы Толстые (Львы и пр.), не графы Уваровы и пр., а «просто русские» могли сказать себе: вот я и делаю ракеты, перекрываю Енисей, и даже в области балета я впереди планеты всей. В этом был великий ответ русского народа на то, что ему было предложено русской историей в ХХ столетии.
* * *
…Казалось бы, наконец, поставлена точка. И то, что хотелось сказать было сказано (в меру умения…). Но еще о нашем Четырнадцатом. Он все смешал и одновременно расставил по местам. Стало ясно: завершился какой-то период истории. Какой? – Хронологически, видимо, четвертьвековой. От весны 89-го (I съезд народных депутатов СССР), когда мы впервые ощутимо вдохнули воздух свободы и до весны 14-го, вернувшей Крым Российской Федерации и закрывшей для русских (надеюсь, все же на время; вопрос в том: на месяцы, годы или..?) тему «свобода». Когда-то по Брестскому миру Ленин отдал часть территории России, чтобы сохранить себе власть. Он разменял пространство на время-для-себя. Сегодня руководство страны прирастило земли с тем (в том числе), чтобы укрепить свою власть. То есть прямо противоположная конфигурация. Увеличение времени-для-себя на основе расширения пространства.
Но эта нынешняя операция тоже требует определенных жертв. Это – сокращение нашей свободы, нашего времени (кстати, типологически схоже с большевистским вариантом). Иными словами, при всем внешне разительном различии операций двух Владимиров сущностно они близки. И в первом, и во втором случаях за все должно платить общество («кто не с нами, тот против нас», «классовый враг», «социально чуждый элемент», «пятая колонна», «национал-предатели», «иностранные агенты»).
Еще один Владимир, Набоков (писатель), говорил, что у России две истории – (тайной) свободы и (тайной) полиции. Скобки ставлю уже я. Сегодня и свобода у нас не тайная, худо-бедно в Конституции закрепленная и поведением-сознанием людей подтвержденная, да и полиция совершенно явная. Думаю, весенние события – это переход к новому историческому периоду (не обязательно по длительности сопоставимому с ушедшим), по набоковской классификации – полицейскому.
Ну, что ж – «час мужества пробил на наших часах».
Российские реформаторы 1990-х годов: общественно-политический портрет
Р.Х. Симонян, Т.М. Кочегарова
Симонян Ренальд Хикарович – доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН.
Кочегарова Тамара Михайловна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института социологии РАН.
Весной 2011 г., в преддверии 20-летия экономических реформ, премьер-министр В. Путин призвал к новой индустриализации. Этот призыв активизировал научную общественность в поиске ответа на вопрос: как могло случиться, что великая страна в мирное время, имея огромные доходы от продажи ценного сырья, в течение 20 лет даже не стояла на месте, но пятилась назад? В то время как все постсоциалистические государства Европы и Азии, не обладающие ни технической базой, ни интеллектуальными ресурсами, ни природными богатствами, сравнимыми с Россией, более или менее успешно развивались. Ответ на этот вопрос пытаются найти в общественных закономерностях, в «особом» историческом пути России, предопределяющем траекторию ее политического развития, оставляя в стороне философский постулат о возрастании роли субъективного фактора в историческом процессе, что искажает наши представления о происшедшем.
По справедливому замечанию П. Штомпки, «Новейшая история перестала быть естественноисторическим и становится социально-историческим процессом, решающую роль приобретают субъективные факторы – политическая воля, личность руководителя, люди его окружения» [25, c. 290]. В нашей научной литературе подробно рассматривались вопросы, связанные с российскими реформами 1990-х годов, их последствиями для России, но практически не было попыток анализа субъективного фактора российской реформации.
Между тем именно этот фактор оказался решающим в выборе методов проведения реформ, и, прежде всего, их политэкономической основы – приватизации, в результате которой в России возникли новые отношения собственности. Эти отношения как были, так и остаются базовыми, они определяют все остальные общественные отношения – социальные, политические, правовые, духовные, этнокультурные, нравственно-психологические.