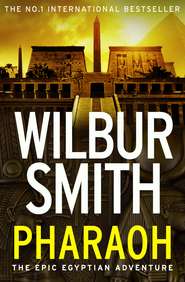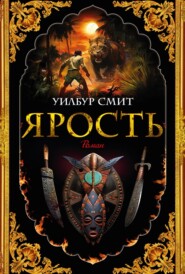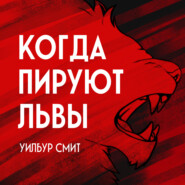По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Власть меча
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В камне был пробит наклонный туннель, круглое отверстие, в которое под углом сорок пять градусов уходили стальные рельсы, исчезающие затем в темной глубине. В начале линии стояла цепочка небольших вагонеток, Твентимен-Джонс повел Шасу к первой вагонетке, и они забрались в стальной приемник. За ними садилась в вагонетки очередная смена, дюжина белых мастеров и полторы сотни черных рабочих в потрепанных, пыльных комбинезонах и касках из светлого некрашеного металла, шумно смеясь и подтрунивая друг над другом.
Паровой ворот загремел и зашипел, вагонетки дернулись вперед и затем, подпрыгивая и раскачиваясь, побежали по узкоколейке вниз по крутому склону. Стальные колеса стучали и позвякивали на стыках рельсов, и все они провалились в темную пасть туннеля.
Шаса беспокойно ерзал на месте, охваченный непонятным страхом перед абсолютной чернотой, внезапно поглотившей их. Однако в вагонетке позади него шахтеры-овамбо запели, и их глубокие мелодичные голоса эхом разносились в темном пространстве туннеля; изумительный хор звучал в африканском ритме, и Шаса расслабился и придвинулся ближе к Твентимен-Джонсу, чтобы выслушать его объяснения.
– Уклон здесь составляет сорок пять градусов, а подъемник рассчитан на сто тонн, что в горной терминологии означает шестьдесят партий руды. Наша цель – поднимать шестьсот партий за смену.
Шаса пытался сосредоточиться на цифрах; он знал, что мать вечером станет задавать вопросы. Но темнота, пение и грохот вагонеток отвлекали его. Впереди он уже видел крошечную монетку яркого белого света, которая быстро увеличивалась в размерах, пока они наконец не выскочили по другую сторону туннеля, и Шаса задохнулся от изумления.
Он, конечно, изучал схемы алмазоносных трубок, на письменном столе его матери в Вельтевредене стояли фотографии, но все это ничуть не подготовило его к необъятности картины.
Прямо в середине горы было почти идеально круглое пространство. Оно открывалось в небо, а его бока поднимались вертикально, и круглая стена серого камня окружала дно, как арену для петушиных боев. Люди попадали сюда сквозь туннель, соединявший внешнюю сторону горы и узкий спуск, по которому они теперь ехали под тем же углом в сорок пять градусов, пока не добрались до котловины в двух сотнях футов под ними. Спуск оказался захватывающим. Ширина обрамленной скалами долины внизу достигала мили, а стены вокруг нее высились на четыре сотни футов.
Твентимен-Джонс продолжал свою лекцию:
– Это вулканический кратер, здесь раскаленная магма вырвалась из глубин земли на поверхность в самом начале времен. При таких температурах, сравнимых с температурой на поверхности Солнца, и при огромном давлении сформировались алмазы, и их вынесло наверх огненной лавой.
Шаса смотрел по сторонам, вертя головой, чтобы охватить взглядом гигантский провал в горе, а Твентимен-Джонс продолжал:
– Потом напряжение в жерле вулкана ослабло, магма остыла и окаменела. Ее верхний слой под воздействием воздуха и солнца окислился, превратившись в классическую «желтую землю», алмазосодержащую породу. Мы прорываемся сквозь нее уже одиннадцать лет и только недавно добрались до «голубой земли».
Доктор выразительно махнул рукой в сторону серовато-синих камней, что образовывали дно гигантской ямы.
– Это более глубокие отложения застывшей магмы, твердые, как железо, и набитые алмазами, как булочка изюмом.
Они достигли наконец самого дна рабочей зоны и выбрались из вагонетки.
– Работы организованы просто, – продолжал Твентимен-Джонс. – Первая смена спускается сюда с рассветом и начинает работу там, где накануне камни взорвали. Взорванную породу дробят и грузят в вагонетки, чтобы отправить наверх. После этого отмечают и пробивают шурфы для следующих взрывов, закладывают в них взрывчатку. В сумерках смена поднимается отсюда, взрывники поджигают фитили. После взрыва работы останавливаются на ночь, чтобы дым рассеялся, а на следующее утро все начинается сначала. Там, – доктор показал на площадку, усыпанную голубовато-серыми камнями, – породу взорвали вчера. Вот с чего мы сегодня начнем.
Шаса не ожидал, что его настолько захватит очарование этим гигантским котлованом, но его интерес в течение дня только возрастал. Даже жара и пыль его не устрашали. А жар, захваченный в ловушку отвесных стен, все усиливался, пока не стал особенно невыносимым, когда солнце начало светить прямо в неровную поверхность котловины. Густая пыль поднималась от раздробленного дна рудника, по мере того как молотобойцы взмахивали десятифунтовыми кувалдами, разбивая крупные камни на куски помельче. Пыль висела, как туман, над теми, кто грузил породу в вагонетки, и покрывала их лица и тела, превращая всех в призрачно-серых альбиносов.
– Тут иногда случается шахтерский туберкулез, – признал Твентимен-Джонс. – Пыль набивается в легкие людей и окаменевает. В идеале мы должны поливать породу водой, чтобы смочить пыль, но воды нам не хватает. У нас ее даже для промывки маловато. Так что мы определенно не можем позволить себе расплескивать ее вокруг. Так что люди умирают и становятся калеками, но для этого нужно лет десять, а мы даем им или их вдовам хорошую пенсию, и горный инспектор проявляет к нам сочувствие, хотя его сочувствие и стоит денег.
В полдень Твентимен-Джонс подозвал Шасу:
– Ваша мать сказала, вы должны отработать только половину смены. Я сейчас отправляюсь наверх. Вы поедете?
– Я бы предпочел остаться, сэр, – довольно робко ответил Шаса. – Мне бы хотелось посмотреть, как готовят шурфы для взрывов.
Твентимен-Джонс печально покачал головой:
– Весь в отца!
И ушел, бормоча что-то себе под нос.
Старший взрывник позволил Шасе поджечь запалы под его внимательным наблюдением. Это дало Шасе чувство важности и власти; он поднес воспламенитель к открытым концам запала, и огонь быстро побежал вперед, а Шаса наблюдал, как огнепроводные шнуры шипят, чернея, и над ними клубится голубой дымок.
Они вместе с главным взрывником побежали к месту отгрузки с криком «Огонь в котловане!», и Шаса немного задержался, пока не прогремел взрыв и земля не дрогнула у него под ногами.
Потом он сел на Престер-Джона и, пыльный, пропотевший, уставший донельзя и счастливый так, как редко бывало в его жизни, поскакал обратно вдоль водовода.
Он даже не думал о ней, пока не добрался до насосной станции, но она оказалась там, сидела верхом на покрашенной серебряной краской трубе водовода. Шаса испытал такое потрясение, что, когда Престер-Джон пугливо шарахнулся в сторону, чуть не вылетел из седла и был вынужден схватиться за луку.
Она вплела в волосы дикие цветы и расстегнула верхние пуговки блузки. В одной из книг в библиотеке Вельтевредена имелась иллюстрация, на которой изображались сатиры и нимфы, танцующие в лесу. Эта книга стояла в запретной секции библиотеки, которую Сантэн запирала на ключ, но Шаса потратил часть своих карманных денег на дубликат этого ключа, и с тех пор нимфы стали его любимицами среди всех эротических сокровищ библиотеки.
Аннализа была одной из них, лесной нимфой, лишь наполовину человеком, и она лукаво прищурилась, глядя на Шасу, и ее клыки, очень белые, выдавались вперед.
– Привет, Аннализа…
Голос Шасы предательски сорвался, а сердце заколотилось так бешено, что ему показалось, будто оно может запрыгнуть ему в горло и удушить его.
Девушка улыбнулась, но не ответила, а вместо этого лишь медленно погладила свою руку от запястья до обнаженного плеча. Шаса наблюдал, как ее пальцы приподнимают тонкие медные волоски на предплечье, и его чресла набухли.
А она наклонилась вперед и прижала указательный палец к нижней губе, продолжая коварно усмехаться, и ее грудь изменила очертания, вырез блузки распахнулся сильнее, и Шаса увидел кожу настолько белую и прозрачную, что сквозь нее просвечивали тонкие голубые вены.
Он сбросил стремена и занес ногу над холкой пони, собираясь покинуть седло эффектным прыжком, как делают игроки в поло, но девушка стремительно вскочила на ноги, еще раз высоко подняла юбку и, мелькнув кремовыми бедрами, легко спрыгнула по другую сторону трубы и скрылась в густом кустарнике на склоне.
Шаса помчался за ней и очутился в густых зарослях. Ветки царапали ему лицо и хватали за ноги. Он разок услышал ее хихиканье, где-то впереди, недалеко, но ему под ногу подвернулся камень, и Шаса тяжело упал, задохнувшись. Когда он собрался с силами и захромал следом за девушкой, ее уже и след простыл.
Он еще некоторое время бродил в кустах, его пыл быстро остывал; и когда он вернулся к трубе, оказалось, что Престер-Джон воспользовался его отсутствием и сбежал, и Шаса уже кипел гневом на себя и на девушку.
Пришлось проделать пешком весь долгий путь до бунгало, и Шаса сам не осознавал, насколько устал. К тому времени, когда он добрался до дома, уже стемнело. Пони с пустым седлом вызвал тревогу, но опасения Сантэн мгновенно сменились облегчением и яростью, когда она увидела сына.
Неделя в жаре и пыли рудника и монотонность работы начали угнетать, так что Твентимен-Джонс отправил Шасу работать у лебедки на главной отгрузке. Машинист лебедки оказался человеком неразговорчивым, замкнутым и ревнивым к своему делу. Он не позволял Шасе даже прикоснуться к механизмам управления лебедкой.
– Мой профсоюз такого не допускает.
Он упорно стоял на своем, и через два дня Твентимен-Джонс перевел Шасу на площадку выветривания.
Там руду рассыпала на открытом месте целая команда рабочих-овамбо, обнаженных до пояса и распевавших хором, пока они раскидывали и переворачивали руду под присмотром белых контролеров и черных надсмотрщиков.
В зоне выветривания лежали груды камней, тысячи тонн руды, рассыпанные на площади размером в четыре поля для игры в поло. Когда голубую породу взрывали, она была твердой, как бетон; ее могли измельчить лишь взрыв или десятифунтовые кувалды. Но после того как руда пролежала на солнце шесть месяцев, она начинала крошиться и становилась похожей на мел, делалась хрупкой, и ее можно было снова загружать в вагонетки и отправлять на дробилку и на промывку.
Шасу поставили надзирать над группой из сорока рабочих, и вскоре он завязал дружбу с надсмотрщиком-овамбо. Как и все его соплеменники, мужчина имел два имени: племенное, которое он держал в тайне от белых нанимателей, и рабочее. Его рабочим именем было Мозес. Он был лет на пятнадцать моложе других черных старшин, и выбрали его за ум и инициативность. Он хорошо говорил и на английском, и на африкаансе, и уважение, которое чернокожие рабочие обычно оказывали только возрасту, он заработал дубинкой, пинками и язвительным остроумием.
– Будь я белым, – сказал он Шасе, – я бы однажды получил место Доктелы.
Доктелой овамбо называли Твентимен-Джонса.
Потом Мозес продолжил:
– Я и так могу его получить однажды… а если не я, то мой сын.
Шаса был поражен, а затем заинтригован столь вопиющим заявлением. Ему никогда прежде не случалось сталкиваться с чернокожим, который не знал бы своего места в обществе. И как-то тревожно было находиться рядом с высоким овамбо, похожим на изображение египетского фараона из запретной части библиотеки Вельтевредена, но этот намек на опасность лишь пробуждал в Шасе еще более сильное любопытство.
Они обычно проводили вместе обеденный перерыв, и Шаса помогал Мозесу совершенствовать навыки чтения и письма; у Мозеса имелась замусоленная тетрадь, самое драгоценное из его имущества. Взамен овамбо учил Шасу основам своего языка, в особенности ругательствам и оскорблениям, и объяснял смысл некоторых песнопений рабочих, большинство из которых оказались непристойными.
«Делать детей – работа или удовольствие?»