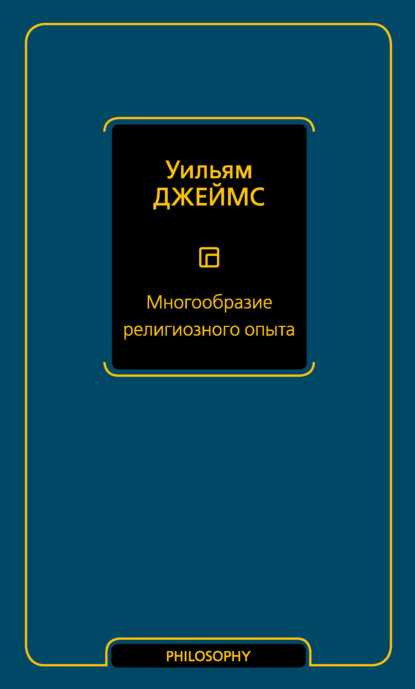По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Многообразие религиозного опыта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В психологическом отношении есть огромная пропасть между двумя способами приятия мира: между холодным подчинением необходимости у стоиков и восторженной ясностью духа христианских святых. Разница здесь так же велика, как между пассивностью и активностью, как между оборонительными и наступательными душевными состояниями. Как ни мало заметны те ступени, по которым человек постепенно переходит от одного из этих состояний к другому, как ни многообразны промежуточные состояния, – тем не менее, сопоставив крайние типы его, мы чувствуем, что перед нами два несоизмеримых психологических мира.
Сравнивая жизнь стоиков и глубоко верующих христиан, мы заметим нечто большее, чем простое теоретическое разномыслие; главное, чем они различаются друг от друга – это характер эмоциональных переживаний. В словах Марка Аврелия, когда он размышляет о вечном разуме, который дал начало мировому порядку, слышится такой суровый холод, какой вы редко встретите у еврейских и никогда не встретите у христианских религиозных писателей. Марк Аврелий так же, как и эти писатели, «приемлет» мир; но как далек дух римского императора от внутреннего огня последних! Сравните его рассудочное замечание: «Если боги не заботятся обо мне и моих детях, то у них есть к тому основания» с воплем Иова: «Ныне Он ввергнул меня в гибель, а завтра утешусь в Нем», – и вы сразу поймете, о каком различии я говорю. Душа вселенной (anima mundi), власти которой смиренно подчиняется стоик, будит чувство благоговения и покорности, а христианский Бог – чувство любви к Нему. Различие этих душевных эмоций напоминает разницу между полярным и тропическим климатом, хотя те пути, которыми человек приходит к этим состояниям, и могут показаться при абстрактном рассмотрении схожими.
«Нравственный долг, говорит Марк Аврелий, повелевает человеку в ожидании естественного конца поддерживать в себе бодрость духа и не впадать в уныние, а находить достаточное утешение в мыслях, что, во-первых, со мной не может случиться ничего, несогласного с природой мира, и что, во-вторых, я не должен делать ничего, что бы противоречило Богу и божественной Его природе во мне, ибо никто не может принудить меня нарушить Его законы» (Книга V, гл. X).
«Тот язва на теле вселенной, кто, недовольный чем-нибудь совершающимся в ней, выделяет себя из общего мирового порядка. Ибо та же природа, что породила тебя, породила и то, что ты проклинаешь. Принимай все радостно, даже если что и покажется тебе неприятным, потому что все в мире согласно с его законами и ведет к процветанию вселенной, к блаженству, и радости Зевса. Ибо Он не создал бы того человека, которого он создал, если он не был нужен для вселенной. Целостность мира будет нарушена, если ты посягнешь на что-нибудь в нем. А ты неизбежно сделаешь это, если в тебе будет жить недовольство, ибо тогда ты не устоишь перед искушением изменить естественное течение вещей» (Книга V, гл. I).
Сравните эти слова с тем, что говорит христианин, автор древней «Theologia Germanica».
«Когда люди озарены светом истинным, они отрекаются от всякого желания, от всякого выбора и предают себя и весь мир в руки Бога Предвечного. Каждый озаренный этим светом человек может сказать: «Да буду я для воли Божьей тем, что для меня рука моя». Такие люди обретают покой душевный и свободу, ибо они избавлены от страха перед чистилищем и адом, равно как и от надежды на райскую награду. Они живут в полной покорности Богу, в совершенной свободе горячей любви. Когда человек искренно полагает, созерцая себя, что он скверен, слаб и недостоин, то его самоунижение так глубоко, что ему кажется естественным, что все твари земные и небесные восстают на него. Тогда он не хочет и не смеет желать утешения и спасения; он даже хочет быть безутешным и неспасенным; он не жалуется на свои страдания, ибо они в глазах его справедливы и ему нечего сказать против них. Люди называют это раскаянием в грехах; и если кто войдет в душевный ад такого человека, – пусть не утешает его. Ибо Бог не покинул его в аду, но положил на него Свою руку, дабы он не желал, не чаял ничего, кроме Единого, Предвечного Бога. И когда человек не желает и не стремится ни к чему, только к единому Богу, не блага своего ищет, а славы Божьей, то Всемогущий даст ему все радости, все блаженство, мир душевный, отдохновение и утешение и введет в Царство Небесное. Этот рай и этот ад – пути спасения для человека, и блажен тот, кто воистину найдет их» (Глава X и XI, в сокращении).
Насколько активнее и сильнее те побуждения, которые заставляют христианского писателя принять отведенное ему во вселенной место! Марк Аврелий подчиняется мировому плану – немецкий богослов радостно сливается с ним. Он весь преисполнен им, готов идти восторженно и любовно навстречу божественному предначертанию.
Правда и стоик иногда возвышается до пылкости чувств христианина. Вот, например, часто цитируемое место из Марка Аврелия:
«Для меня прекрасно все то, что прекрасно для тебя, о Вселенная! Ничто не может для меня прийти слишком рано или слишком поздно, что своевременно для тебя. Я приемлю от тебя всякий плод, созревший во время, о природа; все от тебя, все в тебе и к тебе все возвратится. Поэт говорит: «Дорогой град Кекропса», так и я скажу: «Дорогой град Зевесов» (Книга IV, 23).
Ho сопоставьте эти строки с откровениями истинного христианина, – и они покажутся слишком холодными. Возьмем хотя бы отрывок из «Подражания Христу»:
«Господи, Ты знаешь, в чем благо; да будет все по воле Твоей. Воздай что хочешь, сколько хочешь, когда хочешь. Сделай со мной, что Твоя мудрость сочтет лучшим, что послужит к возвеличению Твоей славы. Поставь меня, куда соблаговолишь, и свободно распоряжайся мной на всех путях моих… Разве может быть дурное, когда Ты со мной? Я предпочитаю быть нищим ради Тебя, чем богатым без Тебя; предпочту быть бездомным скитальцем на земле с Тобой, чем без Тебя владеть небом. Где Ты, – там Царствие Небесное; где нет Тебя, – там смерть и геенна огненная»[16 - Книга III, главы XV и LIX. Ср. слова Мэри Муди Эмерсон (Mary Moody Emerson): «Дайте мне быть песчинкой в этом прекрасном мире, тайным одиноким страдальцем, с одним лишь достоянием: с уверенностью, что такова Его воля. Я буду любить Его; хотя он и вверг в холод и мрак пути мои» (R. W. Emerson. Lectures and Biografical Sketches. p. 183).].
При изучении физиологического назначения какого-либо органа полезно присмотреться к его наиболее своеобразным и специфическим свойствам и исследовать те его функции, которые не выполняет никакой другой орган. Тот же прием будет, несомненно, полезен и для нашего дела. Сущность религиозного опыта – то, что должно лечь в основу наших суждений о нем должно быть таким элементом или свойством его, какого мы более нигде не встретим. А такое свойство будет ярче всего выражено в самых односторонних, ненормально ярких и интенсивных религиозных переживаниях.
Мы убедимся, что эти интенсивные переживания сильно отличаются по своему характеру от переживаний среднего человека, которые часто бывают так рассудочны и холодны, что хочется назвать их не религиозными, а философскими. Именно эти, думается мне, специфические черты представляют существенное отличие религии, которое чрезвычайно важно для наших целей. Его легко обнаружить путем сравнения душевной жизни моралиста с одной стороны и христианина с другой, если мы возьмем эти два типа в отвлеченном виде. Поведение человека тем более заслуживает быть названным стоическим, моральным или философским, чем менее влияют на него низкие личные побуждения, и чем сильнее им руководят объективные цели, которые призывают его к деятельности даже в том случае, если лично ему деятельность приносит одно страдание. В войне есть та хорошая сторона, что она обращается с призывом к добровольцам. С точки зрения нравственности жизнь – война и служение высшему началу есть своего рода космический патриотизм, который тоже призывает на свою службу добровольцев. Даже слабый человек, неспособный сражаться внешним оружием, может принять участие в моральной битве. Он может добровольно отвратить свой духовный взор от помыслов о своей личной земной или загробной судьбе; может укрепить себя в равнодушии к своим временным маленьким делам и отдать свои помыслы вечным, за пределами его личной жизни лежащим целям; он может следить за общественными делами и принимать близко к сердцу чужие заботы; он может настолько воспитать свою волю, чтобы скрывать от чужих взоров свои горести. Может созерцать тот идеальный образ мира, который создала его философия и выполнять свой долг, – в чем бы он ни состоял: в терпении ли, в покорности или в верности, – долг, который предписывают ему его нравственные убеждения. Такой человек живет самой широкой, самой полнозвучной жизнью. Он полновластный господин над собою, а не жалкий раб своих страстей. И тем не менее ему недостает чего-то такого, что в большей степени имеют преимущественно верующие христиане, например святые, мистики и аскеты – и что делает их людьми совершенно особого порядка.
Христианские подвижники преодолевали самые острые болезненные состояния, и Жития Святых дают нам много примеров такой нечувствительности к телесным страданиям, которая вряд ли доступна другим людям. В то время как исполнение нравственного долга, как такового, предполагает всегда большое напряжение воли, – у христианских подвижников преодоление плоти является результатом высшего рода переживаний, в которых отсутствует волевое усилие. Моралист должен сдерживать дыхание и напрягать мускулы; и пока могут применяться эти гимнастические приемы, все идет хорошо, – достаточно одной нравственности. Ho возможность физического напряжения часто исчезает и должна исчезнуть именно в моменты высшего напряжения, когда начинает утомляться организм, и душой овладевает зловещий ужас. Требовать напряжения воли от опустошенной души, в которую вселилось чувство непреодолимого бессилия, значит требовать невозможного. Она жаждет быть утешенной в своем бессилии и почувствовать, что мир не покинул ее и готов спасти ее, несмотря на падение и гибель, в которой она находится. В конце концов ведь все мы так беспомощны! Лучшие и мудрейшие из нас могут быть поставлены на одну доску с помешанными и преступниками, и смерть подкашивает самых могучих. Всякий раз, как мы чувствуем это, нас охватывает сознание такой тщеты нашего волевого устремления, что все наше нравственное учение представляется нам лишь негодным пластырем для неизлечимой раны, а вся наша добродетель кажется нам жалкой подменой того совершенного бытия, которое мы хотели бы видеть, – но увы! тщетно – основанием нашего земного существования.
В такие моменты нашей избавительницей является религия, в свои руки принимает она нашу судьбу. Бывает такое душевное состояние, знакомое только религиозным людям, когда стремление спастись и подбодриться сменяется внезапной потребностью превратиться в ничто и стать незаметной пылинкой в источниках и кладезях Господних. При таком состоянии духа то, чего мы прежде страшились, становится средством спасения, а миг моральной смерти обращается в миг духовного рождения. Година скорби миновала в нашей душе, и наступила година счастливого отдохновения, глубокого мира, вечной жизни без заботы о страшном будущем. Душевное смятение не только заглушено, как это бывает в чисто моральных переживаниях, – оно совершенно изгнано и уничтожено.
В следующих лекциях пред нами пройдет много примеров этого счастливого душевного состояния. Мы увидим, какой страстной может быть религиозная вера в ее высших проявлениях. Как любовь, как ненависть, как надежда, честолюбие, как все вообще инстинктивные стремления и импульсы, – религия придает жизни оттенок очарования, который не может быть выведен рациональным или логическим путем ни из чего другого. Про это очарование, являющееся нам, как нежданный дар, физиологи говорят, что это дар нашего организма, а богословы, что оно дар благости Божьей. Для нас оно ни то, ни другое. Есть люди, которым в той же степени невозможно получить это очарование, как невозможно заставить себя загореться любовью. Таким образом, религиозное чувство оказывается расширением внутренней жизни субъекта, и дает ему новую сферу проявления сил. Когда жизненная борьба кончается поражением, и все рушится вокруг нас, это чувство возвращает к жизни наш внутренний мир, который без этого оставался бы безжизненной пустыней.
Слово «религия» в моем представлении должно обозначать для нас именно те повышенные эмоциональные переживания, то восторженное настроение, которые, попадая в сферу чистой морали, обречены на увядание и гибель. Оно должно означать новое царство свободы, свободы от всякой борьбы, песнь вселенной, раздающуюся в наших ушах, и вечную жизнь, открывающуюся нашим взорам[17 - Решаюсь повторить еще раз, что есть много людей, по большей части мрачного склада души, у которых нет этой радостной религиозности. Они религиозны, но в самом широком смысле слова; а в нашем, самом узком смысле слова, они не религиозны. Я именно и хочу, не затевая спор о словах, исследовать сначала религию в самом тесном значении этого слова для того, чтобы выяснить типичные и характерные для нее одной черты.].
Такое абсолютное и вечное блаженство мы находим только в религии. Оно отличается от всех видов физического блаженства, от всех житейских радостей присущим ему характером торжественности, о чем я уже не раз упоминал. Чрезвычайно трудно определить в отвлеченных терминах, что такое торжественность, но некоторые специфические признаки ее в достаточной степени очевидны. Торжественное настроение никогда не бывает простым и однородным. Оно всегда заключает в себе некоторую долю противоположного себе настроения. Торжественная радость содержит некоторую горечь в своей сладости; торжественное горе – единственное горе, пережить которое мы внутренне готовы согласиться. Ho есть писатели, которые, признавая, что высшая степень блаженства возможна только в религии, забывают это усложняющее дело обстоятельство, и считают всякое счастливое состояние, как таковое, религиозным. Например, Хэвлок Эллис отожествляет религию со всей той областью переживаний, благодаря которым душа освобождается от гнетущих ее состояний.
«Самые простые функции физиологической жизни, пишет он, могут служить человеку для его целей. Всякий, кто хорошо знаком с персидскими мистиками, знает, что вино можно рассматривать как средство вызывать религиозное чувство. Во всех странах и во все времена некоторые виды физического экстаза – пение, танец, опьянение, половое возбуждение – были тесно связаны с религией. Даже внезапное проявление души во взрыве смеха является уже в некоторой степени религиозным переживанием.
…Когда какое-нибудь впечатление от мира порождает в организме реакцию, которая не причиняет неудовольствия и вызывает не одно только сокращение мышц, но и радостное настроение всей души, – то это религия. В этом заключается цель наших неустанных стремлений, и мы радостно улыбаемся всему, что сулит дать нам это настроение»[18 - Havelock Ellis. The New Spirit. p. 232.].
Однако при таком полном смешении религии со всеми видами радостных состояний теряются из виду существенные особенности именно религиозной радости. Самое обычное чувство радости это то «облегчение», какое мы испытываем после того, как избавились от уже наступившего или угрожавшего нам зла. Ho в своих наиболее характерных проявлениях религиозная радость имеет мало общего с чувством «облегчения». Она не ищет облегчения, она принимает зло во внешнем мире, под формой чувства, но знает, что внутренне она постоянно его преодолевает. Если вы спросите каким образом религия борется с терниями жизни и смотрит в лицо смерти, таким образом уничтожая силу разрушения, – я не буду в состоянии ответить, ибо это тайна религии. Чтобы постичь ее, необходимо самому быть религиозным человеком крайнего типа. В примерах, которыми я буду иллюстрировать свое изложение, даже в примерах несложного и оптимистически окрашенного типа религиозного сознания, мы усмотрим сложность этого сознания, в котором сильная радость приходит в соприкосновение с некоторой долей печали. В Лувре есть картина Гвидо Рени, изображающая Архангела Михаила, попирающего ногою Дьявола. Прелестью своей картина обязана главным образом двум враждующим фигурам, изображенным на ней. Аллегорический смысл этой картины таков: мир богаче от того, что в нем есть Дьявол, которого мы попираем ногою. В религиозном сознании враждебное ему отрицательное (сатанинское) и трагическое начало имеют именно это значение, и поэтому религиозные переживания так богаты с эмоциональной точки зрения[19 - Эту аллегорическую иллюстрацию я заимствовал у моего покойного коллеги и друга Чарльза Эверетта (Charles Carroll Everett).]. Мы еще увидим, как у некоторых мужчин и женщин эти переживания принимают чудовищные аскетические формы. Были такие святые, которые с особенной силой поддерживали в себе отрицательные элементы религиозного чувства – унижение, физические лишения, мысль о страданиях и смерти, так как в душе усиливалась радость в той же мере, в какой увеличивались их тяжкие физические страдания. Никакое душевное движение, кроме религиозного, не может дать человеку таких переживаний. Вот почему, по моему мнению, мы должны искать ответа на вопрос о значении религии для человеческой жизни не в умеренных, а в резких проявлениях религиозного чувства.
Установив наиболее определенную форму того явления, к изучению которого мы приступили, мы можем дальше рассматривать его в любых его формах. И если мы почувствуем себя обязанными, как бы это ни было странно для нашего обычного образа мыслей, признать ценность религии и относиться к ней с уважением, то до некоторой степени будет доказано ее значение в жизни вообще. Подчеркивая и оттеняя крайние формы религиозного опыта, мы тем самым устанавливаем его нормальные границы.
Конечно, нашу задачу осложняет необходимость иметь так много дела с эксцентричностями и крайностями. «Как может религия быть самым значительным переживанием человека», могли бы вы задать мне вопрос, «если каждое ее проявление необходимо исправить, урезать и ввести в некоторые границы?» Ho я надеюсь, что из всего, что было сказано, вы уже пришли к заключению, что это возражение не выдерживает критики. То личное отношение, в каком индивидуум должен стоять к тому, что он признает Божеством – таково ведь было наше определение, – оказывается одновременно состоянием беспомощности и самоотречения. Это значит, что мы должны, во-первых, признать свою зависимость от чужого благоволения и, во-вторых, в той или иной степени отречься от благ земных для того, чтобы спасти свою душу. Вот какие требования предъявляет нам мир:
«Entbehren sollst du! sollst entbehren!
Das ist der ewige Gesang,
Der jedem an die Ohren klingt,
Den, unser ganzes Leben lang.
Uns heiser jede Stunde singt»[20 - «Отрекайся от своих желаний, отрекайся»! – такова вечная песня, звучащая в ушах всякого, песня, которую всю нашу жизнь хрипло поет нам каждый час. (Гете. «Фауст». Перевод П. И. Вайнберга).].
Ибо, что бы мы ни говорили и ни делали, мы в конце концов находимся в полной зависимости от мира: если беспристрастно присмотреться к некоторым нашим жертвам и отречениям, то будет ясно, что нас принуждает к ним наше стремление к неприкосновенности нашего покоя. При тех душевных состояниях, которые не достигают высот религии, отрекающийся от земных благ подчиняется велению необходимости, и жертва, в лучшем случае, бывает безрезультатна. Наоборот, при религиозных переживаниях жертвы и отречения действительно полноценны: даже ненужные жертвы лишь увеличивают душевную радость. Религия делает для человека легким и радостным то, что при других обстоятельствах для него является игом суровой необходимости. Если религия – единственная сила, способная выполнить эту задачу, то ценность ее, как проявления человеческого духа, стоит вне всяких сомнений. Она получает значение такого органа нашей душевной жизни, который выполняет функции, каких никакая другая сторона нашей природы не сможет выполнить с таким же успехом. С чисто биологической точки зрения – это необходимое заключение, к которому мы неминуемо должны были прийти. И мы пришли к нему именно тем чисто эмпирическим методом, схему которого я набросал перед вами в первой лекции. Что касается до других функций, выполняемых религией, как метафизическим откровением, то я пока умолчу о них.
В следующей лекции мы оставим в стороне те отвлеченные рассуждения, которые до сих пор загромождали нам путь, и перейдем непосредственно к рассмотрению фактов.
Лекция III
Реальность невидимого
Религиозную жизнь человека в самых широких и общих выражениях можно определить, как веру в существование невидимого порядка вещей и в то, что наше высшее благо состоит в гармоническом приспособлении к нему нашего существа. Эта вера и внутренняя жизнь в гармонии с ней образуют то, что можно назвать религиозным состоянием души. Я хотел бы в настоящей лекции заняться изучением тех особенностей нашего духа, которые дают нам возможность верить в реальность невидимого.
Все настроения наши, моральные, действенные или эмоциональные, так же как и религиозные, определяются «объектами» нашего сознания, – вещами, в реальное или отвлеченное существование которых наряду с нашим собственным существованием мы верим. Подобные объекты могут быть данными наших чувств или данными умозрения; в обоих случаях они вызывают в нас известную реакцию. И очень часто предметы чисто интеллектуальные заметно производят в нас не менее, – иногда же еще более сильную, – реакцию, чем предметы чувственного порядка. Воспоминание об оскорблении может вызвать в нас гнев, сильнейший, чем вызывало самое оскорбление. Стыд за совершенную неловкость ощущается иногда гораздо острее, когда эта неловкость уже отошла в прошлое.
Вообще, все высшие проявления нашей умственной и нравственной жизни покоятся на том факте, что ощущения настоящего мига часто имеют на наши поступки более слабое влияние, чем воспоминания об отдаленных событиях. Самые несомненные объекты религиозного чувства у большинства людей, – те конкретные божества, которым они поклоняются, – известны им только в идее. Немногим христианам дано было в чувственном образе увидать их Спасителя.
Однако нам известно довольно много случаев таких видений, явившихся чудесным исключением, и они заслуживают того, чтобы мы позже обратили на них внимание. Могущество христианской религии, в которой душевный строй человека определяется его верой в личного Бога, опирается на чистые идеи, не вытекающие непосредственно из прошлого опыта личности.
Наряду с представлениями конкретных религиозных объектов в религии есть много идей отвлеченного характера, имеющих в ней не меньшее значение. Атрибуты Бога, – Его святость, справедливость, милосердие, Его бесконечность, всеведение, троичность, тайна искупления, – таинство причастья и т. д. всегда были для верующих христиан неиссякаемым источником подкрепляющих душу размышлений[21 - Я нахожу большое подкрепление в размышлениях о текстах, которые выясняют нам сущность Духа святого и Его отличие от Отца и Сына. Это темный вопрос, пока не проникнешь в его глубину. Ho когда он хоть раз вполне озарится, у нас является о существе Божьем и о делах Его более полное и более верное знание, чем в то время, когда мы думали о воздействии на нас одного Духа Святого (Augustus Hare: Memorials. I. p. 224; Maria Hare to Lucy Hare).].
Мы увидим ниже, что лица, которые могут служить нам авторитетом в деле мистического опыта, к какой бы религии они ни принадлежали, утверждают, что отсутствие определенного чувственного образа есть необходимое условие совершенной молитвы и созерцания высших божественных истин. Именно от этих созерцаний верующие всегда ждут (и как мы увидим, с полным основанием), что они окажут благотворное влияние на их душу.
Кант предложил любопытную доктрину, относящуюся к таким предметам веры, как Бог, цель творения, душа, ее свобода и загробная жизнь. По его теории их нельзя считать предметами знания. Для того, чтобы наши представления дали нам действительное знание, они должны иметь чувственное содержание. Такие слова, как «душа», «Бог», «бессмертие», не заключают в себе никакого сколько-нибудь отчетливого чувственного содержания, откуда следует, что с точки зрения теоретического познания эти слова лишены всякого значения. И в то же время, как это ни странно, в практическом отношении они имеют совершенно определенный смысл. Мы можем поступать так, как если бы Бог существовал; можем чувствовать так, как если бы в действительности были свободны; рассматривать Природу так, как если бы она была вполне целесообразна; можем думать о нашем будущем так, как если бы мы были бессмертны. И мы видим, что эти идеи могут в действительности изменить всю нашу моральную жизнь. Таким образом, с практической точки зрения (in praktischer Hinsicht, по выражению Канта), т. е. с точки зрения нашего действования – наша вера в существование непознаваемых объектов является полным эквивалентом знания о том, какими бы эти объекты были, если бы они стали доступными нашему познанию. Итак, по теории Канта оказывается, как это ни странно, что разум твердо убежден в реальности таких объектов, о которых он не может иметь никакого положительного знания. Я не намерен оспаривать здесь эту оригинальную доктрину Канта. Я ее привел, чтобы иллюстрировать классическим в своей преувеличенности примером ту характерную склонность человеческого ума, которую мы рассматриваем в данном случае. Предмет нашей веры иногда приобретает для нас такую реальность, что под влиянием его изменяется вся наша жизнь, несмотря на то, что самый предмет, его определенные черты ускользают от нашего познания. Вообразим железный прут, который был бы одарен живым магнетическим сознанием. Без всякого зрительного и осязательного ощущения он чувствовал бы различные изменения в своем магнетическом состоянии под влиянием магнитов, которые перемещались бы вокруг него. И эти изменения проявились бы в его сознании, как разного рода желания и настроения. Бессильный дать нам внешнее описание тех предметов, которые имеют власть приводить его в такое сильное возбуждение, он, тем не менее, живо ощущал бы всеми фибрами своего существа присутствие этих предметов и их значение для его жизни.
И не только Кантовским идеям чистого разума дана власть возбуждать в нас живое ощущение реальностей, для описания которых у нас нет слов. Есть высшие абстракции и в других областях, влияющие на нас тем же неуловимым образом. Вспомните отрывки из Эмерсона, которые я цитировал в предыдущей лекции. Да и не нужно быть таким крайним идеалистом, как Эмерсон, для того, чтобы почувствовать, что видимый нами мир, мир конкретных вещей, так сказать, погружен во вселенную более обширную, в мир абстракций, которые одни придают всему конкретному его смысл и ценность. Как время, пространство и эфир проникают все тела, так же согласно нашему внутреннему чувству абстрактные сущности добра, красоты, силы, значительности, справедливости проникают собою все доброе, прекрасное, мощное, значительное и справедливое. Эти идеи, наряду с другими абстракциями, представляют фон нашей мысли, источник всех постигаемых нами возможностей.
Они образуют в каждом предмете то, что мы называем его «природой». Каждая вещь, какую мы знаем, есть то, что она есть, лишь в силу своей принадлежности к той или другой абстрактной сущности. Мы не можем созерцать их непосредственно потому, что они не имеют свойств физического тела, но все остальное мы постигаем только через их посредство. Мы остановились бы в полной беспомощности перед реальным миром, если бы нам пришлось утратить те орудия познания, которые мы называем методами классификации и обобщения. Важнейшим свойством нашего ума является его безусловная подчиненность абстрактным идеям. Подобно тому, как магнит группирует вокруг своих полюсов частички железа, так абстрактные идеи то привлекают, то отталкивают нас, и мы ищем их, стремимся к ним, ненавидим и благословляем их, как если бы они были существами реальными. И они действительно реальные существа в своем мире, совершенно так же, как преходящие явления реальны в мире пространственном. Платон так блестяще и убедительно защищает это общее людям чувство, что учение о реальности отвлеченных понятий до сих пор называется платоновской теорией идей. Абстрактная красота, например, для Платона – индивидуальное бытие, вполне определенное. Разум постигает ее, как нечто отражающееся в бренной земной красоте.
«Истинный путь к любви», говорится в знаменитом месте Платоновского «Пира», «который приходится или самому пролагать себе, или которым приходится идти под руководством кого-нибудь другого, состоит в том, чтобы, начиная с прекрасных вещей, постоянно возвышаться к самой красоте, переходя постепенно от любви одной формы к любви двух, и от любви двух к любви всех прекрасных форм, и от прекрасных форм к прекрасным занятиям, от прекрасных занятий к прекрасным наукам и, наконец, достигнуть того знания, которое уже есть ничто иное, как знание красоты самой в себе»[22 - Платон. Пир. XXIX (Цитировано по русскому пер. И. Д. Городецкого. М. 1908, стр. 77–78).].
Выше мы видели, как платонизирующий ум Эмерсона признал отвлеченную божественную сущность явлений и нравственный порядок вселенной реальностью, достойною поклонения. В тех многочисленных церквах без Бога, которые основываются теперь везде под именем этических обществ или моральных союзов, мы встречаем такое же преклонение перед отвлеченным божеством, видим, как моральный закон становится последним объектом веры. Во многих умах «Наука» занимает место религии; человек науки постигает «законы природы», как объективные реальности, вызывающие в нем благоговейные чувства.
По великолепному определению одной школы боги греческой мифологии были полуметафорическим олицетворением тех широких областей отвлеченных законов, на которые распадается мир природы: неба, океана, земли и т. п. Мы и теперь говорим об «улыбке утра», о «лобзании ветра», о «дыханье мороза», не думая ни минуты об олицетворении сил природы[23 - Природа всегда хороша, в каком бы виде она ни являлась перед нами; когда идет дождь, мне кажется, что я вижу прекрасную плачущую женщину – она кажется тем более прекрасной, чем более она печальна (В. de.St.Pierre).].
Мы не можем сейчас дольше останавливаться на происхождении верования эллинов в их богов; но вся совокупность наших данных приводит приблизительно к следующему выводу: есть, по-видимому, в сознании человека чувство реальности, ощущение объективного бытия, восприятие объективного бытия, представление о том, что существует нечто. Это чувство более глубокое и более общее, чем всякое другое «чувство», согласно с выводами современной психологии должно бы считаться непосредственным источником наших откровений. И если это так, все наши чувства должны прежде всего пробуждать в нас это чувство реальности. Ho если какое-нибудь постороннее влияние, влияние идеи, например, повысит это чувство, оно легко может приобрести для нас ту реальность, какая составляет привилегию нормальных чувственных восприятий. Поскольку религиозные представления способны пробудить в нас это чувство реального, мы верим в них вопреки здравому смыслу даже в том случае, если они настолько смутны, что не могут стать образами нашего воображения. Мы верим в них даже тогда, когда с точки зрения вещности они оказываются несуществующими, как объекты теологии у Канта. Наиболее любопытные доказательства существования такого первичного чувства реальности доставляют нам некоторые «галлюцинации». Нередко случается, что «галлюцинация» не достигает полного развития: человек внезапно ощущает рядом с собой чье-то «присутствие», занимающее определенное место в пространстве, существующее в особой неуловимой форме, реальное самой интенсивной реальностью, хотя и невидимое, неслышимое, неосязаемое, недоступное ни одному из органов чувств. Я приведу несколько примеров таких галлюцинаций раньше, чем перейти к случаям, непосредственно относящимся к религии.
Один из моих близких друзей, человек высокой интеллигентности, несколько раз испытывал это странное ощущение. Он ответил на мои вопросы следующим образом:
«Несколько раз в продолжение последних лет я испытывал то, что можно назвать ощущением «чьего-то присутствия». Этот опыт совершенно отличен от другого, который я часто переживал, и который, я думаю, многие назвали бы этим же именем. И разница эта так велика, как между легким ощущением теплоты и тем, что испытывают люди, охваченные огнем пожара. Впервые это новое ощущение я пережил в сентябре 1884 года. Я жил тогда в моей университетской квартире. Однажды ночью, когда я был уже в постели, я испытал очень ясную галлюцинацию осязания: мне почудилось, что кто-то взял меня за руку; я встал и начал искать, нет ли кого-нибудь постороннего в моей комнате. Ho чувство настоящего присутствия невидимого пришло ко мне позже, одну ночь спустя. Я уже был в постели и погасил свечу. Меня охватило раздумье о пережитом мною в прошлую ночь; вдруг я почувствовал, как что-то вошло в мою комнату и остановилось у моей постели. Это продолжалось не больше двух минут. Я познал это без помощи моих обычных чувств; вместе с тем я весь был потрясен особым «ощущением» невыразимо гнетущего характера. Оно задело во мне глубины моего бытия сильнее, чем обычные восприятия. Как будто что-то с болью разорвалось внутри меня – особенно это ощущалось в груди. И скорее это был ужас, чем боль. Несомненно, нечто было возле меня, и в его присутствии я меньше сомневался, чем в существовании людей, состоящих из плоти и крови. И об исчезновении его я так же отчетливо узнал, как о его приходе; оно мгновенно исчезло через двери, и в тот же миг «ужасное ощущение» рассеялось.
В следующую ночь, когда я вошел к себе, размышляя о лекциях, над которыми я работал, я сразу ощутил присутствие, но не появление того, что было здесь прошлой ночью, и это сопровождалось тем же чувством ужаса. Я сосредоточил все силы души, чтобы заставить «это» исчезнуть, если оно враждебно мне; а если нет, то заставить открыться мне, кто или что оно; если же оно не может мне ничего объяснить, пусть удалится. И оно удалилось, как в прошлую ночь, и мое тело быстро вернулось к нормальному состоянию. Это «потрясающее ощущение» я пережил еще два раза в моей жизни. Один раз оно продолжалось целые четверть часа. Во всех трех случаях уверенность, что вне меня находилось нечто, была неизмеримо сильнее, чем обычная уверенность в присутствии людей, которых перед собой видишь. Это «нечто», казалось, стояло вплотную около меня и было гораздо более реально, чем предметы обычных восприятий. Не взирая на то, что оно казалось мне чем-то схожим со мною, т. е. заключенным в какие-то границы, маленьким и несчастным, оно не казалось мне ни индивидуальным существом, ни личностью».
Такой опыт, конечно, не касается чисто религиозной области. Ho, тем не менее, при известных условиях он может приблизиться к ней. То же лицо сообщило мне, что у него это ощущение невидимого присутствия, столь же сильное и определенное, не раз сопровождалось чувством радости.
«У меня не было еще сознания ничьего присутствия; но глубина наводнившей меня радости принесла мне ослепляющую уверенность какого-то невыразимого блага. Это не было то неопределенное ощущение, какое дает нам поэма, драма, цветок или музыка: это была твердая уверенность в присутствии какой-то могущественной личности вблизи меня.
Когда оно прошло, от него осталось устойчивое воспоминание, какое бывает только от реальных событий. Если бы все другие впечатления оказались сном, оно одно осталось бы действительностью».
Как ни странно это, но мой друг не истолковал этого переживания, как свидетельство о присутствии Божием, хотя было бы совершенно естественно усматривать здесь откровение бытия Божия. В главе о мистицизме я подробнее остановлюсь на этом. Я приведу здесь еще несколько подобных фактов, достоверность которых не подлежит сомнению. В первом отрывке, который я заимствую из «Журнала Общества Психологических Исследований» (Journal of the Society for Psychical Research) есть рассказ о том, как чувство невидимого присутствия развилось в зрительную галлюцинацию (я выпускаю часть рассказа).