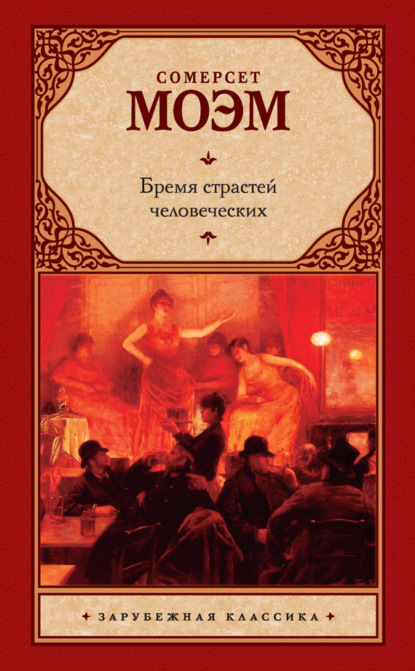По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бремя страстей человеческих
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пора домой, – сказала мисс Уилкинсон.
Глава 33
Филип никак не мог забыть рассказ мисс Уилкинсон. Правда, она оборвала его на половине, но то, чего она не досказала, было и так ясно, и Филип почувствовал, что он шокирован. Это могла себе позволить замужняя женщина – Филип прочел немало французских романов и знал, что во Франции такое поведение казалось делом обычным, – но мисс Уилкинсон была не замужем, англичанка и к тому же дочь священника. Потом его осенила мысль, что молодой художник – по-видимому, не первый и не последний ее любовник, и у него даже дух захватило; никогда еще он не пробовал взглянуть на мисс Уилкинсон с этой стороны; он и не представлял себе, что с ней можно завести роман. По своей наивности он так же мало сомневался в правдоподобии ее рассказа, как и во всем, что прочел в книгах; он злился, что с ним никогда не случалось таких удивительных приключений. Стыдно было подумать, что, если мисс Уилкинсон снова потребует отчета о его похождениях в Гейдельберге, ему нечего будет ей рассказать. Правда, Филип обладал некоторым воображением, но все же он не надеялся убедить ее, будто погряз в пороках: женщины обладали такой дьявольской интуицией – он читал и об этом! – и она с легкостью обнаружит, что он привирает. Он краснел как рак при мысли о том, что она станет посмеиваться над ним исподтишка.
Мисс Уилкинсон играла на пианино и пела слегка надтреснутым голосом романсы Массне, Бенжамена Годара и Огюсты Ольмес; Филип их слышал впервые; вдвоем они проводили за пианино долгие часы. Как-то раз она спросила, есть ли у него голос, и пожелала это проверить. Сказав, что у него приятный баритон, она предложила давать ему уроки. Сначала, застеснявшись, он было отказался, но она настояла на своем и стала заниматься с ним каждое утро после завтрака. Мисс Уилкинсон была врожденным педагогом, и он почувствовал, какая она отличная гувернантка. В ее преподавании были система и настойчивость. Хотя она так привыкла говорить с французским акцентом, что никогда уже об этом не забывала, с нее сходила вся ее слащавость, как только начинался урок. Тут ей было не до глупостей. У нее появлялся повелительный тон, она пресекала малейшее невнимание и корила за неаккуратность. Она знала свое дело и заставляла Филипа петь гаммы и вокализы.
Когда кончался урок, она без всякого усилия снова принималась зазывно улыбаться, голос ее опять становился мягким и вкрадчивым, но Филипу не так легко было перестать чувствовать себя учеником, как ей – учительницей. Новое обличье мисс Уилкинсон не совпадало с тем образом, который создали ее рассказы. Он стал приглядываться к ней внимательнее. Она куда больше нравилась ему по вечерам. Утром на ее лице отчетливо видны были морщины, да и кожа на шее казалась дряблой. Ему бы хотелось, чтобы она не выставляла свою шею напоказ, но погода стояла жаркая и она носила блузки с большим вырезом. Ей нравилось одеваться в белые платья, но по утрам этот цвет был ей не к лицу. Вечером, надев нарядное платье и гранатовое ожерелье на шею, она казалась почти хорошенькой, кружева на груди и у локтя придавали ей мягкую женственность, а запах духов был волнующим и напоминал о дальних странах (в Блэкстебле никто не употреблял ничего, кроме одеколона, да и то лишь по воскресеньям или разве еще от головной боли). Мисс Уилкинсон тогда и в самом деле выглядела совсем молодой.
Филипа очень занимал ее возраст. Он складывал двадцать и семнадцать, и никак не мог удовлетвориться итогом. Не раз он допрашивал тетю Луизу, почему она думает, что мисс Уилкинсон уже тридцать семь лет: на вид ей не дашь больше тридцати; к тому же иностранки, как известно, стареют быстрее англичанок, а мисс Уилкинсон так долго жила за границей, что может сойти за иностранку. Лично он не дал бы ей больше двадцати шести.
– Нет, ей куда больше, – отвечала тетя Луиза.
Филип не верил своим дяде и тете. Им помнилось отчетливо лишь то, что мисс Уилкинсон носила косу, когда они жили в Линкольншире. Но ей могло быть тогда лет двенадцать: дело было так давно, а на память священника вообще нельзя было полагаться. Они утверждают, что с тех пор прошло двадцать лет, но люди любят округлять; может быть, прошло всего лет восемнадцать, а то и семнадцать. Семнадцать плюс двенадцать – всего-навсего двадцать девять, а это, черт возьми, еще не старость. Клеопатре было сорок восемь, когда Антоний ради нее отрекся от власти над миром.
Лето было чудесное. Изо дня в день стояла жаркая, безоблачная погода, но зной смягчался близостью моря; от него шла бодрящая свежесть, и августовское солнце совсем не утомляло. В саду был бассейн, в нем журчал фонтан и росли лилии, а у самой поверхности воды грелись на солнце золотые рыбки. После обеда Филип и мисс Уилкинсон, захватив из дому пледы и подушки, устраивались на лужайке в тени высокой изгороди из роз. Там они читали, болтали и курили – священник не выносил табачного дыма; он считал курение отвратительной привычкой и часто повторял к месту и не к месту, что стыдно быть рабом своих привычек. При этом он забывал, что сам был рабом своего пристрастия к чаю.
Однажды мисс Уилкинсон дала Филипу «La vie de Boh?me»[33 - «Жизнь богемы» (ф?.).]. Она нашла книгу случайно, роясь в шкафу священника: мистер Кэри купил ее у букиниста заодно с другими книгами и целых десять лет не открывал.
Филип принялся читать увлекательный, плохо написанный и нелепый шедевр Мюрже и сразу почувствовал его обаяние. Его покорила пестрая картина беззаботного недоедания, живописной нужды, не слишком целомудренной, но такой романтической любви и трогательная смесь высоких чувств и обыденного. Родольф и Мими, Мюзетта и Шонар! Одетые в причудливые костюмы времен Луи-Филиппа, они бродят по узким улицам Латинского квартала, находя убежище то в одной, то в другой мансарде, улыбаясь и проливая слезы, беспечные и безрассудные. Кто перед ними устоит? Лишь перечтя эту книгу в зрелости, вы увидите, как грубы их развлечения и пошлы их души, тогда вы почувствуете, как никчемен весь этот веселый хоровод, поймете, до чего ничтожны они как художники и как люди.
Филип бредил этой книгой.
– Разве вы не хотели бы поселиться в Париже вместо Лондона? – спросила мисс Уилкинсон, посмеиваясь над его восхищением.
– Сейчас уже поздно, даже если бы я и хотел, – ответил он.
Целые две недели после того, как он вернулся из Германии, они с дядей обсуждали его будущее. Он окончательно отказался поступать в Оксфорд, и сейчас, когда исчезли все виды на получение стипендии, даже мистер Кэри пришел к выводу, что Филипу это не по средствам. Ему досталось от родителей всего две тысячи фунтов, и, хотя они были помещены в закладные, приносившие пять процентов в год, он не мог свести концы с концами, не трогая основного капитала. Теперь его состояние немного уменьшилось. Было бы глупо целых три года тратить по двести фунтов – университетская жизнь в Оксфорде обошлась бы ему не дешевле – и в конце концов по-прежнему не иметь доходной профессии. Он горел нетерпением отправиться в Лондон. Миссис Кэри считала, что для джентльмена были возможны только четыре профессии: армия, флот, суд и церковь. К этому списку она соглашалась добавить медицину, поскольку ее зять был врачом, но не могла забыть, что в дни ее молодости никто не считал врача джентльменом. Первые две профессии для Филипа были закрыты, а священником он сам наотрез отказывался стать. Оставалась профессия юриста. Местный врач заметил, что многие джентльмены идут теперь в инженеры, но миссис Кэри решительно воспротивилась.
– Мне не хотелось бы, чтобы Филип стал ремесленником, – сказала она.
– Нет, он должен получить настоящую профессию, – откликнулся и священник.
– Почему бы ему не сделаться врачом, как его отец?
– Ни за что, – сказал Филип.
Миссис Кэри этот отказ не огорчил. Адвокатура тоже как будто отпадала, поскольку он не собирался поступать в Оксфорд, а семейство Кэри было убеждено, что для успеха в этой области требовался диплом. В конце концов возникла мысль отдать его в учение к юристу. Было послано письмо Альберту Никсону – поверенному, который вел дела их семьи; вместе с блэкстеблским священником он был душеприказчиком покойного Генри Кэри; в письме спрашивали, не возьмет ли он Филипа в ученье. Через несколько дней пришел ответ, что у мистера Никсона нет вакансий и он решительно возражает против всей затеи в целом: юристов и так слишком много, и без капитала или связей в этой профессии невозможно пробиться выше должности старшего клерка; Филипу имеет смысл стать присяжным бухгалтером. Ни священник, ни его супруга понятия не имели, что это такое, да и Филип никогда не слышал о присяжных бухгалтерах. Но в следующем письме их поверенный объяснил, что рост современной торговли и промышленности и развитие акционерных обществ привели к созданию многочисленных бухгалтерских фирм для проверки расчетных книг и наведения в финансовых делах клиентов порядка, отсутствовавшего в старые времена. Несколько лет назад бухгалтеры получили королевские привилегии, и с тех пор с каждым годом эта профессия становилась все более уважаемой, процветающей и влиятельной. В бухгалтерской фирме, которая вот уже тридцать лет вела финансовые дела Альберта Никсона, как раз освободилась вакансия ученика, и ее готовы были предоставить Филипу за вознаграждение в триста фунтов стерлингов. Половина этой суммы возвращалась ему в течение пятилетнего обучения в виде жалованья. Будущее было не бог весть каким блестящим, но Филип сознавал, что ему надо на что-то решиться, а страстное желание жить в Лондоне побеждало все его сомнения. Священник запросил мистера Никсона, подходящая ли это профессия для джентльмена; мистер Никсон ответил, что после получения привилегий в бухгалтеры пошли люди, учившиеся в закрытых учебных заведениях и даже в университете; больше того, если работа Филипу не понравится и через год ему захочется уйти, Герберт Картер – так звали владельца бухгалтерской фирмы – готов вернуть половину денег, внесенных за учение. Это решило вопрос; условились, что Филип приступит к работе пятнадцатого сентября.
– У меня впереди целый месяц, – сказал Филип.
– И затем вы обретете свободу, а я вернусь к своему рабству, – заметила мисс Уилкинсон.
У нее был полуторамесячный отпуск, и она должна была уехать из Блэкстебла за день или за два до отъезда Филипа.
– Встретимся мы с вами когда-нибудь еще или нет? – добавила она.
– А почему бы нам не встретиться?
– Ах, не говорите об этом так прозаично. Никогда еще не видела более бесчувственного человека.
Филип покраснел: он боялся показаться мисс Уилкинсон молокососом. В конце концов она женщина молодая, иногда даже хорошенькая, а ему уже скоро двадцать лет; глупо только и делать, что беседовать об искусстве и литературе. Ему надо за ней поухаживать. Они столько говорили о любви. Она рассказала ему о молодом художнике с улицы Бреда и о портретисте, в семье которого так долго жила в Париже: этот попросил ее позировать, но с первого же сеанса стал так назойливо к ней приставать, что ей пришлось придумывать всякие отговорки, чтобы не оставаться с ним наедине. Мисс Уилкинсон, по-видимому, привыкла к вниманию мужчин. Сейчас она выглядела очень мило в соломенной шляпке с большими полями: день был жаркий – самый жаркий за все лето, – и на верхней губе у нее выступили капельки пота. Он вспомнил фрейлейн Цецилию и герра Суна. Филипу никогда не нравилась Цецилия как женщина – уж очень она была некрасива; но задним числом эта история казалась очень романтичной. Теперь вот и ему подвернулся случай завести интрижку. Мисс Уилкинсон была почти француженкой, и это придавало флирту с ней особую пикантность. Думая о мисс Уилкинсон по ночам в постели или же в саду над книгой, Филип чувствовал какое-то волнение, но стоило мисс Уилкинсон появиться, и роман с ней уже не казался ему таким заманчивым.
Во всяком случае, после того, что она ему рассказывала, ее вряд ли удивит, если он станет за ней ухаживать. Он подозревал, что она считает его просто чудаком и не понимает, почему он не делает никаких попыток; быть может, ему только кажется, но раза два за последние дни он прочел в ее глазах презрение.
– О чем вы задумались? – с улыбкой спросила мисс Уилкинсон.
– Не скажу, – ответил он.
Он думал, что ему надо тут же ее поцеловать, сразу! Интересно, хочет она этого или нет; и все же он не представлял себе, как можно взять да и поцеловать женщину – просто так, без всяких предисловий. Она еще подумает, что он взбесился, даст ему пощечину или пожалуется дяде. Интересно, как начинал ухаживать за фрейлейн Цецилией герр Сун. Вот будет номер, если она скажет дяде; он знал дядюшку и не сомневался, что тот сразу же поделится новостью с доктором и с Джозией Грейвсом – ну и болваном же будет тогда выглядеть Филип! Тетя Луиза не переставала твердить, что мисс Уилкинсон не меньше тридцати семи лет; он дрожал при мысли о том, что станет посмешищем всей округи, – чего доброго, еще скажут, будто она ему в матери годится!
– А все-таки о чем вы задумались? – улыбнулась мисс Уилкинсон.
– О вас, – храбро ответил он.
Во всяком случае, эти слова его ни к чему не обязывали.
– Что же вы обо мне думали?
– Вот и не скажу.
– Ах, негодник! – воскликнула мисс Уилкинсон.
Вот всегда так! Стоит ему собраться с духом, как она произносит слово, сразу напоминающее ему, что она – гувернантка. Когда он фальшиво поет гаммы, она тоже, шутя, зовет его негодником.
На этот раз он даже надулся.
– Прошу вас, – произнес он, – не обращайтесь со мной, как с ребенком.
– Вы сердитесь?
– Очень.
– Я вовсе не хотела вас обидеть.
Она протянула руку, и он ее пожал. Несколько раз за последнее время, когда они прощались перед сном, ему чудилось, что она слегка пожимает его руку; сейчас в этом не могло быть сомнений.
Он не знал, как быть дальше. Наконец-то ему подвернулся удобный случай; он будет последним дураком, если не воспользуется им; но все было не так, как он себе представлял, – проще, прозаичнее. В книгах он часто встречал описания любовных сцен, в себе же он не ощущал ничего похожего на половодье чувств, изображаемое авторами романов; страсть не кружила ему голову, да и мисс Уилкинсон не была его идеалом; он часто представлял себе огромные синие глаза и белоснежную кожу неведомой красавицы; воображал, как погружает лицо в густые, волнистые пряди ее каштановых волос. Но разве можно было погрузить лицо в волосы мисс Уилкинсон – они всегда казались ему какими-то липкими. И все же хорошо было бы завести интрижку; он уже заранее ощущал законную гордость, которую принесет ему эта победа. Он был обязан ее соблазнить. И он решил непременно поцеловать мисс Уилкинсон, правда, не сейчас, а вечером: в темноте будет легче; ну а дальше все пойдет как по маслу. Решено: он ее сегодня же поцелует. Филип дал себе клятву, что он ее поцелует.
Филип выработал план кампании. После ужина он предложил ей пройтись по саду. Мисс Уилкинсон согласилась, и они стали прогуливаться. Филип нервничал. Не известно почему, разговор никак не принимал нужного оборота; он решил раньше всего обнять ее за талию; но как это сделать, если она говорит о парусных состязаниях, назначенных на будущую неделю? Он коварно привел ее в самый темный уголок сада, но, когда они там очутились, мужество его покинуло. Потом они сели на скамейку, и стоило ему убедить себя, что настала решительная минута, как мисс Уилкинсон заявила, будто тут водятся уховертки, и они двинулись дальше. Они снова обошли весь сад, и Филип дал себе слово, что перейдет в атаку, прежде чем они дойдут до дальней скамейки, но возле дома их окликнула с порога миссис Кэри:
– Не лучше ли вам, молодые люди, вернуться? Ночью прохладно, вы можете простудиться.
– Может, и в самом деле лучше пойти домой? – сказал Филип. – Я вовсе не хочу, чтобы вы простудились.
У него невольно вырвался вздох облегчения. Все равно сегодня ничего не выйдет. Но позже, в своей комнате, он страшно на себя обозлился. Ну и дурак! Он ничуть не сомневался, что мисс Уилкинсон ждала его поцелуя – зачем бы она пошла с ним в сад? Недаром она всегда повторяла, что только французы умеют ухаживать за женщинами. Филип читал французские романы. Будь он французом, он схватил бы ее в объятия, страстно объяснился в любви и впился губами в ее затылок. Непонятно, почему французы всегда целуют дам в затылок? Лично он не видел в затылках ничего привлекательного. Конечно, французам куда легче вести себя таким образом – один французский язык чего стоит! Филип никак не мог отделаться от ощущения, что на английском языке любовные признания звучат как-то нелепо. Сейчас он уже сожалел, что затеял осаду мисс Уилкинсон и ее добродетели; первые две недели они провели так весело, а теперь его гнетет вся эта история. Но он не намерен сдаваться, не то он потеряет к себе всякое уважение; Филип бесповоротно решил, что завтра вечером поцелует ее во что бы то ни стало.
Проснувшись на другое утро, он увидел, что идет дождь; первая его мысль была о том, что они не сумеют вечером пойти в сад. За завтраком он был в отличном настроении. Мисс Уилкинсон передала через Мэри-Энн, что у нее болит голова и она останется в постели. Она спустилась только к вечернему чаю – бледная, в премиленьком капоте; но к ужину совсем поправилась, и за столом было очень весело. После молитвы мисс Уилкинсон заявила, что сразу ляжет спать и, прощаясь, поцеловала миссис Кэри. Затем она повернулась к Филипу.