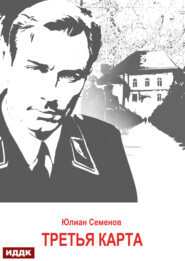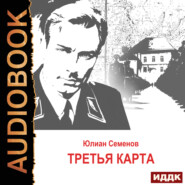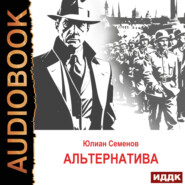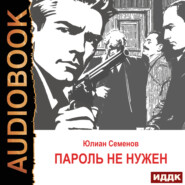По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Экспансия – III
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пол, мы получили письмо от Крис.
– Мне она тоже прислала телеграмму.
– Я хочу, чтобы ты прочитал ее письмо при мне.
– Слушай, Грегори, я чертовски не люблю сентиментальных сцен: добрый друг наставляет заблудшего, разговор по душам, глоток виски и сдержанное рыдание... Это все из штампов Голливуда...
– Ты можешь обижать меня, как тебе вздумается, Пол... Я все равно не обижусь, потому что люблю тебя... И знаю, что нет на земле лучшего человека, чем ты... Задирайся, валяй, все равно ты прочитаешь ее письмо при мне... Или, если хочешь, я его тебе прочту сам...
– Поскольку здесь им трудно оборудовать звукозапись, можешь читать.
– Что с тобой, Пол?
– Ровным счетом ничего. Просто я ощутил себя абсолютным, законченным, размазанным дерьмом. А поняв это, я стал отвратителен самому себе. Ясно? Я помог Крис уйти от меня. Я не хочу, чтобы она жила с дерьмом, понимаешь?
– Погоди. Сначала послушай, что она пишет...
– Я читал, что она написала перед тем, как уехать! Она сбежала! Она бросила меня! Да, да, да! Не делай печальное лицо! Мало ли, что я пару раз не приходил домой! Я всегда жил один, и я привык жить так, как считал нужным! Я тогда не мог ехать пьяным! Я звонил ей, но никто не брал трубку!
– Врешь.
– Если ты еще раз посмеешь сказать мне это слово, я уйду, Грегори, и мы больше никогда не увидимся.
– Хорошо. Прости. Послушай, что она пишет, – Спарк взял письмо в руку; Роумэн заметил, как тряслись его пальцы. – Вот, погоди, тут она рассказывает Элизабет про свое житье... Ага, вот эта часть... «Я не помню, у кого из европейцев я прочитала горькую, но изумительно верную фразу: „порою легче переспать с мужчиной, чем назвать его по имени“... Мне казалось, что Пола порою удивляло мое постоянное „ты“, я, действительно, очень не люблю никого называть по имени... Я назвала его „Полом“ в прощальной записке. Жест дарующий и жест принимающий дар имеет разъединяющий... Так и те дни, которые я провела с ним, – дни надежды, дни разлук, но более всего я боюсь, что он не узнает, какое это было для меня счастье, какая это была нежность, которую он так щедро подарил мне. Каждый должен во что-то верить: в бога, космос, сверхъестественные силы. Я верила в него. Он был моим богом, любовником, мужем, сыном, другом, он был моей жизнью... Я благодарна ему за каждую минуту, пока мы были вместе, я благодарна ему за то, что он был, есть и будет, пока есть и буду я... Больше всего мне страшно, когда, просыпаясь, я не вижу его глаз. Он говорил, что глаза нельзя целовать, это к расставанию, плохая примета... Нет, уходя, можно все, только нельзя остаться... Я теперь часто повторяю его имя, оно делается ощутимым, живым, существующим отдельно от него... Я села и написала: имя твое – поляна в лесу, имя твое – поцелуй в росу, имя твое – виноградинка в рот, имя твое скрипка поет, имя твое мне прибой назвал, тяжко разбившись о камни скал, имя твое – колокольный звон, имя твое – объятья стон, ну, а если на страшный суд, имя твое мои губы спасут...»
Спарк поднял глаза на Пола, в них были слезы.
Роумэн ударил сцепленными кулаками по столу, заревел медведем:
– Суки паршивые! Дерьмовые, долбанные суки! – он обернулся, крикнув через весь зал: – Да принесите же нам виски, черт возьми!
– Ты должен поехать к ней, Пол...
– Нет.
– Почему? Она любит тебя.
– Я сломан. В каждом человеке живет своя гордость. Я не могу, чтобы она была подле раздавленного, обгаженного, стареющего и спивающегося мужика. Это предательство. А я не из этой породы... Мы с тобою предали Брехта, и Ханса Эйслера тоже предали, их нет в этой стране, их оболгали, извозили мордой об дерьмо и выбросили, как нашкодивших котят... А ведь они не котята, а великие художники, которые будут определять память середины двадцатого века! А кто здесь понял это? Кто встал на их защиту?! Кто?! Ты? Я? Украли мальчиков, раздавили нас подошвой, как тараканов... Я не могу взять на душу грех приучать ее к тараканам... Не могу... Она их и так слишком много повидала в своей жизни... Словом, тут у меня наклевывается одна работенка, предстоит полет в Вашингтон, – оформлю там развод и пошлю ей все документы... У нее впереди жизнь, а мне осталось лишь одно – доживать.
– Как сердце?
– Прекрасно.
– Ты говоришь неправду, Пол. Ты ужасно выглядишь... Ты гробишь себя. Кого ты хочешь этим удивить? Надо выждать... Все изменится, поверь. Так долго продолжаться не может...
– «Изменится»? Да? Хм... А кто будет менять? Ты? Я? Стоит только прикрикнуть, как все уползают под лавку и оттуда шепчут, что «так долго продолжаться не может»... Кто ударит кулаком по столу? Я? Нет, я лишен такой привилегии, потому что мстить за это будут Элизабет и тебе, мальчики – в закладе... Должно родиться новое поколение, созреть иное качество мышления... А кто его будет создавать? Человечество несет в себе проклятие страха, согласись, именно рабовладение определяло мир с его основания до конца прошлого века, когда мы перестали продавать черных, а русские – белых.
Девушка в коротенькой юбочке принесла виски; Роумэн погладил ее по округлой попке:
– Крошка, принеси-ка нам сразу еще четыре порции. И соленых фисташков, о'кей?
– О'кей, – ответила та. – А вам записка.
– От кого?
– От скотовода, – девушка усмехнулась. – От гиганта из Техаса.
Роумэн прочитал вслух:
– «Братишка, если ты и впрямь можешь заклеить здесь любую красотку, то я бы просил тебя побеседовать с той, которая вся в белом». – Роумэн рассмеялся, пояснив: – Это гуляет крошечный ковбой, который стоит пятьдесят миллионов, Раумэн, видишь, вырядился в костюм первых поселенцев...
– Ты что, намерен быть его сводником? – спросил Спарк с нескрываемым презрением.
– А почему бы и нет? Во мне родился инстинкт иждивенца, я постоянно хочу к кому-то пристроиться, чтобы не думать о завтрашнем дне... Я же уволен, Грегори... Я не дослужил нужных лет до пенсии... Я в любую минуту могу оказаться безработным...
Он поднялся, сказал Спарку, что сейчас вернется, пусть пьет, стол оплачен, подошел к громадной корове в белом; странно, отчего карликов тянет на таких бабищ, он же с ней не справится; поклонился женщине и спросил разрешения присесть, ощущая на спине скрещивающиеся взгляды Спарка и скотовода.
– Что ж, подсаживайтесь, – голос у толстухи был низкий, хриплый, мужской. – Есть проблемы?
– Мой друг мечтал бы познакомиться с вами, красивая.
– Твой сосед, длинный красавчик?
– Нет, тот не знает никого, кроме жены, он священник...
– У священников нет жен...
– Бывший священник, – усмехнулся Пол. – У него были неприятности с Ватиканом, он вступил в коммунистическую партию, а попам это запрещено под страхом кастрации, вот епископ ему и предложил: либо я тебя кастрирую, либо уходи подобру-поздорову из лона святой церкви... Но у него жена поет в хоре, контральто...
– У тебя больные глаза, – заметила женщина. – Покажись врачам.
– Залеченный сифилис, – ответил Роумэн. – Я показывался. Поздно, ничего не попишешь, хирургия бессильна, а я верю только хирургам.
Женщина вздохнула:
– Пусть тот, больной, отрежут, а пришьют новый, сейчас делают чудеса... Так кто хочет меня пригласить?
– Вон тот гигант, – Роумэн показал глазами на карлика. – Он стоит полсотни миллионов.
– Я лучше с тобой пойду бесплатно, чем с ним пересплю за миллион. Я могу во сне раздавить его, как деревенская кормилица господского младенца.
– Устроим похороны, – Роумэн снова усмехнулся. – Напьемся от души.
– Ты – трезвый.
– Просто я пью хорошо.
– Ты – трезвый, – повторила женщина. – Валяй отсюда, я не пойду к карлику, у меня серьезная клиентура.
– Мне она тоже прислала телеграмму.
– Я хочу, чтобы ты прочитал ее письмо при мне.
– Слушай, Грегори, я чертовски не люблю сентиментальных сцен: добрый друг наставляет заблудшего, разговор по душам, глоток виски и сдержанное рыдание... Это все из штампов Голливуда...
– Ты можешь обижать меня, как тебе вздумается, Пол... Я все равно не обижусь, потому что люблю тебя... И знаю, что нет на земле лучшего человека, чем ты... Задирайся, валяй, все равно ты прочитаешь ее письмо при мне... Или, если хочешь, я его тебе прочту сам...
– Поскольку здесь им трудно оборудовать звукозапись, можешь читать.
– Что с тобой, Пол?
– Ровным счетом ничего. Просто я ощутил себя абсолютным, законченным, размазанным дерьмом. А поняв это, я стал отвратителен самому себе. Ясно? Я помог Крис уйти от меня. Я не хочу, чтобы она жила с дерьмом, понимаешь?
– Погоди. Сначала послушай, что она пишет...
– Я читал, что она написала перед тем, как уехать! Она сбежала! Она бросила меня! Да, да, да! Не делай печальное лицо! Мало ли, что я пару раз не приходил домой! Я всегда жил один, и я привык жить так, как считал нужным! Я тогда не мог ехать пьяным! Я звонил ей, но никто не брал трубку!
– Врешь.
– Если ты еще раз посмеешь сказать мне это слово, я уйду, Грегори, и мы больше никогда не увидимся.
– Хорошо. Прости. Послушай, что она пишет, – Спарк взял письмо в руку; Роумэн заметил, как тряслись его пальцы. – Вот, погоди, тут она рассказывает Элизабет про свое житье... Ага, вот эта часть... «Я не помню, у кого из европейцев я прочитала горькую, но изумительно верную фразу: „порою легче переспать с мужчиной, чем назвать его по имени“... Мне казалось, что Пола порою удивляло мое постоянное „ты“, я, действительно, очень не люблю никого называть по имени... Я назвала его „Полом“ в прощальной записке. Жест дарующий и жест принимающий дар имеет разъединяющий... Так и те дни, которые я провела с ним, – дни надежды, дни разлук, но более всего я боюсь, что он не узнает, какое это было для меня счастье, какая это была нежность, которую он так щедро подарил мне. Каждый должен во что-то верить: в бога, космос, сверхъестественные силы. Я верила в него. Он был моим богом, любовником, мужем, сыном, другом, он был моей жизнью... Я благодарна ему за каждую минуту, пока мы были вместе, я благодарна ему за то, что он был, есть и будет, пока есть и буду я... Больше всего мне страшно, когда, просыпаясь, я не вижу его глаз. Он говорил, что глаза нельзя целовать, это к расставанию, плохая примета... Нет, уходя, можно все, только нельзя остаться... Я теперь часто повторяю его имя, оно делается ощутимым, живым, существующим отдельно от него... Я села и написала: имя твое – поляна в лесу, имя твое – поцелуй в росу, имя твое – виноградинка в рот, имя твое скрипка поет, имя твое мне прибой назвал, тяжко разбившись о камни скал, имя твое – колокольный звон, имя твое – объятья стон, ну, а если на страшный суд, имя твое мои губы спасут...»
Спарк поднял глаза на Пола, в них были слезы.
Роумэн ударил сцепленными кулаками по столу, заревел медведем:
– Суки паршивые! Дерьмовые, долбанные суки! – он обернулся, крикнув через весь зал: – Да принесите же нам виски, черт возьми!
– Ты должен поехать к ней, Пол...
– Нет.
– Почему? Она любит тебя.
– Я сломан. В каждом человеке живет своя гордость. Я не могу, чтобы она была подле раздавленного, обгаженного, стареющего и спивающегося мужика. Это предательство. А я не из этой породы... Мы с тобою предали Брехта, и Ханса Эйслера тоже предали, их нет в этой стране, их оболгали, извозили мордой об дерьмо и выбросили, как нашкодивших котят... А ведь они не котята, а великие художники, которые будут определять память середины двадцатого века! А кто здесь понял это? Кто встал на их защиту?! Кто?! Ты? Я? Украли мальчиков, раздавили нас подошвой, как тараканов... Я не могу взять на душу грех приучать ее к тараканам... Не могу... Она их и так слишком много повидала в своей жизни... Словом, тут у меня наклевывается одна работенка, предстоит полет в Вашингтон, – оформлю там развод и пошлю ей все документы... У нее впереди жизнь, а мне осталось лишь одно – доживать.
– Как сердце?
– Прекрасно.
– Ты говоришь неправду, Пол. Ты ужасно выглядишь... Ты гробишь себя. Кого ты хочешь этим удивить? Надо выждать... Все изменится, поверь. Так долго продолжаться не может...
– «Изменится»? Да? Хм... А кто будет менять? Ты? Я? Стоит только прикрикнуть, как все уползают под лавку и оттуда шепчут, что «так долго продолжаться не может»... Кто ударит кулаком по столу? Я? Нет, я лишен такой привилегии, потому что мстить за это будут Элизабет и тебе, мальчики – в закладе... Должно родиться новое поколение, созреть иное качество мышления... А кто его будет создавать? Человечество несет в себе проклятие страха, согласись, именно рабовладение определяло мир с его основания до конца прошлого века, когда мы перестали продавать черных, а русские – белых.
Девушка в коротенькой юбочке принесла виски; Роумэн погладил ее по округлой попке:
– Крошка, принеси-ка нам сразу еще четыре порции. И соленых фисташков, о'кей?
– О'кей, – ответила та. – А вам записка.
– От кого?
– От скотовода, – девушка усмехнулась. – От гиганта из Техаса.
Роумэн прочитал вслух:
– «Братишка, если ты и впрямь можешь заклеить здесь любую красотку, то я бы просил тебя побеседовать с той, которая вся в белом». – Роумэн рассмеялся, пояснив: – Это гуляет крошечный ковбой, который стоит пятьдесят миллионов, Раумэн, видишь, вырядился в костюм первых поселенцев...
– Ты что, намерен быть его сводником? – спросил Спарк с нескрываемым презрением.
– А почему бы и нет? Во мне родился инстинкт иждивенца, я постоянно хочу к кому-то пристроиться, чтобы не думать о завтрашнем дне... Я же уволен, Грегори... Я не дослужил нужных лет до пенсии... Я в любую минуту могу оказаться безработным...
Он поднялся, сказал Спарку, что сейчас вернется, пусть пьет, стол оплачен, подошел к громадной корове в белом; странно, отчего карликов тянет на таких бабищ, он же с ней не справится; поклонился женщине и спросил разрешения присесть, ощущая на спине скрещивающиеся взгляды Спарка и скотовода.
– Что ж, подсаживайтесь, – голос у толстухи был низкий, хриплый, мужской. – Есть проблемы?
– Мой друг мечтал бы познакомиться с вами, красивая.
– Твой сосед, длинный красавчик?
– Нет, тот не знает никого, кроме жены, он священник...
– У священников нет жен...
– Бывший священник, – усмехнулся Пол. – У него были неприятности с Ватиканом, он вступил в коммунистическую партию, а попам это запрещено под страхом кастрации, вот епископ ему и предложил: либо я тебя кастрирую, либо уходи подобру-поздорову из лона святой церкви... Но у него жена поет в хоре, контральто...
– У тебя больные глаза, – заметила женщина. – Покажись врачам.
– Залеченный сифилис, – ответил Роумэн. – Я показывался. Поздно, ничего не попишешь, хирургия бессильна, а я верю только хирургам.
Женщина вздохнула:
– Пусть тот, больной, отрежут, а пришьют новый, сейчас делают чудеса... Так кто хочет меня пригласить?
– Вон тот гигант, – Роумэн показал глазами на карлика. – Он стоит полсотни миллионов.
– Я лучше с тобой пойду бесплатно, чем с ним пересплю за миллион. Я могу во сне раздавить его, как деревенская кормилица господского младенца.
– Устроим похороны, – Роумэн снова усмехнулся. – Напьемся от души.
– Ты – трезвый.
– Просто я пью хорошо.
– Ты – трезвый, – повторила женщина. – Валяй отсюда, я не пойду к карлику, у меня серьезная клиентура.