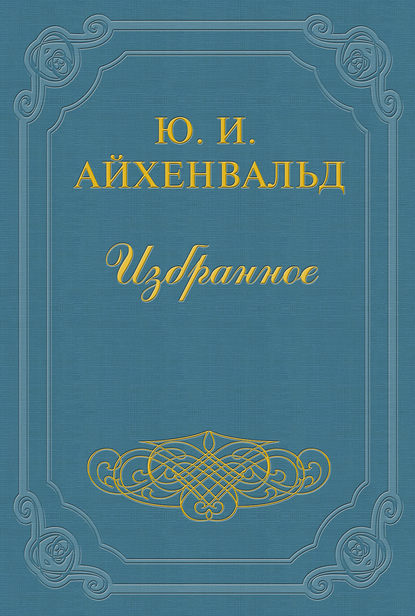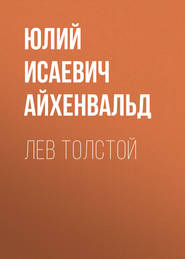По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Щербина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Щербина
Юлий Исаевич Айхенвальд
Силуэты русских писателей #59
«Небольшая страница, вписанная в русскую литературу Щербиной, во многих отношениях напоминает собою антологию Майкова и лишь слабее ее в той степени, в какой и сам автор уступает дарованием певцу „Трех смертей“. Зато Щербина, как известно, имел на ту Элладу, которую он славил, кровное право – право наследника, восторженно любящего сына: он был, в значительной мере с материнской стороны, грек по национальности, и все эллинское задевало в нем родственные струны…»
Юлий Исаевич Айхенвальд
Щербина
Небольшая страница, вписанная в русскую литературу Щербиной, во многих отношениях напоминает собою антологию Майкова и лишь слабее ее в той степени, в какой и сам автор уступает дарованием певцу «Трех смертей». Зато Щербина, как известно, имел на ту Элладу, которую он славил, кровное право – право наследника, восторженно любящего сына: он был, в значительной мере с материнской стороны, грек по национальности, и все эллинское задевало в нем родственные струны. Правда, физически он жил вне отчизны своих великих отцов и никогда ее не посетил, хотя пламенно к этому стремился. Было нечто горькое в том, что жизнь держала его вдали от Греции, где он пребывал своей мечтой, и не пускала его туда на деле; в своем путешествии домой с севера Щербина родного рубежа не достиг. Но душа его тяготела к югу, и он горестно и радостно восклицал:
Все, что меня с младенчества пленяло,
В чем видел я родство с моей душой,
Где сердце после бурь житейских отдыхало, —
О, Греция, все связано с тобой!
И слышится жалоба сына, которому не дано было ни разу увидеть прекрасное лицо любимой матери:
В слезах любви на жребий свой ропщу я:
Мне не сойти в Нирее с корабля.
Нет, никогда тебя не посещу я,
Любимая души моей земля!
Мне не слыхать, как море вечно стонет
Над вечною могилою твоей.
Если могила вечна, – значит, она уже не могила, и веет над нею какое-то неистребимое дыхание жизни. Оно тянет к себе заброшенного на чужую сторону поэта, и он, как поэт, в звучных стихах взывает к тому, кто имеет счастье отплывать на родину, для кого уже «корабль готов, шумят ветрила, распущен флаг земли родной».
Прошу тебя, пришли с дороги
Мне горсть земли, земли родной:
В часы душевные тревоги
Я окроплю ее слезой.
Взгляни на гроб Агамемнона
В его пустынной наготе,
И у колонны Парфенона
Пропой ты песню красоте.
Щербина не видел Греции, но она так явственно жила у него во внутреннем мире и он так отчетливо представлял ее себе, что свое лучшее стихотворение посвятил вымышленной поездке своей в Элладу, победоносно возместил недававшуюся действительность яркой фантазией:
Окружена широкими морями,
В тени олив покоится она,
Развалина, покрытая гробами,
В ничтожестве великая страна.
Я с корабля сошел при блеске ночи,
При ропоте таинственных валов…
Горела грудь, в слезах кипели очи;
Я чувствовал присутствие богов…
И видел я усыпанный цветами,
Рельефами покрытый саркофаг;
В них грации поникли головами
И Аполлон, и вечно юный Вакх;
А в гробе том красавица лежала,
Нетленная, печальна, но ясна…
Казалося, она не умирала,
Казалося, бессмертной рождена…
И песнь ее носилась над могилой,
Когда уже замолкну ли уста, —
И все вокруг собой животворила
Усопшая во гробе Красота.
Именно красота, животворная даже в своем успении, и есть то, что пленяет Щербину в Греции и в жизни вообще. Эллада – родина прекрасного, и оттуда разлилось оно по земле. И Щербина жадно ищет его и напояет им свою душу; в этом он находит утоление тоске по родине, так как прекрасное – это и есть греческое. Как должен быть счастлив и горд человек, который знает, что вся красота в мире создана его матерью! Это – высший аристократизм, и так как на всем покоится красота, всюду сверкают ее брызги, точно роса на цветах, то поэт, пространственно разлученный с Грецией, психологически живет в ней, и только в ней. Он везде у себя, ибо где красота, там – Эллада.
Прекрасное и есть греческое. Оттого Щербина в своем культе красоты непременно придает ей характер эллинский. Так как она полнее всего сказывается в женщине и искусстве, то греческая женщина и греческое искусство и являются для поэта двумя путеводными звездами, – конечно, на общем небе природы (ведь «в природе – правда бытия»). Лучше сказать: женщина, искусство, природа сливаются в одно созвездие, ибо женская краса переходит в нечто космическое, в те Волосы Береники, которые воспевает художник за их благодатное сияние. Он первый гимн поет жизнедавцу Зевсу, а второй – Прометею за пламя искусства. Для него «роскошно зеленеет святая пальма красоты», и он верует, что «жена нам возвращает Эдем, потерянный женой». На женщине от века почила обязанность вернуть нам Эдем, который мы потеряли из-за нее, и для Щербины женщина эту великую обязанность свою перед человечеством исполняет уже тем, что существует. Поэтому в центре вселенной он ставит женщину, прекрасную носительницу жизни и красоты. Он увидел себя на просторе мира, он шел сначала, не зная куда, – но вот перед ним
Вдали показалося море,
Над морем Киприды звезда.
С тех пор не меркнет для него это светило, с тех пор он молился на женщину, поклоняется ей. Но поклонение его бурно, а не смиренно и не благоговейно; со своей богини он срывает одежды и восторгается ее наготой. Мир как гинекей – вот основной момент его мироощущения. Эротизм проникает его страницы, Киприда не покидает их. Женские лобзанья Щербина поет неустанно, и стихи его, посвященные им, полны очень определенных деталей и откровенной чувственности. Последняя смущала цензуру его времени, и она ставила точки там, где у поэта были нестыдливые слова.
То, что он не угодил цензуре, мы бы ему простили; но у него есть худший грех: он не угодил Кузьме Пруткову, который по праву писал на него злые пародии… Дело в том, что на высоте греческой наивности и стихийного сладострастия Щербина не удержался, и гинекей его принимает иногда явно пошлый оттенок; чувственность его не имеет такой элементарной и непосредственной силы, которая оправдывала бы ее как самое природу или, вернее, делала бы ее не нуждающейся в оправдании. Любовь к женщине превращается в женолюбие, и сластолюбием оказывается сладострастие.
Кроме того, Щербина и вообще древним греком не мог остаться до конца. Как и Майков, он не выдержал язычества, не пошел беззаветно навстречу радости, не отдался в полную власть упоенной плоти, – он захотел оправдаться в своем наслаждении, приписать ему более идейный и степенный характер. Он как бы спохватился, вспомнил, что он не язычник, а христианин, и вот кипящее вино страсти, «искрометную кровь винограда», поэт разбавляет водой спокойствия, умеренности и на самое почетное место своего пантеона сажает уже не Афродиту, а Софрозину, скромную богиню благоразумия.
… У лона жены русокудрой,
Молодой, полногрудой жены, —
он хочет наслаждаться… «беседою мудрой». Если бы читатель подумал, что мудрое здесь явилось случайно, только в качестве удобной рифмы к русокудрое, то его разубедили бы в этом другие места из стихотворений Щербины. Например, он просит любимую женщину «сытныя снеди принесть и весельем кипящие вина, и ароматы, и мудрого мужа Платона творенья». Сытные снеди умеряются творениями Платона… Затем еще говорит он, что для него «мелодия духа разлита многозвучно в телесных чертах», и восклицает:
Нет для меня, Левконоя, и тела без вечного духа,
Нет для меня, Левконоя, и духа без стройного тела.
И вообще, если он в восторге «от белизны легкопенной скульптурного тела», если эти женские чары неотразимо влекут его к себе, то все же он не хочет отрешаться и от покровительства богини Софрозины с ее чувством умеренности и меры:
Дай страсти, Киприда, дай больше мне страсти,
Восторгов и жара в крови:
Всего ж не предай одуряющей власти
Больной и безумной любви.
Больное и безумное, конечно, были чужды язычнику, и он действительно соблюдал золотую меру в культе красоты, – но язычник бы сам об этом не говорил так настойчиво, не ставил бы себе в заслугу своего благоразумия, тем более что и оно не было для него чуждым, внешним велением и сдержкой, а грациозно и естественно, незаметно для его мощи, невидимо для его сознания, вырастало из самых недр его природы.
Он часто воспевает любовь, Щербина, но берет у нее только то, что в ней светло, легко, чувственно. Трагизму любви, тому, чем она близка к смерти, хотя и сильнее ее, он посвящает мало внимания. В этой области серьезного отметим одно его тихое, грустное стихотворение – «Земля».
Ты помнишь ли случай, родная?
Когда я малюткой была,
В саду меж цветами летая,
Меня укусила пчела.
Как палец мне жало палило
И слезы ручьями текли —
На палец ты мне положила
Щепотку холодной земли…
Юлий Исаевич Айхенвальд
Силуэты русских писателей #59
«Небольшая страница, вписанная в русскую литературу Щербиной, во многих отношениях напоминает собою антологию Майкова и лишь слабее ее в той степени, в какой и сам автор уступает дарованием певцу „Трех смертей“. Зато Щербина, как известно, имел на ту Элладу, которую он славил, кровное право – право наследника, восторженно любящего сына: он был, в значительной мере с материнской стороны, грек по национальности, и все эллинское задевало в нем родственные струны…»
Юлий Исаевич Айхенвальд
Щербина
Небольшая страница, вписанная в русскую литературу Щербиной, во многих отношениях напоминает собою антологию Майкова и лишь слабее ее в той степени, в какой и сам автор уступает дарованием певцу «Трех смертей». Зато Щербина, как известно, имел на ту Элладу, которую он славил, кровное право – право наследника, восторженно любящего сына: он был, в значительной мере с материнской стороны, грек по национальности, и все эллинское задевало в нем родственные струны. Правда, физически он жил вне отчизны своих великих отцов и никогда ее не посетил, хотя пламенно к этому стремился. Было нечто горькое в том, что жизнь держала его вдали от Греции, где он пребывал своей мечтой, и не пускала его туда на деле; в своем путешествии домой с севера Щербина родного рубежа не достиг. Но душа его тяготела к югу, и он горестно и радостно восклицал:
Все, что меня с младенчества пленяло,
В чем видел я родство с моей душой,
Где сердце после бурь житейских отдыхало, —
О, Греция, все связано с тобой!
И слышится жалоба сына, которому не дано было ни разу увидеть прекрасное лицо любимой матери:
В слезах любви на жребий свой ропщу я:
Мне не сойти в Нирее с корабля.
Нет, никогда тебя не посещу я,
Любимая души моей земля!
Мне не слыхать, как море вечно стонет
Над вечною могилою твоей.
Если могила вечна, – значит, она уже не могила, и веет над нею какое-то неистребимое дыхание жизни. Оно тянет к себе заброшенного на чужую сторону поэта, и он, как поэт, в звучных стихах взывает к тому, кто имеет счастье отплывать на родину, для кого уже «корабль готов, шумят ветрила, распущен флаг земли родной».
Прошу тебя, пришли с дороги
Мне горсть земли, земли родной:
В часы душевные тревоги
Я окроплю ее слезой.
Взгляни на гроб Агамемнона
В его пустынной наготе,
И у колонны Парфенона
Пропой ты песню красоте.
Щербина не видел Греции, но она так явственно жила у него во внутреннем мире и он так отчетливо представлял ее себе, что свое лучшее стихотворение посвятил вымышленной поездке своей в Элладу, победоносно возместил недававшуюся действительность яркой фантазией:
Окружена широкими морями,
В тени олив покоится она,
Развалина, покрытая гробами,
В ничтожестве великая страна.
Я с корабля сошел при блеске ночи,
При ропоте таинственных валов…
Горела грудь, в слезах кипели очи;
Я чувствовал присутствие богов…
И видел я усыпанный цветами,
Рельефами покрытый саркофаг;
В них грации поникли головами
И Аполлон, и вечно юный Вакх;
А в гробе том красавица лежала,
Нетленная, печальна, но ясна…
Казалося, она не умирала,
Казалося, бессмертной рождена…
И песнь ее носилась над могилой,
Когда уже замолкну ли уста, —
И все вокруг собой животворила
Усопшая во гробе Красота.
Именно красота, животворная даже в своем успении, и есть то, что пленяет Щербину в Греции и в жизни вообще. Эллада – родина прекрасного, и оттуда разлилось оно по земле. И Щербина жадно ищет его и напояет им свою душу; в этом он находит утоление тоске по родине, так как прекрасное – это и есть греческое. Как должен быть счастлив и горд человек, который знает, что вся красота в мире создана его матерью! Это – высший аристократизм, и так как на всем покоится красота, всюду сверкают ее брызги, точно роса на цветах, то поэт, пространственно разлученный с Грецией, психологически живет в ней, и только в ней. Он везде у себя, ибо где красота, там – Эллада.
Прекрасное и есть греческое. Оттого Щербина в своем культе красоты непременно придает ей характер эллинский. Так как она полнее всего сказывается в женщине и искусстве, то греческая женщина и греческое искусство и являются для поэта двумя путеводными звездами, – конечно, на общем небе природы (ведь «в природе – правда бытия»). Лучше сказать: женщина, искусство, природа сливаются в одно созвездие, ибо женская краса переходит в нечто космическое, в те Волосы Береники, которые воспевает художник за их благодатное сияние. Он первый гимн поет жизнедавцу Зевсу, а второй – Прометею за пламя искусства. Для него «роскошно зеленеет святая пальма красоты», и он верует, что «жена нам возвращает Эдем, потерянный женой». На женщине от века почила обязанность вернуть нам Эдем, который мы потеряли из-за нее, и для Щербины женщина эту великую обязанность свою перед человечеством исполняет уже тем, что существует. Поэтому в центре вселенной он ставит женщину, прекрасную носительницу жизни и красоты. Он увидел себя на просторе мира, он шел сначала, не зная куда, – но вот перед ним
Вдали показалося море,
Над морем Киприды звезда.
С тех пор не меркнет для него это светило, с тех пор он молился на женщину, поклоняется ей. Но поклонение его бурно, а не смиренно и не благоговейно; со своей богини он срывает одежды и восторгается ее наготой. Мир как гинекей – вот основной момент его мироощущения. Эротизм проникает его страницы, Киприда не покидает их. Женские лобзанья Щербина поет неустанно, и стихи его, посвященные им, полны очень определенных деталей и откровенной чувственности. Последняя смущала цензуру его времени, и она ставила точки там, где у поэта были нестыдливые слова.
То, что он не угодил цензуре, мы бы ему простили; но у него есть худший грех: он не угодил Кузьме Пруткову, который по праву писал на него злые пародии… Дело в том, что на высоте греческой наивности и стихийного сладострастия Щербина не удержался, и гинекей его принимает иногда явно пошлый оттенок; чувственность его не имеет такой элементарной и непосредственной силы, которая оправдывала бы ее как самое природу или, вернее, делала бы ее не нуждающейся в оправдании. Любовь к женщине превращается в женолюбие, и сластолюбием оказывается сладострастие.
Кроме того, Щербина и вообще древним греком не мог остаться до конца. Как и Майков, он не выдержал язычества, не пошел беззаветно навстречу радости, не отдался в полную власть упоенной плоти, – он захотел оправдаться в своем наслаждении, приписать ему более идейный и степенный характер. Он как бы спохватился, вспомнил, что он не язычник, а христианин, и вот кипящее вино страсти, «искрометную кровь винограда», поэт разбавляет водой спокойствия, умеренности и на самое почетное место своего пантеона сажает уже не Афродиту, а Софрозину, скромную богиню благоразумия.
… У лона жены русокудрой,
Молодой, полногрудой жены, —
он хочет наслаждаться… «беседою мудрой». Если бы читатель подумал, что мудрое здесь явилось случайно, только в качестве удобной рифмы к русокудрое, то его разубедили бы в этом другие места из стихотворений Щербины. Например, он просит любимую женщину «сытныя снеди принесть и весельем кипящие вина, и ароматы, и мудрого мужа Платона творенья». Сытные снеди умеряются творениями Платона… Затем еще говорит он, что для него «мелодия духа разлита многозвучно в телесных чертах», и восклицает:
Нет для меня, Левконоя, и тела без вечного духа,
Нет для меня, Левконоя, и духа без стройного тела.
И вообще, если он в восторге «от белизны легкопенной скульптурного тела», если эти женские чары неотразимо влекут его к себе, то все же он не хочет отрешаться и от покровительства богини Софрозины с ее чувством умеренности и меры:
Дай страсти, Киприда, дай больше мне страсти,
Восторгов и жара в крови:
Всего ж не предай одуряющей власти
Больной и безумной любви.
Больное и безумное, конечно, были чужды язычнику, и он действительно соблюдал золотую меру в культе красоты, – но язычник бы сам об этом не говорил так настойчиво, не ставил бы себе в заслугу своего благоразумия, тем более что и оно не было для него чуждым, внешним велением и сдержкой, а грациозно и естественно, незаметно для его мощи, невидимо для его сознания, вырастало из самых недр его природы.
Он часто воспевает любовь, Щербина, но берет у нее только то, что в ней светло, легко, чувственно. Трагизму любви, тому, чем она близка к смерти, хотя и сильнее ее, он посвящает мало внимания. В этой области серьезного отметим одно его тихое, грустное стихотворение – «Земля».
Ты помнишь ли случай, родная?
Когда я малюткой была,
В саду меж цветами летая,
Меня укусила пчела.
Как палец мне жало палило
И слезы ручьями текли —
На палец ты мне положила
Щепотку холодной земли…
Другие электронные книги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Другие аудиокниги автора Юлий Исаевич Айхенвальд
Чехов




 0
0