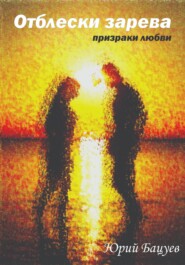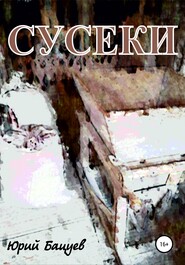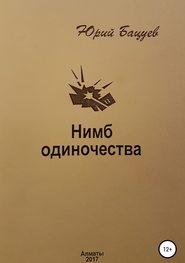По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Увидеть весь мир в крупице песка…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Василий Сташков любил употреблять выражения «рыба добрая», «фестивалить», корявого человека он называл либо «тёркой», либо «шилом бритый». Любимая поговорка его: «Зачем волку жилетка, всё равно обдерёт об кусты». У деда Харьковского не сходило с уст слово «морока».
…В последнее время Сташков не выезжал в поле, тяжело уже ему было работать на буровой. В это время он подыскивал что-нибудь в городе, чаще всего работал на меховом комбинате, или уезжал к родичу в горы на пасеку. Но стоило только начать заявлять о себе весне, как Вася тяготился «камеральной» жизнью и его тянуло в поле. Тогда он шёл к своим многочисленным друзьям специалистам – геологам и выезжал с ними на полевые работы. До последнего месяца полевых работ Ваха жил интересами коллектива, был привычно услужлив, исполнителен, терпелив. Потом наступало время «капризов». Зная, что «поле» скоро кончится, он начинал откалывать номера: то вдруг ему вздумается вырваться в город, и пусть партия стоит в ста км от него, он постоянно будет порываться туда: хоть на машине, хоть пешком и без рубля в кармане. А то вдруг начинает дерзить. В общем, всячески показывать характер. Заканчивается обычно всё это тем, что когда нужно делать демонтаж лагеря (в это время, как никогда, нужны люди для погрузки имущества), Васи вдруг не оказывалось. Его вынуждены искать, переживать за него, как бы не наделал бед, о которых узнают в конторе и за которые несдобровать его друзьям– специалистам. Переживали за него и тогда, когда он бывал в городе, где милиция и вытрезвители могли оказаться на его пути. В такое время Василий Иванович был упрям и невыносим. Он как бы расплачивался за ту добрую заботу, которую оказывал товарищам. В такие моменты все клялись не брать его на следующий год (иногда и делали это), но в конце концов он всё равно оказывался рядом, опять такой же исполнительный, по – пьянке говорливый, по – трезвому услужливый и в конце сезона капризный.
Ранг «профессора из Ленинграда» он получил случайно. Как-то в поле мы встретились со своими коллегами. От серьёзного разговор перешёл на розыгрышный тон (в партии это был свой конёк). Василий Иванович недалеко в стороне рыл шурф, он вкопался уже настолько, что виднелась одна его белая панама от накомарника. Кто-то из гостей поинтересовался, кто там в шурфе. Баскарма, со свойственной ему в таких случаях находчивостью, незамедлительно выпалил: «Это профессор из Ленинграда – Василий Иванович – осматривает шурф. Приехал с проверкой». Те поняли это баз подвоха и как – то уж очень серьёзно. С тех пор «Ваха» стал и «профессором из Ленинграда».
…Человек, который неподвижно сидел у костра и задумчиво смотрел на огонь, тоже был незаурядной личностью.
И. М. Кочергин
Игорь Михайлович Кочергин после окончания Харьковского университета приехал в Казахстан по направлению. Широкоплечий, немного выше среднего роста, он обладал большой физической силой, удивительной честностью и чувством товарищества. Человек, с которым можно попадать в любые жизненные перипетии и быть уверенным, что рядом с ним, и полагаясь на него, ты можешь быть спокойным, уж во всяком случае, за себя. «Жаном Вальжаном» звали его за глаза те, кто хорошо его знал. В глаза же называли по имени отчеству. С лицом римлянина и внешностью преуспевающего современного американца, Игорь Михайлович не был ни тем, ни другим. Он постоянно грустил и страдал при виде несправедливости, и, мне кажется, часто её преувеличивал. Дело, в конце концов, дошло до того, что, он стал пить в одиночку и, когда изрядно набирался, молча сидел над очередным стаканом вина и слёзы, обильные слёзы, струились по его щекам. Когда надломился этот сильный телом человек – трудно сказать. Встречаясь с ударами судьбы, он никогда не пытался устраниться от них, как это частенько делаем все мы. Я помню Игоря Михайловича ещё молодым и весёлым, когда он был верховодом безвинных товарищеских пирушек. Гитара и песня – были спутниками его юности. Нравственная чистота чувствовалась в этом сильном человеке. Первую душевную рану он получил, по – моему, за границей – в Сирии, куда его послали вместе с женой. По дороге Игорь Михайлович, который имел обыкновение не нравившегося ему человека не любить открыто, не сошёлся с каким-то нашим чиновником и тот постарался устроить так, чтобы их с женой направили в разные места. Разумеется, это была какая-то нелепая прихоть чиновника, которую не трудно было разрешить. Но Игорь Михайлович счёл ниже своего достоинства добиваться своих законных прав. Чиновник уехал, а два года разлуки с верным другом – женой на чужбине, безусловно, оставили тяжкий след в душе легкоранимого Кочергина. Никому ненужная жертва. Игорь Михайлович же, по– видимому, считал, что он должен мужественно выстоять перед превратностями судьбы. На самом деле это был бой с мельницей. Там, за границей, он постепенно пристрастился к алкоголю. К тому же Кочергин читал очень много и увлекался западной литературой, в которой, как известно, герои не столько пьют, сколько говорят об этом. И если у нас на Руси с двух стаканов уже начинают, что называется «балдеть», то герои, например Ремарка, спокойно рассуждают, мыслят и даже действуют. Что само по себе не что иное, как ложь. Литературный приём. Количество поднятых бокалов в западных романах, талантливо написанных, не могло не вызвать в Кочергине чувства тайного соперничества, чувства невольного подражания что ли, а также не могло не заразить чувством пассивного отрицания несправедливости, к которой Игорь Михайлович был весьма чувствителен. По знанию иностранной литературы редко какой филолог мог сравниться с Кочергиным. Потому что читал он всегда, даже за бутылкой вина. Именно в какой – то мере тлетворное влияние оказала эта литература не только на Игоря Михайловича, но и на его жену – Жанну Кирилловну, которая уже будучи замужней женщиной, начала курить и не оставит, по – моему, этой страсти до конца дней своих, хотя в те времена наши девушки почти не баловались сигаретным дымком.
Странным, кажется и то, что из заграницы (а ведь они работали там вдвоём) Кочергины не привезли автомобиля, хотя это превратилось в своего рода закономерность. Нет, Игорь Михайлович считал это не нужным пижонством, он не такой мещанин как все. Он выше этого. И всякое обогащение ни во что не ставил.
Но больше всего его неприятно поразило то обстоятельство, что там некоторые наши работники следили за «своими» же и, может быть, следили неумело, грубо. «Такое недоверие ко мне – Кочергину, до конца преданному своей Родине – да как это может быть?!» Он не мог, видимо, понять, что если за его поведением ничего плохого не кроется, то и не стоит ему волноваться на этот счёт. Но сам факт слежки, а значит и недоверия – его убивал. Из зарубежья он приехал задумчивый и грустный. А тут ещё его назначили техноруком какой-то партии, хотя к «железкам» он любви не испытывал и хотел заниматься как прежде геологией. В конце концов, всё наладилось: образовалась новая партия, в ней собрался коллектив – все свои, старые знакомые. Работал Кочергин по специальности. Но геологи есть геологи. При случае, собравшись все вместе после полевых работ, с премии ли, или ещё по каким причинам, иногда устраивались «сабантуи». После таких дружеских попоек, само собой, наступают дни похмелья. Или опять же все вместе, или кто как может, в зависимости от обстоятельств, обычно незаметно и без лишнего шума собираются друзья – появляются и исчезают бутылки. Все стараются в такие дни как-нибудь, без лишних демонстраций прийти в себя с тем, чтобы хотя бы на следующий день уже начать обычную трудовую жизнь. Игорь Михайлович же считал такое незаметное, «подпольное» что ли похмелье, как проявление подлости. И если, положим, в конторе организовывалось такое мероприятие, и все опорожняли бутылки из – под стола, он ставил бутылку на стол и спокойно, на глазах у начальства, распивал её. Разумеется, продолжаться такое долго не могло. И удивительным просто кажется, как такой человек не понимал, что если все последуют его примеру, то контора превратится в самый настоящий кабак. Что дисциплина есть дисциплина. И если ты отступаешь от неё, то уж демонстрация здесь совершенно неуместна. Почему он мог быть честным, ставя на рабочий стол бутылку, не отказываясь вообще от неё в рабочее время? – Непонятно. Зато в руках его был мнимый козырь – «я такой же, как вы, только вы прячетесь, а я и не думал скрывать того, что здесь происходит». Опять Игорь Михайлович принимал удар прямо на себя, не ища обходных путей. Впрочем, здесь, видимо, снова сыграло свою роль влияние западной литературы, где в порядке вещей бутылка – спутник конторских боссов. И поразительно, как это они могли по-настоящему работать в пьяном-то состоянии? Книжная ложь.
Само собой разумеется, после нескольких разговоров с начальником Игорь Михайлович подал заявление об увольнении «по собственному желанию» и уехал в полевую партию за 250 км от города и семьи.
Жанна на этот раз не захотела покидать столичную квартиру, тем более сын учился в школе, и Кочергин, таким образом, опять остался оторванным от семьи. Раз в месяц, разумеется, он приезжал домой, но 25 дней оставался наедине с самим собой. В партии большинство работников были семейными. Игорь Михайлович поселился в общежитии, куда два раза в месяц за зарплатой приезжали буровики и устраивали «фестиваль». Не мог одинокий человек оставаться от таких мероприятий в стороне. Иногда он, как прежде, перебирал струны гитары. Кочергин любил стихи. Особенно Багрицкого, многое из которого знал наизусть. Но люди, которые постоянно его окружали, в большинстве своём были далеки от литературы. Они, в основном, в свободное от работы время либо пили самогон, которого было много в каждом дворе, либо занимались разведением уток и свиней. Были и такие, которые, зная слабость Кочергина к алкоголю, постоянно подбивали его на выпивку в надежде проехаться за его счёт. Если у него были деньги, он не пытался их придержать хотя бы на завтра. И спускал все. Многие знали это и пользовались, хотя на следующий день сами и давали ему взаймы на обед. Долги из месяца в месяц накапливались и получка почти вся уходила на их уплату. Домой он привозил далеко не всё что получал. На этой почве, видимо, тоже всё чаще стали возникать разговоры с женой, хотя Жанна Кирилловна была женщина деликатная, преданная мужу и очень скромная. Однако заботы о семье требовали своей доли в его заработке. И хотя никто не слышал от Жанны жалоб, чувствовалось, что отношения у Игоря Михайловича с семьёй далеко не блестящие. Всё чаще и чаще Кочергин появлялся на работе «подшофе» и если все настоящие виновники попоек оставались в тени, то Игорь Михайлович, верный себе, и не пытался скрывать своего пристрастия к спиртному.
Приехал в партию новый главный инженер и после некоторых предупреждений пригрозил Игорю Михайловичу, что его отправят на лечение. Другой бы, который похитрей, тут же уволился из партии, и, может быть, перебрался снова в город, и это было бы очень разумно. Но Кочергин опять подставил беззащитную грудь и принял на неё новый удар судьбы. Принял также открыто, без отклонений в сторону, как это делал и раньше. Он сказал главному: – Если вы считаете, что я для лечения созрел – отправляйте. Главный был новым человеком в экспедиции и, видимо, совсем не понимал, да и не хотел понять Кочергина. Из настоящих друзей, кто бы мог подсказать правильный выход, никого не оказалось. Оформили необходимые «бумаги» и Игорь Михайлович сам себе подписал приговор (нужна была личная подпись на согласие какого-то прокурорского решения, и Кочергин её поставил). Его арестовали и увезли в колонию-лечебницу,где сочетался режим больницы и лагеря для заключённых. Осудили его на год. Попав туда и насмотревшись на настоящих алкоголиков, Игорь Михайлович сообразил, наконец, что он не совсем тот, за кого его приняли. 3акралась обида на бывших товарищей и стала появляться неуверенность в самого себя. В лагере, конечно, его полюбили и даже отдавали свои порции пищи в основном за то, что он всегда брал на себя самую тяжёлую работу (там он стал грузчиком) и делал её за многих других.
Через несколько месяцев и до администрации партии дошло, что с Кочергиным поступили жёстко, стали писать различного рода гарантийные бумаги и просьбы, чтобы «скостили» срок лечения. Только Жанна Кирилловна по-настоящему знала, как тяжело переживал Игорь Михайлович это «лечение». Но женщина она по натуре своей скромная и очень скрытная. На вопрос, как себя чувствует Игорь Михайлович, она так смущенно и неопределённо отвечала, что в другой раз неудобно было обращаться с подобным вопросом. И никакие слова вежливости не могли развязать ей язык. Она всегда одна оставалась со своим горем. Более преданной своему мужу и терпеливей женщины я не встречал в жизни. Ни разу я не видел также, чтобы эта женщина улыбнулась другому мужчине кокетливо, а не так, как того требует лишь долг вежливости. Она будто раз и навсегда решилась быть верной только одному мужчине – Игорю Михайловичу Кочергину.
Извилин мозговых
Извивы
И душ
Распахнутую боль
Разит нещадно
Алкоголь,
Неся несчастия
Счастливым
И в близких вызывая
Боль.
Кочергина освободили досрочно. Месяцев восемь ему всё-таки пришлось провести в этой лечебной колонии. Друзья, которые были в Алма-Ате, стали настоятельно подсказывать ему, чтобы он устроился в городе и жил рядом с семьёй. Относительно алкоголя очень осторожно обходили вопрос, в основном полагаясь на его собственное отношение.
Вскоре он избавился от действия лекарств, так как в лечебнице, помимо официального лечения, старые алкоголики «преподавали» и «антилечение». От влияния антабуса, оказывается, легко можно освободиться, выпив несколько стаканов газированной чистой без сиропа воды. Друзья не считали Игоря Михайловича алкоголиком и относились как к обычному геологу, а «кто из геологов не пьёт». Но сам в себе Кочергин, видимо, порой сомневался. Восемь месяцев сделали своё дело. Они подорвали веру в свою полноценность и очевидно этот вопрос его иногда беспокоил. По настоянию и с помощью друзей он устроился в одну из многочисленных в городе контор, которые так или иначе связаны с геологией. Работа в профессиональном геологическом отношении была не серьёзная. И к тому же Кочергин попал теперь в другую атмосферу, где не было тех товарищей, которых объединяла общая гидрогеологическая структура по всему Казахстану. Взаимоотношения, которые теперь его окружали, казались ему чужими – не теми прежними, привычными. Чувствовал он себя каким-то инородным, временным. И действительно, не прошло и года, как он уволился и поступил уже в другую почти такую же организацию, где ожидала его точно такая же обстановка.
Вернуться в нашу систему ему можно было, только опять для начала надо было ехать куда – то к чёрту на кулички от семьи и от города. В самом же городе устроиться среди своих не представлялось возможным, так как прежние взаимоотношения с начальством были ещё свежи и слухи о том, что Игорь Михайлович был на «излечении» разумеется, дошли до высокопоставленных чиновников,
Отторгнутый от привычной среды и не имевший сил и желания влиться в новый коллектив, Кочергин остался в одиночестве, снова начал пить, пить с каким-то молчаливым отчаяньем. Жанна уже не могла удержать его. У него обострилось чувство противодействия и, когда кто-либо предостерегал его от алкоголя, он ещё ожесточённей, видимо, сказывалось также и природное упрямство украинцев, на почве которых он был вскормлен, воспитан и получил образование, бросался в пропасть навстречу трагическому исходу.
Единственными счастливыми днями он теперь считал время, когда находился в гостях у гидрогеохимиков. Здесь были друзья, которые его знали таким, каким он был: сильным телом, слабым духом, бескорыстным, готовым пожертвовать собой ради товарищей, отзывчивым, щедрым, любящим до слёз поэзию и постоянно дымящим сигаретой.
Г. И. Серебряков
Самым молодым у костра был 25-ти летний «Гендос». Он обычно аккомпанировал на гитаре и пел. Но когда пел, непременно гундосил. Сколько ему ни говорили, чтобы он пел естественным голосом – всё было бесполезно, поэтому его и прозвали (с учётом имени – его звали Гена – Гендосом). Он был второй год в поле (после армии работал в тематической партии), но уже привязался к нему и выезжал так же охотно, как и все здесь присутствующие. Чуть бледноватое интеллигентное лицо, чёрная бородка, джинсы или шорты, большой охотничий нож, какой-нибудь оригинальный свитер и на шее косынка – выделяли его из окружающих особей, поэтому в среде женщин он был на особом счету. Про него в партии говорили так: «Гендосу со всего побережья девки есть носят». И это было почти так. Стоило Гендосу остаться в лагере на дежурство одному, как с побережья подтягивались к вагончику красотки.
В поле Гендос всегда возил лекарства, под его матрасом можно было найти различные мази, пузырьки и даже бутылки с лечебными жидкостями. То он натирал голову какой– нибудь «ваксой», помогающей от перхоти, то поласкал дёсна, то посреди ночи с тазиком в руках уходил к морю и делал профилактику от потливости ног. С лекарствами он обращался как-то «по-женски» ловко и чувствовалась привычка к ним. Любил Гендос пожаловаться на больную почку, хотя все эту его болезнь не принимали всерьёз. Решили, что кто-то когда-то сказал Гендосу, что у него не в порядке почка, и он взял эту болезнь на вооружение.
Гендос был шустрым современным парнем: легко заводил знакомства, был вежлив (а это нынче очень ценится), изыскан, вернее даже оригинален, в одежде, подкупающе наивен, хотя, что касалось практической стороны жизни, далеко всем остальным было до него. На лету Гендос понял роль «бутылки» и выгодных знакомств. Что-то в нём было от бальзаковского Растеньяка. И казалось, что он найдет всё-таки своё место в жизни, хотя по образованию он был пока ещё техником и от серьёзных наук откровенно зевал. Трудно было назвать общественную работу, где бы Гендос не принимал участия (в самодеятельности, в стенной газете, в народной дружине, в спортивных мероприятиях и так далее), но всюду, кроме, может быть, народной дружины – это дело он любил, – его роль была второстепенной и скорее «показной». «Быть на виду – так скорее получишь квартиру», – говорил своим товарищам Гендос с наивной откровенностью. Гендос не был жадным, но каждая копейка у него была на счету. Он быстро перенимал увлечения и навыки других своих товарищей. Не успел он появиться в партии и побывать на охоте и рыбалке, как вскоре заимел ружьё (купил где-то за десятку), рыболовные снасти, охотничий нож и даже футляр от патефона (выменял за штурмовку) для снаряжений.
Многие типы, которые любят пыль в глаза пустить, обычно самовлюблённые и гордые, они любят очаровывать, но близко в душу не пускают, главная же особенность Гендоса – наивная откровенность. Она-то и мирит с ним людей, даже весьма принципиальных и целеустремлённых. Гендос не злой, но и не добрый, если смотреть по большому счёту. В порученных делах небрежен, хотя задание всегда выполнит, правда, частенько приходится переделывать это задание, но почему-то без особых обид и претензий к Гендосу.
Самой главной страстью, к которой Гендос относится отнюдь не небрежно, это интерес к вопросам пола. Здесь уже и память не изменяла ему – различные термины легко укладывались в его сознании и словесном обиходе. По этому вопросу у него накапливалась литература и разного рода иллюстрации.
Каждого человека в какой-то мере интересует данный аспект, особенно неискушённую в вопросах любви молодёжь. Гендос это хорошо чувствовал и использовал во взаимоотношениях. Причём делал это как-то душевно и опять же наивно. Например, девушке, только что очарованной его внешностью и песенкой «девять граммов в сердце – постой, погоди, – не везёт мне в смерти – повезёт в любви», он обычно говорил: «Знаешь, у меня есть интересные фотографии, – при этом непременно добавлял, что они из какого – нибудь зарубежного журнала, – я бы показал их тебе, но они «матершинные». И это робкое и детское слово «матершинные» оказывало своё непременное воздействие.
«Я, конечно, покажу их тебе, – продолжал он, – только ты просмотри их тайком, незаметно, чтобы не застал тебя за этим занятием вон тот товарищ» и Гендос указывал на кого-нибудь из присутствующих, придавая, интимность разговору. После просмотра молодое воображение возбуждалось, а душевная наивность Гендоса подталкивала на взаимность…
Сейчас он дефилирует вокруг костра с биноклем на шее, то и дело вскидывая его, в надежде засечь на берегу моря какую-нибудь очередную земную русалку. Затем уходит в вагончик и через некоторое время появляется с гитарой. Перебирает струны, настраивая гитару и мурлыча напевы, а затем поёт с цыганским надрывом:
Ах, ночка черноглазая,
Ах, звёзды-фонари,
Не бродил ни разу я
С любимой до зари.
Но от безумных ласк моих
И полных грёз речей,
До зари прекрасная
Не сомкнёт очей.
Н.Г. Болгов
…Так как брага была на исходе, а новая (в 36-ти литровой фляге) ещё не созрела, за вином на разъезд вызвался ехать с шофёром Гендос. А в это время за походным столиком колдовал Николай Георгиевич. Он нарезал маленькими квадратиками хлеб и делал «ювелирные» бутербродики с маслом и сыром: для закуси – само то. Рядом на костерке булькала уха, тройная, из разного ассортимента рыб.
Николай Георгиевич Болгов человек среднего роста, коренаст. Одет в энцефалитку, на голове – шляпа с накомарником, закинутым наверх. Обычно, когда палит солнце, в маршруте каждый одевается полегче, а новички, пытаясь ещё и загореть, едут к месту работы по пояс обнажёнными. Болгов на голое тело надевает энцефалитку, казалось бы и так жарко, а он утепляется. Но, как выяснилось, эффект отнюдь обратный. Под курткой тело всегда холодное, хотя слегка и увлажнённое. Своеобразный нательный кондиционер.
До появления в партии Николая Георгиевича в поле мы ездили на грузовиках с открытым кузовом. Уазик, отделанный по его замыслу, превратился в комфортабельное средство передвижения. Задняя дверца задвигалась (штырь в паз) и в переднее окно ветер не дул, создавалась воздушная подушка, хотя свежий воздух был гарантирован. Кузов был отделан фанерой и стальным листом, а сверху покрыт брезентом. Можно было стоять в полный рост, а если расстелить матрасы и спальные мешки, ехать и ночевать можно было с комфортом. И солнце, и дождь теперь были неопасны.
Сын профессора, преподававшего в Горном институте петрографию, Николай тоже учился там, правда, до второго курса. Потом почему-то перевёлся во Всесоюзный заочный политехнический институт в Москву и окончил его заочно за десять долгих лет. Всё время работал в золоторуднной экспедиции, начиная с коллектора. В Гидрогеохимическую партию пришёл уже старшим геологом. Карты, которые он составлял со свойственной ему аккуратностью, выглядели классно и изысканно, они были безупречны и красивы.
Говорят, что собака и её хозяин становятся похожи друг на друга. Но любитель птиц, Николай Георгиевич был схож (в профиль) с Сорокопутом. Птица по оперению и размерам схожа с воробьём. Но это для других. Болгов же все тонкости характера и повадки этой птички хорошо знал, внимательно наблюдал и ухаживал за ней. В квартире у него Сорокопут чувствовал себя вольготно…