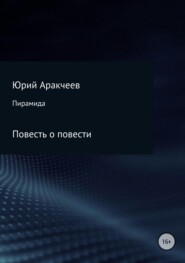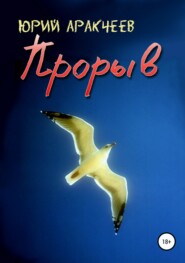По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Поиски Афродиты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А потом приходит молодой, красивый, сильный отец. Он выхватывает меня из кровати, подбрасывает с веселым смехом, потом опускает на пол, и я бегу умываться…
Да, это только фантазия, приторно-сладкая мечта. Такого солнечного весеннего, счастливого утра не было в моей жизни ни одного. Ни разу.
Думаю, что многие мои соотечественники и сверстники (думаю, что большинство) могут сказать о себе, увы, то же самое.
Вспоминаю детство, юность, оглядываюсь вокруг себя и вижу: насилие, непонимание, жестокость, убийства всегда бушевали да и теперь бушуют вокруг. И сплошь да рядом связаны они с тем, что должно сопровождаться, наоборот, любовью. Почему?
Цветы
Да, мрачное, мрачное было время (военное… послевоенное…) – этакая бездна голода, болезней, смертей близких, темноты, грязи. Чем я только ни болел, говорят, – и коклюшем, и свинкой, и скарлатиной, и дифтеритом, и краснухой, и корью – ни одной детской болезни не миновал, кажется, да еще, как уже сказано, состоял на учете в туберкулезном диспансере. Не говоря уже о бесконечных простудах, аллергиях, головных болях. Но…
Странно, однако помню, что упорно жило во мне ощущение заколдованности, искусственности мрака, который всех нас окружает. И который в принципе можно преодолеть. Который преодолеть просто необходимо! Конечно, много раз я пытался вообразить, что умираю, и со жгучим удовольствием представлял, как и сестра, и бабушка, и тетя Лиля, и соседи мои, и приятели плачут около моего детского гроба, испытывая угрызения совести… Но все же этих соблазнительных представлений было недостаточно, чтобы заглушить непонятно почему теплящееся желание жить и… ощущение таинственной, могучей прелести мира, которую словно кто-то упорно скрывает от нас…
Ведь была при всем при том школа, где ухитрялся без особых трудов быть отличником, были приятели – в них никогда не было недостатка, и большинство из них непонятно за что меня уважали, – были растения, «комнатные цветы», которые разводил с благословения и при поддержке бабушки во множестве горшков и консервных банок на широких подоконниках старого нашего дома. Однажды их скопилось около сорока.
…Маленькие, иногда совсем крошечные крупицы семян я хоронил среди мягких, черных и влажных комочков земли в какой-нибудь консервной банке, а в лучшем случае в круглом горшочке из обожженной красноватой глины: проминал пальцем углубление, бросал туда зернышко, заравнивал сверху, – потом поливал из чашки водой из-под крана… И через какое-то время – о, чудо! – из комковатой земляной поверхности осторожно выглядывал сначала хрупкий белый изгиб стебелька, но вот он распрямлялся, раскрывал две толстенькие светло-зеленые округлые створки семядолей, и из таинственных складочек между ними уже выглядывали нежные, изумрудные, пока еще сморщенные, но быстро увеличивающиеся и распрямляющиеся первые листья. Рождалась новая жизнь… И вот в мрачной моей, убогой, серой комнате удивительным образом вспыхивал источник красоты и добра, огонек прекрасной и вечной жизни, вопреки всему… А что говорить, когда на свежем, юном, выросшем уже зеленом кустике – с главным толстым стеблем, ответвлениями, резными блестящими листьями – появлялись бутоны и, раскрываясь, одаривали нас с бабушкой и сестрой щедрой, роскошной, необъяснимо волнующей, порой даже и ароматной прелестью цветка. Бальзамин! Откуда появился он? Почему? Как могло это хрупкое, нежное чудо родиться из обыкновенной земли и крошечного сухого зернышка?
Бальзамины, фуксия, герань, настурция, чайная роза, бархотки, петуния, ипомея – это все цветущие, но были и просто лиственные, вечнозеленые – аспарагус, аспидистра, традесканция, плющ… Музыка названий, бездна загадок и тайн. Некоторые размножались только черенками: по какому-то магическому закону из обломанного зеленого стебелька в воде вдруг появлялись тонкие, белые ростки корней…
А однажды мы с бабушкой воткнули в землю горшка несколько косточек финика. Долго и аккуратно я поливал землю – ничего не вырастало. Прошло недели три, а может и больше, не помню сейчас, и я решил посадить что-нибудь в пустой горшок, но сначала все-таки разрыл землю, чтобы посмотреть. Сердце замерло, когда увидел: одна из косточек сильно разбухла, из нее появился белый росток… Разумеется, я бережно закопал ее, и – о, очередное чудо! Из влажной земли горшка на моем подоконнике вылез детеныш далекой, южной финиковой пальмы! Забегая вперед, скажу, что через год или два появились первые настоящие разрезные листья, а лет через двадцать огромное экзотическое растение, давно уже отданное моим родственникам со стороны отца по причине своих размеров, было ими передано в какой-то ресторан – финиковая пальма, выросшая из косточки, занимала полкомнаты…
А были еще аквариумы с гуппи, меченосцами, макроподами, птицы в клетках. Террариум с лягушками и ящерицами и, конечно, белые мыши. Тогда все это стоило очень дешево.
– Всю комнату провонял своими мышами! Сказано: пришел из школы – убери в клетках, вынеси ведро, подмети пол, помой руки. Говоришь, говоришь… Садись за уроки, наконец! Нет, сначала пыль вытри и печку растопи, потом сядешь. Да еще дров поколоть надо, Никольские нам две доски дали.
Грязь, талый снег. Упругие доски, от которых отскакивает топор. Щепки и комки снега в лицо.
Иногда удавалось достать настоящие дрова, главным образом, конечно, осину. Мы с сестрой пилили, я колол. Однажды принес охапку и упал с ней в дверях – голова закружилась. Голодный.
Дом
До сих пор мне снятся сараи. Наш – из красного кирпича, с перекошенной деревянной дверью, толстым висячим замком – предпоследний в ряду других таких же, рядом с домом, на заднем дворе. Вообще действия снов, если они связаны не с какой-нибудь поездкой, а с постоянным жильем, происходят на старой квартире – там, на Верхне-Радищевской, неподалеку от знаменитого теперь на весь мир театра «На Таганке». В те времена на том месте было два заведения: театр Драмы и комедии, его называли почему-то «Театр Сафонова», и ресторан «Кама». Вижу сараи, вижу комнату, квартиру, двор, чердак, задний двор, улицу – все как было, – хотя теперь давно уже живу на другой квартире, в районе трех московских вокзалов.
Дом был небольшой, но мощный, с почти метровой толщины стенами, с «кумполом» и завитушкой наверху, которую прохожие старушки иногда принимали за крест и крестились. Парадная витая широкая лестница из желтого камня, с площадкой перед дверями второго, верхнего этажа, даже в мрачные, голодные военные и послевоенные годы, казалось, дышала уютом, теплом. Так приятно было ступать в жаркий летний день по шершавым каменным ступеням босыми ногами! Лестница шла вдоль стены, а с другой стороны ее ограничивала декоративная чугунная решетка, на которой покоились черные деревянные перила, тоже резные. Надежностью, основательностью веяло от нее, от лепных барельефов на плоском потолке парадного.
Таинственным, завораживающим был чердак – одно время там сушили белье после стирки, – почему-то помню его теплым, уютным по-своему, с толстыми деревянными балками, деревянным полом, покрытым мягким слоем песка. Идти на чердак нужно через черный ход – жуткий, мрачный, с кирпичными стенами, узкой каменной лестницей и ржавыми чугунными прутьями вместо перил, – там было всегда темно и страшно, всегда под ногами почему-то попадались куски штукатурки и кирпича, в углах наверняка гнездилась нечистая сила, но зато наверху за мощной, обитой железом дверью открывалось тоже сказочное, но доброе чердачное пространство, а потому главное проскочить черный ход, это опасное, враждебное чистилище… Из чердака же прямо на железную крышу можно попасть через окошко с деревянной решеткой, поднявшись к нему по аккуратной приставленной лесенке. Крыша покатая, довольно крутая, но теплая, даже горячая летом, я там иногда загорал.
Двор тоже был когда-то совсем другим – уютным, ухоженным, с несколькими большими деревьями, с солидными, массивными воротами на улицу и решетчатой чугунной оградой. И ворота, и решетка тоже были произведениями искусства, как и козырьки-навесы над каждым крыльцом. Конечно, все это постепенно приходило в упадок. Конечно, наш дом, который несомненно был одушевленным, живым существом, умирал постепенно, теряя мощь, утрачивая магическую свою живую силу, которая, как я думаю, помогала всем его обитателям выживать в убийственные, дикие годы, когда сначала мистическая, серая ненависть, словно паутина, сковала людей, заставляя их не быть самими собой, превращая в подозрительных, мелочных, лживых существ, а потом в первые годы войны уже и само небо стало враждебным, разорванным чужим самолетным гулом, расчерченным мятущимися лучами прожекторов, насыщенным металлом, дымом, огнем.
Однажды кто-то из ребят совершенно случайно, копая в уголке около одного из подъездов, обнаружил в земле разноцветные граненые камушки-стеклышки. Мы все ринулись туда со своими совками, лопатками. И действительно. В сыпучей бурой земле посверкивали настоящие драгоценные камушки – топазы, изумрудики, рубины – точно такие, какие бывают в кольцах, брошках, сережках. Откуда они там взялись? Я принес, помню, свою добычу домашним – бабушке, сестре, – но они с подозрением отнеслись к этим находкам, и, помнится, спрятали их с каким-то даже испугом. Что это было? Клад? И сейчас не знаю…
Как-то осенью играли в военную игру и нужно было «ловить врага», я поймал девочку из вражеской команды, схватил ее, мы упали на мягкую землю, я почувствовал, как бьется ее сердце и слабеет сопротивление… Что-то возникло между нами, что-то мгновенное и тревожное – она перестала сопротивляться, я в растерянности и недоумении отпустил ее, поднялся и помог ей встать, чувствуя неожиданную нежность к «врагу» и непонятный стыд.
Однажды – когда мы были еще совсем детьми – хитрую игру придумали девочки со двора, когда пришли ко мне в гости. Их было три, а я один, зачем-то выстроили «домик» из стульев, письменного стола, покрывал, что-то это было наподобие «дочки-матери» или «больница», и зачем-то уже собирались снимать трусики, одна, кажется, уже даже сняла, но тут пришла сестра и разрушила наше гнездышко, что-то, кажется, заподозрила. Но это и вовсе в темных дебрях памяти, как из давнего, давнего сна.
Помню еще, с каким чувством разочарования узнал, что девочки носят такие же как и мы, мальчишки, фамилии – такие некрасивые, неблагозвучные иной раз. Школа-то у нас была «мужская», девочек я видел только во дворе или на улице, фамилии, как считал раньше, были только у нас, мальчишек, а девочки – это же совсем другие создания…
Было сексуальное стремление к родственникам? Было. К одной из сестер в детстве. Может быть, потому, что она как-то многозначительно посматривала на меня иногда (возможно, мне это только казалось, возможно, она и сама не осознавала этого). Думаю, что если бы спали все вместе, как это бывает в некоторых семьях, и если бы какие-то шаги с ее стороны последовали, то могло бы пойти и дальше.
Конечно, был интерес и к соседке по квартире, девочке Люсе, почти ровеснице – на год или два моложе. Однажды мы с приятелем, тоже соседом, зазвали ее ко мне в комнату и в темноте, по ее согласию, поочереди поводили своими крошечными неразвитыми отростками по ее трогательным складочкам между ног – было приятно, очень волнующе, очень острое, жгучее ощущение – помню! – но что делать дальше, мы все трое понятия не имели. Люся ведь даже не раздвигала ножки, они были у нее крепко сжаты. Лет нам было что-нибудь восемь-девять.
И еще помню. Девочке со двора захотелось иметь какую-то мою вещь, и она предложила «за это один разик взять в рот».
– Хочешь? – лукаво спросила она, улыбаясь и глядя на меня как-то странно.
Я сначала не понял. Но она показала пальчиком на мои штаны.
Меня словно кипятком окатили, растерялся и покраснел, наверное, ужасно, но изо всех сил пытался сделать вид, что это мне нипочем и, чтобы оттянуть время, стал торговаться и выторговал не один, а то ли три, то ли целых пять раз. И, расстегнув мои штанишки, она сделала это, причем раза два даже сверх уговора. Я тотчас почувствовал нечто острое, стыдное, но жгуче приятное. Ошеломленный, отдал ей честно заработанную вещь (не помню, что именно) и спросил со взрослым видом, едва превозмогая отчаянное смущение:
– Ну и как тебе?
– Нормально, – ответила она. – Солененько.
Умер наш дом. Иногда я бываю в тех местах. Нет его. Хотя и не снесли, не разрушили до конца стены и перекрытия. Но это уже другое – старое, подремонтированное, «осовремененное» строение, с безликими конторами, «офисами». Ощущение такое, что живут там инопланетяне, пришельцы. Не с Голубой планеты. С Серой.
Отец
…Война закончилась. Помню праздничные салюты. Помню радость, когда в нашем доме включили электричество. И вода почти не замерзала. И дрова и доски доставали теперь почти всегда – топили не времянку, а настоящую печку.
По случаю включения электричества, помню, мы с той самой девочкой, соседкой по квартире, Люсей, прыгали от радости в моей комнате, потом зачем-то скинули трусики и прыгали без трусов. Впервые в жизни тогда я увидел остро, явственно, при дневном свете – так, что запомнилось на всю жизнь! – те самые девичьи складочки между ногами. Аккуратненькие, пухленькие, странно волнующие.
Отец вернулся инвалидом второй группы, нервным, больным – раненным и контуженным – с отекающими ногами, колитом, гастритом, еще целым букетом болезней. Помню, как он сидел утром на краю постели и смотрел на свои ноги. Они были толстые, желтые, с редкими волосками. Он нажимал пальцем, оставалась ямка, которая долго не исчезала. Отец тяжело вздыхал и говорил, что это от недоедания… Говорят, что пытались найти для него женщину, которая стала бы моей мачехой. Но он никого не хотел. Или стеснялся.
Мы с ним прожили всего года полтора или два – однажды в начале мая, когда он шел с работы, его сбила машина. Насмерть. Я тогда был в санатории, «лесной школе», через два месяца мне исполнялось двенадцать лет.
Помню эту «лесную школу», весенний день, деревья еще голые – чуть-чуть зеленая дымка, – мы с ребятами играем в футбол на влажном поле. И приехала мать одного из моих приятелей, Юры Розмахова – она сидит на лавочке и смотрит, как мы играем, а потом зачем-то подзывает меня, а когда я подхожу, странно смотрит и говорит вдруг:
– Аккуратней с ботиночками. Папа твой заболел, когда еще новые купит.
То, что отец заболел, для меня было не удивительно, он болел почти всегда, но вот как сказала она, как смотрела… Я, разумеется, понять не мог, но тотчас же надвинулось что-то страшное, мрачное, остаток того дня я, как говорится, не находил себе места.
Ночью в палате проснулся и почувствовал, как из форточки в высоко расположенном и довольно далеком от моей кровати окне тянет жутким холодом. Почему-то я вдруг горько заплакал, слезы просто душили.
Теперь вспоминаю: точно такой же холод потянул тоже ночью и тоже из форточки много, много лет спустя, и я внезапно проснулся, чувствуя тревогу и удушье. А утром позвонил приятель и громким, срывающимся голосом сообщил:
– У Женьки был ночью пожар, он погиб, он сейчас в морге, если хочешь узнать подробности, звони по телефону матери, там сейчас его брат.
Женя был мой друг, тоже писатель, мы с ним очень сблизились одно время, но беда в том, что он теперь много пил, не брезговал никакими женщинами, и, подозреваю, одна из них, о которой он мне рассказывал и которую я однажды видел, подожгла диван в его кухне, а сама ушла… Пьяный, он задохнулся от дыма во сне. И еще, как потом выяснилось, я, возможно, мог бы спасти его, если бы тогда, проснувшись среди ночи, позвонил бы ему и разбудил бы… Но где же знать, что это из-за него я чувствовал удушье и холод?…
Тогда же, в санатории, все давно уже было кончено: мать Юрия Розмахова была знакома с кем-то из моих родственников и знала, что случилось с отцом.
А на другой день приехала сестра и увезла меня на похороны.
То, что произошло, я воспринял уже как бы и само собой разумеющимся, это казалось естественным, бесконечная череда смертей стала для всех нас привычной, вопрос был только в том, кто будет следующим.
Отец прожил сорок семь лет, он был чисто русский, с Оки, из маленького старинного городка Озеры. Вообще я не очень хорошо помню его. Да ведь видел мало. Еще один эпизод, правда, вспоминается четко.
Утром он вставал рано, шел в магазин за хлебом, а перед этим варил манную кашу на завтрак – в маленькой алюминиевой кастрюльке для нас двоих (кастрюлька эта и сейчас цела), потом съедал свою половину и шел на работу, предварительно разбудив меня. Чтобы каша на остывала, он ставил кастрюльку в глубокое темно-зеленое бабушкино кресло и накрывал одеялом. Однажды я проснулся сам и, решив, что он просто забыл меня разбудить, тотчас бросился к каше и съел ее всю, не заметив, что кастрюлька на этот раз была полная. Оказалось, что я встал слишком рано, отец, сварив кашу, еще не ел ее и пошел в магазин натощак. Он вернулся из магазина, и я с ужасом осознал, что съел и его долю. Я горел от стыда и, что называется, готов был провалиться сквозь землю. Заперся в туалете и не выходил до тех пор, пока отец не ушел на работу. Вечером он, однако, совсем не ругался, только странно смотрел на меня и шутил: