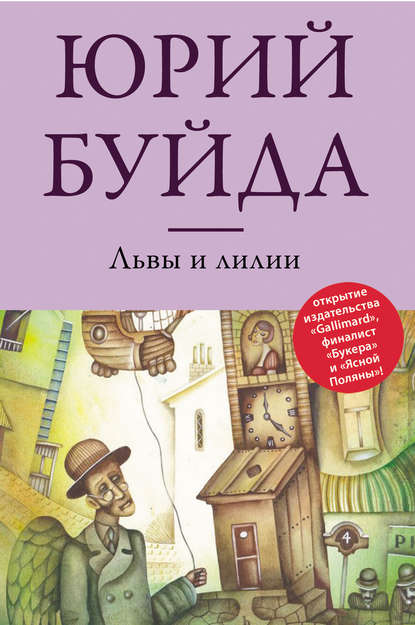По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Львы и лилии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда я очнулась, рядом был Андре…
У матери тогда был роман с этим Андре… она говорила, что это ее осенний роман… последний… врала, конечно, как всегда, но так она тогда говорила: осенний роман… она называла его Андре… его звали Андреем, а она называла его Андре… пошлость какая… он был моложе ее лет на двадцать или на пятнадцать… она вообще обожала молодых… даже иногда называла себя Федрой, а всех этих мальчиков, которых тащила в свою постель, – Ипполитами… Федра и Ипполиты… закатывала глаза и декламировала: «Давно уже больна ужасным я недугом» – и вдруг начинала хохотать… пошлая Федра… Ипполиты были не лучше… но Андре был очень красив… смуглый, кудрявый, с яркими черными глазами… такой итальянистый парень… тупой, но красивый… он всем нравился, этот Андре… он был таким беззлобным, покладистым, веселым… а как он улыбался! Мать говорила, что он напоминает ей Льва… Льва Страхова…
А я была толстоватой, неуклюжей… девочка-подросток… грудь мешает, ноги мешают, руки мешают, задница кажется слишком большой, а глаза – слишком маленькими… слишком густые брови, слишком толстые губы… доктора это называют дисморфоманией или синдромом Алисы в Стране чудес… ну да, обычное дело… в общем, я была в него влюблена… он об этом не знал, конечно…
Когда я упала в обморок, этот Андре взял меня на руки и отнес в спальню… мать прибежала – Андре ее прогнал… мы остались одни… я не хотела, не могла говорить – говорил он… нес какие-то глупости, но у него был такой голос… завораживающий голос… пленительный… обволакивающий… я могла слушать его час, другой… хоть всю жизнь… он говорил, говорил… держал мою руку в своей, склоняясь к моему лицу… от него так пахло… мне так хотелось плакать… обнять его, прижаться, задушить… так хотелось его поцеловать… он наклонился надо мной… от него веяло медом и мятой… одеколоном, коньяком и похотью… обольстительно пахло… конечно, если бы вместо меня там вдруг оказалась такса или даже резиновая грелка, было бы то же самое – красота и похоть… бессмысленное, безмозглое, будничное обольщение… он обольщал по привычке, машинально, не задумываясь… такса, грелка, девочка – ему было все равно… но тогда – тогда я думала иначе… он гладил мою коленку… мне так хотелось схватить его, завладеть, не отпускать… ну да, по сравнению с матерью я была как прачка перед царицей… но и у прачки бывает минуточка… может, это и была моя минуточка… он говорил что-то ласковое, гладил мою коленку… и вдруг я испугалась… а вдруг его рука поднимется выше… а у меня, боже мой, очки, веснушки, этот дурацкий свитер с дурацкими медвежатами… эта Жозефина… а главное, конечно, – трусики… они были мокрыми, эти чертовы трусики… я обмочилась, когда потеряла сознание… мороз по коже… вот сейчас его рука скользнет и коснется… но второго позора я бы не пережила… я вдруг поняла, что мне никогда не завладеть этим богом… что ночью, как всегда, он будет трахать мою маман, а она будет орать на весь дом… нарочно орать – чтоб я слышала… а я останусь с Жозефиной и мокрыми трусиками… я ничего не могла поделать… отчаяние было таким сильным… отчаяние и злость… помрачение ума… на меня вдруг что-то нашло… я оттолкнула Андре, схватила со столика ножницы и ударила его в лицо… куда-то еще… кажется, в плечо… зажмурилась и стала размахивать ножницами… я стояла на коленях… на кровати… вопила что-то несуразное, бессмысленное и била, била вслепую, наугад… меня корежило… в комнату ворвались люди… кто-то попытался меня схватить – я ударила, попала… еще… крики, крики… они все кричали разом, наперебой… орали, визжали… стоял такой крик… меня наконец повалили, вырвали ножницы, чем-то накрыли, кто-то навалился на меня… я билась в каком-то припадке…
А потом… потом – потом все стихло… я лежала под одеялом… ничего не помню… сколько я так пролежала, казалось, сто лет… ни страха, ни стыда, ни раскаяния… ничего…
Ничего…
Андре, слава богу, отделался небольшим порезом… я порезала ему щеку… а мать… она ворвалась в комнату, когда я ударила Андре… стояла под дверью, подслушивала… ворвалась и набросилась… я ее ударила… я ничего не видела, я не знала, что это она… я била вслепую, с закрытыми глазами, она просто попала под удар… и я – я попала… ее отвезли в больницу, но было поздно… я себя не контролировала… я не понимала, почему я это делаю… я сошла с ума… это было помрачение ума… я не ожидала… никто не ожидал…
Мне было пятнадцать. А матери тогда только-только исполнилось сорок. Она любила прибедняться… ах, я старею… ах, я старуха… на самом деле выглядела она прекрасно… просто ужас как хорошо… и вот все кончилось… все кончилось…
Мы обе попали к врачам… мать – в больницу, в офтальмологию, а меня повели к психиатру… потом к психологу… не помогло… ей помочь не смогли… да и не могли…
Не помогло…
Вокруг матери всегда крутились поэты и красавцы… много цветов, много вина, много слов… это не могло продолжаться вечно… когда-нибудь это должно было закончиться, и оно закончилось… после того вечера, после Жозефины, после ножниц – все закончилось… какое-то время они еще приходили к нам, все эти завсегдатаи… сидели за столом, пили вино, восхищались матерью… казалось, все было как всегда… деликатненько подшучивали над ее повязкой… и она смеялась… сидела во главе стола, как всегда, снисходительно принимала комплименты… царица Савская… Семирамида… Клеопатра… а когда они уходили, она ложилась на диван и рыдала… и впервые в ее жизни это были настоящие слезы… настоящие…
Гости приходили все реже… иногда звонили… а потом и звонить перестали… избегали ее, не отвечали на ее звонки… больше всего она переживала из-за Андре… Федра скучала по своему Ипполиту… она звонила ему, писала, но он не отвечал… она ничего мне не говорила, но я чувствовала, что этот Ипполит был для нее самой болезненной утратой… странно: я ведь всегда считала ее бесчувственной сукой, и вот вдруг… странно…
Она осталась одна…
Однажды я застукала ее с водопроводчиком…
Она не разговаривала со мной восемь лет. Восемь лет мы не разговаривали друг с другом. Я жила сама по себе: школа, университет, потом работа… в университете я изучала скандинавскую литературу… саги и все такое… я нарочно выбрала Скандинавию… конунги, эрлы, этот костлявый норвежский язык… это было наказание… Снорри Стурлусон, Гримнир, Эдда, битвы и песни… перед сном я рассказывала своему плюшевому льву о том, как прошел день… рассказывала о своей жизни… об этом мире, в котором мне приходилось столько страдать… об этой тьме… о заброшенной шахте, о руднике, о месторождении горя и боли… россыпи зла… золотые жилы унижения… и на самом дне этого ада – пятно света… пятнышко… белая бедная Лилечка… невинное дитя зла… бедная белая лилия во тьме… бедная Лилечка, окруженная демонами, бесами, чудовищами… чешуя и шерсть, шипы и клыки… багровое пламя и смрад…
А эти мечты! Эти мечты… Я сшила себе что-то вроде трико… что-то вроде купальника на пуговицах… чтобы снять купальник, нужно было расстегнуть сто пуговиц… сто! Бред какой-то… чего только не придет в голову… по вечерам я расстегивала купальник… первая пуговица, вторая, третья, четвертая… я закрывала глаза, воображая, как он расстегивает эти пуговицы… первую, вторую, третью, четвертую… чтобы добраться до меня, ему нужно было расстегнуть сто пуговиц, боже мой, сто пуговиц! Утром и вечером – сто пуговиц… безумие, настоящее безумие… каждый день – сто пуговиц…
Одиночество превращает человека в чудовище…
Деньги, оставленные отчимом, таяли – и скоро растаяли… он был очень состоятельным человеком, но мать швыряла деньги не глядя, не задумываясь о будущем… Сначала пришлось продать квартиру на Малой Бронной, мы переехали в Ясенево, в двушку… потом в Кандаурово, в новый район за Кольцевой автодорогой… эти двадцатиэтажные новенькие гробы среди пустырей… В театре ей платили – платили из милости… платили крохи… вирджинский табак сменился китайским, французский коньяк – дагестанским, камамбер – костромским сыром… но таблетки – таблетки остались… коньяк и таблетки… коньяк и нембутал, коньяк и сибазон, коньяк и тианептин… у нас всегда было много таблеток… флуразепам, ксанакс, амантадин, карбазепин, валиум… коньяк, таблетки, сигареты, телевизор… все реже книги, все чаще телевизор…
К тому времени она снова стала разговаривать со мной. Она ведь ничего не умела и не хотела уметь. Обед, ужин – все готовила я. У нее не было выбора. Ей приходилось считаться со мной, иначе я могла оставить ее без обеда. Мне это и в голову не приходило, конечно. То есть – вру, приходило, да, иногда хотелось, ой как хотелось, чтобы она повыпрашивала, повымаливала у меня кусок хлеба… но стоило только вообразить, как она ползает на коленях… это ее белое горло, эта ее родинка… нет, невозможно, то есть, наверное, да, я могла бы ее убить, но – не унизить… убить, но не унизить…
И еще эта ее селедочка… селедочка! Она ведь никогда раньше так не говорила, считала это верхом пошлости – все эти «картошечки», «селедочки», «хлебушки»… и вдруг – селедочка… Лилечка, можно мне селедочки? Я чуть не убила ее… я чуть не умерла от стыда и горя…
Но еще ужаснее были ее воспоминания… все эти ее мужчины, все эти поэты и красавцы… она перебирала их, как старуха – пуговицы в шкатулке… этот, тот и этот, а еще тот… как же его звали? Она забывала их имена… забыла… помнила только, что они любили ее… обожали ее… ползали на коленях… носили на руках… воспевали… целовали ее ноги…
Ну и, конечно, вернулся Лев Страхов… ураган, катастрофа, погибель… землетрясение и пожар… настоящая любовь… она вспоминала его каждый день… она ждала письма, звонка, зова… вот он приедет, примчится, толкнет дверь, подхватит ее на руки, швырнет на кровать, зарычит, набросится… захватчик, победитель, герой… и этот его голос – пленительный голос зла… она плакала, глотала таблетки, пила коньяк…
Я много раз просила ее рассказать о себе… не о любовниках, нет, и не о Льве Страхове, черт бы его взял, – о себе, о настоящей… я же ничего не знала о ее детстве, о ее родителях… что она читала, что любила, ненавидела, как, чем жила до меня… я пыталась расспрашивать ее о театре, о ее ролях… о чувствах, мыслях… черт, мне хотелось объема, жизни, живого человека, а не безупречного мрамора… дело даже не в том, чтобы полюбить ее какой-то новой, живой любовью… дело в том, что я хотела понять… понять ее… она была не просто моей матерью – она была частью меня… но я – я не была ее частью, вот в чем дело… она не считала нужным… ей и в голову не приходило – открыться перед дочерью, перед единственной дочерью… а ведь я – все, что у нее осталось… все, больше ничего у нее не было… ничего и никого – только я… наверное, я поздно спохватилась… а может быть, мне не хватало настойчивости… и еще эта моя постыдная деликатность… не суй нос в чужую жизнь… ее жизнь была чужой, закрытой… да, ото всех закрытой… она привыкла фальшивить, притворяться, играть… она не хотела рассказывать о себе ничего такого, что изменило бы мое отношение к ней… она не хотела и, наверное, уже не могла сойти на мою землю – это я должна была подняться до ее небес… тень должна вырасти… ну а если у тени это не получается, что ж, это проблема тени… моя проблема… она считала, что все в порядке, хотя никакого порядка давно не было и в помине… ей было достаточно воспоминаний о том, как ее любили, обожали, носили на руках… все эти поэты и красавцы, имена которых она даже не потрудилась запомнить… ей было достаточно Льва Страхова, коньяка и нембутала… коньяка и валиума… коньяка и феназепама…
И лишь однажды… это случилось незадолго до ее смерти… я хорошо помню тот вечер… мы смотрели по телевизору новости и вдруг услыхали: погиб Андре… тот самый Андре… оказывается, этот итальянистый красавец женился на какой-то страшно богатой женщине… она была старше его… лет на тридцать, наверное, старше и очень богата… миллионерша какая-то… они прожили вместе года полтора… и вдруг он соблазнил то ли ее дочь, то ли внучку, какую-то молоденькую девочку, и эта старуха его убила… забила до смерти железной палкой… ужас… я хорошо помнила Андре: он соблазнял всех машинально, привычно, мимоходом… у него качество такое было – всех соблазнять, всем нравиться… ну, это как цвет глаз или привычка дышать, от природы… у кого-то голубые глаза, а у Андре – привычка соблазнять… а эта женщина приревновала его к девчонке – и убила… железной палкой, боже мой, железной палкой по голове…
Сюжет в новостях был коротким – не больше минуты… потом стали показывать каких-то футболистов… и вдруг я услыхала стон… я испугалась… я даже не поняла сначала, что происходит… а это она – она плакала… она тихонько всхлипывала, постанывала, у нее текло из носа… она вся содрогалась… Господи, я никогда не видела ее такой… никогда… ну да, коньяк и таблетки, это понятно, но все же, все же… дело не только в коньяке и таблетках, я уверена… она корчилась… плакала, забыв про коньяк… уронила сигарету на пол – едва не прожгла ковер… я растерялась… не знала, что делать… я боялась ей помогать – она ведь могла разозлиться, накричать…
Потом она затихла… выпила коньячку, закурила… я не стала выключать телевизор, чтобы не спугнуть ее… она сама выключила… встала, прошлась по комнате… наконец заговорила…
Никогда я ее не понимала, эту Федру, сказала мать, наверное, все дело в том, что я – другая… я – Ганна Главари, Марица, фейерверк, трам-там-там и трам-там-там… а она – она из другого теста, эта Федра… из того же теста, из которого выпечены все эти Клитемнестры, Медеи и леди Макбет… тяжеловесные стихи, пафос, тога… или что там они носили? Пеплос? Хитон? В общем, что-то ужасное, монументальное, из мрамора и гранита… монументы, а не люди… все эти Тесеи, Ипполиты, Цицероны… и Федра… эта Федра… влюбиться в мальчика только потому, что он похож на ее мужа… но ведь не в муже дело… да плевать ей было на мужа… ни один муж не стоит бессонных ночей и слез… о господи… а вот этот мальчик – стоит, он стоит бессонных ночей… впрочем, дело даже не в мальчике, нет… это любовь… он стоит любви… любовь стоит любви…
Я слушала ее, держась рукой за горло… мне казалось, она бредит… но она не бредила…
Она говорила усталым и почти трезвым голосом, хотя и не очень уверенно держалась на ногах…
Теперь-то я понимаю эту Федру, сказала она, понимаю… поздно… все – поздно… Ипполит, бедный мой Ипполит, глупый и бедный Ипполит, любимый мой… каким же дураком он был, господи, каким же дураком… глупый, красивый, нежный Андре… ласковый и глупый… настоящий красавец… настоящая красота всегда глупа… убить ее – проще простого…
С горькой усмешкой покачала головой и заговорила, не повышая голоса:
Давно уже больна ужасным я недугом.
Давно… Едва лишь стал Тезей та-та та-та-та
И как-то там та-та та-та – та-та
Я, глядя на него, краснела и бледнела,
То пламень, то озноб мое терзали тело,
Покинули меня и зрение и слух,
В смятенье тягостном затрепетал мой дух…
Рассмеялась – деревянным каким-то смехом… у меня мурашки по коже от ее смеха…
Господи, сказала она, какая это чушь… какая прекрасная чушь, боже ты мой… какая сладкая чушь… я была как мяч, понимаешь? Как будто он брал меня… вот так, в руку… и швырял… и я взлетала в небо и вспыхивала, и сгорала… какое счастье – взлететь, сгореть, исчезнуть навсегда… а теперь… а теперь – Ипполит погиб, а Федра… Федра… Федра эта ваша – дура… одноглазая дура…
И снова зарыдала.
Я не выдержала… боже, боже мой… в ту минуту у меня не было никого ближе, никого любимее, никого – роднее… только она, она!.. Я не выдержала, заплакала, заревела дура дурой, бросилась к ней, обняла, опрокинула стакан…
Она спохватилась… нахмурилась… отстранилась, поправила волосы, потянула носом и, глядя поверх моей головы, сказала: «Милочка, ты разлила мой коньяк…»
Милочка…
Я схватила тряпку и стала вытирать пол.
А потом она умерла…
Я часто думаю об этом… о ее смерти… встаю пораньше, подхожу к окну… раннее утро, только-только начинает светать… небо над крышами становится светлее… редкие машины… люди… мне ничего не приходит в голову… наверное, все просто: праздник завершился, наступили будни… на земле валяется чья-то перчатка… всюду конфетти, какие-то бумажки, окурки… хмурые дворники шаркают метлами… однажды утром мать забралась на подоконник и шагнула в пустоту… восьмой этаж… без криков, воплей, без истерики – просто шагнула с подоконника… лучше бунт, чем будни… я ничего не слышала… проснулась от звонка в дверь… это была соседка… она принесла глаз… стеклянный глаз, завернутый в носовой платок… мать так никогда и не воспользовалась протезом… носила темные очки… этот чертов глаз был у нее в кармане, когда она выбросилась из окна… соседка отдала мне ее глаз… я хотела его выбросить, но не выбросила…
На кладбище собралось множество людей. Я плохо понимала, что происходит и что говорят все эти мужчины и женщины… меня мутило, и при этом меня била радостная дрожь… радостная дрожь и предвкушение чуда… я не знала, что с этим делать, как быть, мне было стыдно: похороны, горе – и вдруг эта неуместная радость… болела голова, текли слезы, тугая резинка в трусах больно впивалась в живот… и еще этот душераздирающий, умопомрачительный оркестр… всюду елочные лапы, какие-то ветки, цветы, яма… мне она показалась огромной, как вход в древний собор или в преисподнюю… все кругом блестело и сверкало… накануне был дождь, а в день похорон рассиялось солнце… синее небо, яркое солнце… блестела глина, блестели венки и цветы… лилии, много лилий – белых, желтоватых, оранжевых… этот их томный божественный запах… все сверкало, искрилось, вспыхивало, пылало… просто праздник… пиршество света и цвета… и надрывный рев огненных медных труб… оркестр играл яростно, отчаянно, на разрыв… праздник смерти… было очень красиво… зелень, золото, синева, музыка, цветы, гром, блеск и ужас… смерть во всем блеске… во всем своем театральном величии…
Среди венков я вдруг увидела один с надписью на ленте – «От Льва Страхова». Ко мне подошел молодой мужчина… наверное, мой ровесник… сказал, что он – Лев Страхов… Рослый узкоглазый хищник с хорошими зубами… он был похож на Андре, но без сахара…
– Я думала, вы старше, – сказала я.
– Моего отца тоже звали Львом, – сказал он. – Он недавно умер.
– А меня тоже зовут Лилией…
И мы оба вздохнули… ох уж эти причуды родителей…
У матери тогда был роман с этим Андре… она говорила, что это ее осенний роман… последний… врала, конечно, как всегда, но так она тогда говорила: осенний роман… она называла его Андре… его звали Андреем, а она называла его Андре… пошлость какая… он был моложе ее лет на двадцать или на пятнадцать… она вообще обожала молодых… даже иногда называла себя Федрой, а всех этих мальчиков, которых тащила в свою постель, – Ипполитами… Федра и Ипполиты… закатывала глаза и декламировала: «Давно уже больна ужасным я недугом» – и вдруг начинала хохотать… пошлая Федра… Ипполиты были не лучше… но Андре был очень красив… смуглый, кудрявый, с яркими черными глазами… такой итальянистый парень… тупой, но красивый… он всем нравился, этот Андре… он был таким беззлобным, покладистым, веселым… а как он улыбался! Мать говорила, что он напоминает ей Льва… Льва Страхова…
А я была толстоватой, неуклюжей… девочка-подросток… грудь мешает, ноги мешают, руки мешают, задница кажется слишком большой, а глаза – слишком маленькими… слишком густые брови, слишком толстые губы… доктора это называют дисморфоманией или синдромом Алисы в Стране чудес… ну да, обычное дело… в общем, я была в него влюблена… он об этом не знал, конечно…
Когда я упала в обморок, этот Андре взял меня на руки и отнес в спальню… мать прибежала – Андре ее прогнал… мы остались одни… я не хотела, не могла говорить – говорил он… нес какие-то глупости, но у него был такой голос… завораживающий голос… пленительный… обволакивающий… я могла слушать его час, другой… хоть всю жизнь… он говорил, говорил… держал мою руку в своей, склоняясь к моему лицу… от него так пахло… мне так хотелось плакать… обнять его, прижаться, задушить… так хотелось его поцеловать… он наклонился надо мной… от него веяло медом и мятой… одеколоном, коньяком и похотью… обольстительно пахло… конечно, если бы вместо меня там вдруг оказалась такса или даже резиновая грелка, было бы то же самое – красота и похоть… бессмысленное, безмозглое, будничное обольщение… он обольщал по привычке, машинально, не задумываясь… такса, грелка, девочка – ему было все равно… но тогда – тогда я думала иначе… он гладил мою коленку… мне так хотелось схватить его, завладеть, не отпускать… ну да, по сравнению с матерью я была как прачка перед царицей… но и у прачки бывает минуточка… может, это и была моя минуточка… он говорил что-то ласковое, гладил мою коленку… и вдруг я испугалась… а вдруг его рука поднимется выше… а у меня, боже мой, очки, веснушки, этот дурацкий свитер с дурацкими медвежатами… эта Жозефина… а главное, конечно, – трусики… они были мокрыми, эти чертовы трусики… я обмочилась, когда потеряла сознание… мороз по коже… вот сейчас его рука скользнет и коснется… но второго позора я бы не пережила… я вдруг поняла, что мне никогда не завладеть этим богом… что ночью, как всегда, он будет трахать мою маман, а она будет орать на весь дом… нарочно орать – чтоб я слышала… а я останусь с Жозефиной и мокрыми трусиками… я ничего не могла поделать… отчаяние было таким сильным… отчаяние и злость… помрачение ума… на меня вдруг что-то нашло… я оттолкнула Андре, схватила со столика ножницы и ударила его в лицо… куда-то еще… кажется, в плечо… зажмурилась и стала размахивать ножницами… я стояла на коленях… на кровати… вопила что-то несуразное, бессмысленное и била, била вслепую, наугад… меня корежило… в комнату ворвались люди… кто-то попытался меня схватить – я ударила, попала… еще… крики, крики… они все кричали разом, наперебой… орали, визжали… стоял такой крик… меня наконец повалили, вырвали ножницы, чем-то накрыли, кто-то навалился на меня… я билась в каком-то припадке…
А потом… потом – потом все стихло… я лежала под одеялом… ничего не помню… сколько я так пролежала, казалось, сто лет… ни страха, ни стыда, ни раскаяния… ничего…
Ничего…
Андре, слава богу, отделался небольшим порезом… я порезала ему щеку… а мать… она ворвалась в комнату, когда я ударила Андре… стояла под дверью, подслушивала… ворвалась и набросилась… я ее ударила… я ничего не видела, я не знала, что это она… я била вслепую, с закрытыми глазами, она просто попала под удар… и я – я попала… ее отвезли в больницу, но было поздно… я себя не контролировала… я не понимала, почему я это делаю… я сошла с ума… это было помрачение ума… я не ожидала… никто не ожидал…
Мне было пятнадцать. А матери тогда только-только исполнилось сорок. Она любила прибедняться… ах, я старею… ах, я старуха… на самом деле выглядела она прекрасно… просто ужас как хорошо… и вот все кончилось… все кончилось…
Мы обе попали к врачам… мать – в больницу, в офтальмологию, а меня повели к психиатру… потом к психологу… не помогло… ей помочь не смогли… да и не могли…
Не помогло…
Вокруг матери всегда крутились поэты и красавцы… много цветов, много вина, много слов… это не могло продолжаться вечно… когда-нибудь это должно было закончиться, и оно закончилось… после того вечера, после Жозефины, после ножниц – все закончилось… какое-то время они еще приходили к нам, все эти завсегдатаи… сидели за столом, пили вино, восхищались матерью… казалось, все было как всегда… деликатненько подшучивали над ее повязкой… и она смеялась… сидела во главе стола, как всегда, снисходительно принимала комплименты… царица Савская… Семирамида… Клеопатра… а когда они уходили, она ложилась на диван и рыдала… и впервые в ее жизни это были настоящие слезы… настоящие…
Гости приходили все реже… иногда звонили… а потом и звонить перестали… избегали ее, не отвечали на ее звонки… больше всего она переживала из-за Андре… Федра скучала по своему Ипполиту… она звонила ему, писала, но он не отвечал… она ничего мне не говорила, но я чувствовала, что этот Ипполит был для нее самой болезненной утратой… странно: я ведь всегда считала ее бесчувственной сукой, и вот вдруг… странно…
Она осталась одна…
Однажды я застукала ее с водопроводчиком…
Она не разговаривала со мной восемь лет. Восемь лет мы не разговаривали друг с другом. Я жила сама по себе: школа, университет, потом работа… в университете я изучала скандинавскую литературу… саги и все такое… я нарочно выбрала Скандинавию… конунги, эрлы, этот костлявый норвежский язык… это было наказание… Снорри Стурлусон, Гримнир, Эдда, битвы и песни… перед сном я рассказывала своему плюшевому льву о том, как прошел день… рассказывала о своей жизни… об этом мире, в котором мне приходилось столько страдать… об этой тьме… о заброшенной шахте, о руднике, о месторождении горя и боли… россыпи зла… золотые жилы унижения… и на самом дне этого ада – пятно света… пятнышко… белая бедная Лилечка… невинное дитя зла… бедная белая лилия во тьме… бедная Лилечка, окруженная демонами, бесами, чудовищами… чешуя и шерсть, шипы и клыки… багровое пламя и смрад…
А эти мечты! Эти мечты… Я сшила себе что-то вроде трико… что-то вроде купальника на пуговицах… чтобы снять купальник, нужно было расстегнуть сто пуговиц… сто! Бред какой-то… чего только не придет в голову… по вечерам я расстегивала купальник… первая пуговица, вторая, третья, четвертая… я закрывала глаза, воображая, как он расстегивает эти пуговицы… первую, вторую, третью, четвертую… чтобы добраться до меня, ему нужно было расстегнуть сто пуговиц, боже мой, сто пуговиц! Утром и вечером – сто пуговиц… безумие, настоящее безумие… каждый день – сто пуговиц…
Одиночество превращает человека в чудовище…
Деньги, оставленные отчимом, таяли – и скоро растаяли… он был очень состоятельным человеком, но мать швыряла деньги не глядя, не задумываясь о будущем… Сначала пришлось продать квартиру на Малой Бронной, мы переехали в Ясенево, в двушку… потом в Кандаурово, в новый район за Кольцевой автодорогой… эти двадцатиэтажные новенькие гробы среди пустырей… В театре ей платили – платили из милости… платили крохи… вирджинский табак сменился китайским, французский коньяк – дагестанским, камамбер – костромским сыром… но таблетки – таблетки остались… коньяк и таблетки… коньяк и нембутал, коньяк и сибазон, коньяк и тианептин… у нас всегда было много таблеток… флуразепам, ксанакс, амантадин, карбазепин, валиум… коньяк, таблетки, сигареты, телевизор… все реже книги, все чаще телевизор…
К тому времени она снова стала разговаривать со мной. Она ведь ничего не умела и не хотела уметь. Обед, ужин – все готовила я. У нее не было выбора. Ей приходилось считаться со мной, иначе я могла оставить ее без обеда. Мне это и в голову не приходило, конечно. То есть – вру, приходило, да, иногда хотелось, ой как хотелось, чтобы она повыпрашивала, повымаливала у меня кусок хлеба… но стоило только вообразить, как она ползает на коленях… это ее белое горло, эта ее родинка… нет, невозможно, то есть, наверное, да, я могла бы ее убить, но – не унизить… убить, но не унизить…
И еще эта ее селедочка… селедочка! Она ведь никогда раньше так не говорила, считала это верхом пошлости – все эти «картошечки», «селедочки», «хлебушки»… и вдруг – селедочка… Лилечка, можно мне селедочки? Я чуть не убила ее… я чуть не умерла от стыда и горя…
Но еще ужаснее были ее воспоминания… все эти ее мужчины, все эти поэты и красавцы… она перебирала их, как старуха – пуговицы в шкатулке… этот, тот и этот, а еще тот… как же его звали? Она забывала их имена… забыла… помнила только, что они любили ее… обожали ее… ползали на коленях… носили на руках… воспевали… целовали ее ноги…
Ну и, конечно, вернулся Лев Страхов… ураган, катастрофа, погибель… землетрясение и пожар… настоящая любовь… она вспоминала его каждый день… она ждала письма, звонка, зова… вот он приедет, примчится, толкнет дверь, подхватит ее на руки, швырнет на кровать, зарычит, набросится… захватчик, победитель, герой… и этот его голос – пленительный голос зла… она плакала, глотала таблетки, пила коньяк…
Я много раз просила ее рассказать о себе… не о любовниках, нет, и не о Льве Страхове, черт бы его взял, – о себе, о настоящей… я же ничего не знала о ее детстве, о ее родителях… что она читала, что любила, ненавидела, как, чем жила до меня… я пыталась расспрашивать ее о театре, о ее ролях… о чувствах, мыслях… черт, мне хотелось объема, жизни, живого человека, а не безупречного мрамора… дело даже не в том, чтобы полюбить ее какой-то новой, живой любовью… дело в том, что я хотела понять… понять ее… она была не просто моей матерью – она была частью меня… но я – я не была ее частью, вот в чем дело… она не считала нужным… ей и в голову не приходило – открыться перед дочерью, перед единственной дочерью… а ведь я – все, что у нее осталось… все, больше ничего у нее не было… ничего и никого – только я… наверное, я поздно спохватилась… а может быть, мне не хватало настойчивости… и еще эта моя постыдная деликатность… не суй нос в чужую жизнь… ее жизнь была чужой, закрытой… да, ото всех закрытой… она привыкла фальшивить, притворяться, играть… она не хотела рассказывать о себе ничего такого, что изменило бы мое отношение к ней… она не хотела и, наверное, уже не могла сойти на мою землю – это я должна была подняться до ее небес… тень должна вырасти… ну а если у тени это не получается, что ж, это проблема тени… моя проблема… она считала, что все в порядке, хотя никакого порядка давно не было и в помине… ей было достаточно воспоминаний о том, как ее любили, обожали, носили на руках… все эти поэты и красавцы, имена которых она даже не потрудилась запомнить… ей было достаточно Льва Страхова, коньяка и нембутала… коньяка и валиума… коньяка и феназепама…
И лишь однажды… это случилось незадолго до ее смерти… я хорошо помню тот вечер… мы смотрели по телевизору новости и вдруг услыхали: погиб Андре… тот самый Андре… оказывается, этот итальянистый красавец женился на какой-то страшно богатой женщине… она была старше его… лет на тридцать, наверное, старше и очень богата… миллионерша какая-то… они прожили вместе года полтора… и вдруг он соблазнил то ли ее дочь, то ли внучку, какую-то молоденькую девочку, и эта старуха его убила… забила до смерти железной палкой… ужас… я хорошо помнила Андре: он соблазнял всех машинально, привычно, мимоходом… у него качество такое было – всех соблазнять, всем нравиться… ну, это как цвет глаз или привычка дышать, от природы… у кого-то голубые глаза, а у Андре – привычка соблазнять… а эта женщина приревновала его к девчонке – и убила… железной палкой, боже мой, железной палкой по голове…
Сюжет в новостях был коротким – не больше минуты… потом стали показывать каких-то футболистов… и вдруг я услыхала стон… я испугалась… я даже не поняла сначала, что происходит… а это она – она плакала… она тихонько всхлипывала, постанывала, у нее текло из носа… она вся содрогалась… Господи, я никогда не видела ее такой… никогда… ну да, коньяк и таблетки, это понятно, но все же, все же… дело не только в коньяке и таблетках, я уверена… она корчилась… плакала, забыв про коньяк… уронила сигарету на пол – едва не прожгла ковер… я растерялась… не знала, что делать… я боялась ей помогать – она ведь могла разозлиться, накричать…
Потом она затихла… выпила коньячку, закурила… я не стала выключать телевизор, чтобы не спугнуть ее… она сама выключила… встала, прошлась по комнате… наконец заговорила…
Никогда я ее не понимала, эту Федру, сказала мать, наверное, все дело в том, что я – другая… я – Ганна Главари, Марица, фейерверк, трам-там-там и трам-там-там… а она – она из другого теста, эта Федра… из того же теста, из которого выпечены все эти Клитемнестры, Медеи и леди Макбет… тяжеловесные стихи, пафос, тога… или что там они носили? Пеплос? Хитон? В общем, что-то ужасное, монументальное, из мрамора и гранита… монументы, а не люди… все эти Тесеи, Ипполиты, Цицероны… и Федра… эта Федра… влюбиться в мальчика только потому, что он похож на ее мужа… но ведь не в муже дело… да плевать ей было на мужа… ни один муж не стоит бессонных ночей и слез… о господи… а вот этот мальчик – стоит, он стоит бессонных ночей… впрочем, дело даже не в мальчике, нет… это любовь… он стоит любви… любовь стоит любви…
Я слушала ее, держась рукой за горло… мне казалось, она бредит… но она не бредила…
Она говорила усталым и почти трезвым голосом, хотя и не очень уверенно держалась на ногах…
Теперь-то я понимаю эту Федру, сказала она, понимаю… поздно… все – поздно… Ипполит, бедный мой Ипполит, глупый и бедный Ипполит, любимый мой… каким же дураком он был, господи, каким же дураком… глупый, красивый, нежный Андре… ласковый и глупый… настоящий красавец… настоящая красота всегда глупа… убить ее – проще простого…
С горькой усмешкой покачала головой и заговорила, не повышая голоса:
Давно уже больна ужасным я недугом.
Давно… Едва лишь стал Тезей та-та та-та-та
И как-то там та-та та-та – та-та
Я, глядя на него, краснела и бледнела,
То пламень, то озноб мое терзали тело,
Покинули меня и зрение и слух,
В смятенье тягостном затрепетал мой дух…
Рассмеялась – деревянным каким-то смехом… у меня мурашки по коже от ее смеха…
Господи, сказала она, какая это чушь… какая прекрасная чушь, боже ты мой… какая сладкая чушь… я была как мяч, понимаешь? Как будто он брал меня… вот так, в руку… и швырял… и я взлетала в небо и вспыхивала, и сгорала… какое счастье – взлететь, сгореть, исчезнуть навсегда… а теперь… а теперь – Ипполит погиб, а Федра… Федра… Федра эта ваша – дура… одноглазая дура…
И снова зарыдала.
Я не выдержала… боже, боже мой… в ту минуту у меня не было никого ближе, никого любимее, никого – роднее… только она, она!.. Я не выдержала, заплакала, заревела дура дурой, бросилась к ней, обняла, опрокинула стакан…
Она спохватилась… нахмурилась… отстранилась, поправила волосы, потянула носом и, глядя поверх моей головы, сказала: «Милочка, ты разлила мой коньяк…»
Милочка…
Я схватила тряпку и стала вытирать пол.
А потом она умерла…
Я часто думаю об этом… о ее смерти… встаю пораньше, подхожу к окну… раннее утро, только-только начинает светать… небо над крышами становится светлее… редкие машины… люди… мне ничего не приходит в голову… наверное, все просто: праздник завершился, наступили будни… на земле валяется чья-то перчатка… всюду конфетти, какие-то бумажки, окурки… хмурые дворники шаркают метлами… однажды утром мать забралась на подоконник и шагнула в пустоту… восьмой этаж… без криков, воплей, без истерики – просто шагнула с подоконника… лучше бунт, чем будни… я ничего не слышала… проснулась от звонка в дверь… это была соседка… она принесла глаз… стеклянный глаз, завернутый в носовой платок… мать так никогда и не воспользовалась протезом… носила темные очки… этот чертов глаз был у нее в кармане, когда она выбросилась из окна… соседка отдала мне ее глаз… я хотела его выбросить, но не выбросила…
На кладбище собралось множество людей. Я плохо понимала, что происходит и что говорят все эти мужчины и женщины… меня мутило, и при этом меня била радостная дрожь… радостная дрожь и предвкушение чуда… я не знала, что с этим делать, как быть, мне было стыдно: похороны, горе – и вдруг эта неуместная радость… болела голова, текли слезы, тугая резинка в трусах больно впивалась в живот… и еще этот душераздирающий, умопомрачительный оркестр… всюду елочные лапы, какие-то ветки, цветы, яма… мне она показалась огромной, как вход в древний собор или в преисподнюю… все кругом блестело и сверкало… накануне был дождь, а в день похорон рассиялось солнце… синее небо, яркое солнце… блестела глина, блестели венки и цветы… лилии, много лилий – белых, желтоватых, оранжевых… этот их томный божественный запах… все сверкало, искрилось, вспыхивало, пылало… просто праздник… пиршество света и цвета… и надрывный рев огненных медных труб… оркестр играл яростно, отчаянно, на разрыв… праздник смерти… было очень красиво… зелень, золото, синева, музыка, цветы, гром, блеск и ужас… смерть во всем блеске… во всем своем театральном величии…
Среди венков я вдруг увидела один с надписью на ленте – «От Льва Страхова». Ко мне подошел молодой мужчина… наверное, мой ровесник… сказал, что он – Лев Страхов… Рослый узкоглазый хищник с хорошими зубами… он был похож на Андре, но без сахара…
– Я думала, вы старше, – сказала я.
– Моего отца тоже звали Львом, – сказал он. – Он недавно умер.
– А меня тоже зовут Лилией…
И мы оба вздохнули… ох уж эти причуды родителей…