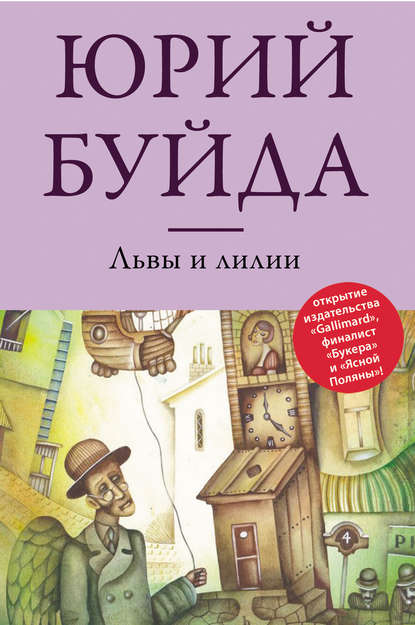По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Львы и лилии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С кладбища мы ушли вдвоем. В кафе выпили по бокалу вина. О родителях мы не говорили, словно по уговору. Он сказал, что учился на химфаке, кафедра неорганической химии, специализация – направленный неорганический синтез, а теперь у него свой бизнес. Я обрадовалась, что он не актер и не принадлежит к кругу красавцев и поэтов, и сказала, что защищалась по истории норвежской литературы, а теперь служу в издательстве…
– А, понимаю, – сказал он. – Викинги.
От неожиданности я рассмеялась.
Мы договорились встретиться завтра на Пушкинской площади.
Прощаясь, он задержал мою руку в своей – возможно, случайно, но у меня вдруг перехватило дыхание.
В метро, в автобусе я думала о завтрашней встрече… о Льве Страхове… на кладбище и в кафе не произошло ничего особенного, да и не могло произойти, но иногда, наверное, достаточно мелочей… взгляд, улыбка, направленный синтез, викинги, рука в руке – иногда, наверное, достаточно и этой малости, чтобы между людьми возникло что-то… я не знаю что… ведь это все банально, почти пошло, во всяком случае – так обыденно, так обыкновенно, и, наверное, я все это выдумала… может быть… но я – я что-то почувствовала, какое-то легкое движение в душе… или где там случаются эти легкие движения… дуновение, блик, тень, непроизвольное движение губ… что-то незначительное, что-то неуловимое, что-то, чему и имени нет, и вот оно вдруг возникает словно само собой, словно ни с того ни с сего – и привычный мир рушится… хотя, возможно, я все это выдумала… как всегда – выдумала… при этой мысли мне стало тошно…
Вернувшись домой измученная, в полуобморочном состоянии, я приняла душ, поспала, выпила чаю и принялась разбирать вещи матери. Платья, плащи, пальто, нижнее белье сложила в один пакет, обувь – в другой. Потом взялась за фотографии. Их скопилось много – в альбомах, папках и в больших коричневых конвертах: Элиза Дулитл, Герцогиня Герольштейнская, Джулия Ламберт, Ганна Главари – вершины ее карьеры… десяток моих снимков… толстая папка с завязками, набитая мужскими фотографиями, на которых был запечатлен Лев Страхов – великая любовь, ужас и владыка ее жизни… Гамлет, Мефистофель, Чацкий, Макбет, Васька Пепел…
За ужином я выпила рюмку коньяку, потом другую. Нужно было избавиться от вещей матери. Нужно было не просто выбросить ее платья и лифчики – нужно было сжечь их. Чтобы они превратились в пепел, в ничто. Навсегда, безвозвратно.
Когда начало темнеть, я взвалила узел с барахлом на спину и спустилась во двор. Миновала ряды гаражей, пересекла пустырь, тянувшийся до перелеска, где темнела ограда Кандауровского рынка, и оказалась в неглубоком овраге.
Голова кружилась – вторая рюмка была явно лишней.
Трава вокруг была примята и изгажена, пахло дерьмом и старой гарью, всюду валялись полиэтиленовые пакеты, консервные банки, обрывки газет, ящики, кирпичи, обгорелые доски, окурки: похоже, это место облюбовали бомжи и местная алкашня. Но сейчас в овраге никого не было. Я вывалила тряпки на землю, щелкнула зажигалкой, села на ящик и закурила, глядя на разгорающийся огонь.
Они пришли на огонь…
На мне была футболка, короткая юбка и спортивные туфли, и когда эти двое вышли из темноты, один из них – тот, что повыше, – сразу уставился на мои коленки. Я поймала его взгляд и онемела. Не могла пошевельнуться. Надо было бежать, бежать со всех ног, а меня словно парализовало. Плечи, руки и ноги налились тяжестью, горло сдавила боль, в груди стало пусто и холодно. Тот, что повыше, что-то сказал, но я не расслышала – оглохла. Их запах перебивал запахи дерьма и гари. Низенький присел передо мной на корточки и протянул руку. Я отдала ему недокуренную сигарету. Он глубоко затянулся, выпустил дым, широко открыв рот, – у него не было нижних передних зубов, – и запах тухлых яиц накрыл меня с головой. Я думала, что они скажут: «Будешь орать – убьем» или что-нибудь в этом роде… но они ничего не сказали…
Утром я выбралась из-под одеяла, подошла к зеркалу и увидела себя… высокая шея, высокая грудь, высокие бедра… высокие небеса… Господь и ангелы его… мое тело словно горело, пылало белым лилейным пламенем… какое счастье… и на глазах выступили слезы…
Меня изнасиловали, унизили, растоптали, а я – я плакала от счастья…
Ну да, меня изнасиловали два подонка… это ужасно… я вернулась домой и долго отмывалась от липкой грязи… от этой вонищи… терла мочалкой локти, колени… плакала и терла… потом перестала плакать, только всхлипывала и продолжала тупо тереть колени мочалкой… сама виновата, шептала я, сама виновата… кой черт тебя дернул тащиться на ночь глядя в этот вонючий овраг… да при первом взгляде на этот овраг нужно было тотчас поворачивать и бежать домой без оглядки… без оглядки!.. нет же, не побежала, осталась… ну и вот, и вот… шептала, бормотала, намыливалась, смывала грязь, снова намыливалась… и вот странно… да, наверное, это странно… очень странно… я вовсе не думала об этих подонках… то есть сначала, конечно, думала, а потом нет… совсем нет… видимо, это какой-то психологический механизм – память вытесняет зло… а может быть, дело не только в этом… я не думала о них, потому что я думала о себе… я думала про пальто… то есть как будто про пальто… всю жизнь я ползла на четвереньках, не поднимая головы, придавленная к земле каким-то тяжелым грязным пальто, от которого, казалось мне, не избавиться никогда… оно, казалось, приросло ко мне, стало второй моей кожей, шкурой, чешуей, панцирем, и вот вдруг я сбросила это пальто, и на душе стало легко… я почувствовала себя свободной – как будто в трусах у меня внезапно лопнула тугая резинка… при этой мысли мне стало смешно… меня изнасиловали, а мне – смешно… смешно и все тут… я сидела по грудь в воде и улыбалась… я чувствовала облегчение… на меня снизошла радость… снизошла – это точное, правильное, уместное слово: снизошла… это была настоящая радость, беспримесная, божественная, непостижимая… и эта радость захватила все мое существо, от макушки до пят, и я чувствовала себя чистой, невинной и счастливой…
Радость переполняла меня, когда я ложилась спать…
А утром – утром я выбросила в мусорное ведро купальник со всеми его ста пуговицами, приняла душ, надела легкое цветастое платье, открывающее грудь и плечи, туфли на высоких каблуках, хлопнула дверью и побежала вниз по лестнице… я летела к автобусной остановке и с каждым шагом становилась все легче…
Через час я вышла из метро на Пушкинской площади и сразу попала в бешеное коловращение летней жизни… летели машины, бежали люди… площадь бурлила, пахло пивом, дешевым кофе и бензином… я остановилась, глубоко вздохнула, и мне вдруг стало хорошо, хорошо… люди бежали мимо, никто не обращал на меня внимания, никто не знал меня, никто меня не любил, не желал мне ни зла, ни добра… я была одна… я была безымянна и счастлива… ревели автомобили, бежали люди, солнце пылало в витринах, солнце светило вовсю… великий пожар… я была в центре этого безумия, в центре этого пожара, и никому не было до меня дела, я было никем и ничем… это было ужасно… и это было прекрасно… со стороны Белорусского мчались машины «Скорой» и пожарные… за спиной бурно разговаривали по-немецки… мальчишки неслись на роликах – хищные, злые, юные… кто-то бросил на тротуар недоеденное мороженое – оно шлепнулось, расплылось… меня толкали, извинялись и не извинялись… а я не трогалась с места… я была переполнена счастьем, смыслом, жизнью…
И вдруг я увидела ее… о боже, это была она!.. это было невозможно, нелепо, чудовищно, но я увидела – ее… она словно реяла над людьми и машинами… парила над памятником и крышами… плыла в синеватом бензиновом воздухе… совершенная, прекрасная, божественная… она несла свое нагое белоснежное тело как знамя победы… родинка под грудью, мраморное бедро с черной розой, высокая лилейная шея… привидение, мираж, морок… царица, сука, богиня… образ бессмертной любви, моей бессмертной любви…
Меня толкнули – я очнулась. Взглянула на часы: через десять минут должен прийти Лев. Расстегнула сумочку, достала бархатную коробочку, вытряхнула на ладонь стеклянный глаз, сжала в кулаке, зажмурилась, глубоко вздохнула, задержала дыхание – ра-аз, два-а, три-и – и с силой! что было сил! изо всех сил! – запустила его вверх… он круто взмыл, замер, вспыхнул и исчез, пропал, канул, растворился в божественной высоте июньского неба…
Счастливое тело
Верочке Минаковой исполнилось семнадцать, она получила аттестат об окончании средней школы, искупалась в шампанском и стала самой счастливой в мире женщиной.
От шампанского склеились волосы. Сергей Владимирович протянул Верочке флакон с шампунем. Верочка, не сводя взгляда с Сергея Владимировича, который тоже не сводил с нее взгляда, сняла с себя лифчик, трусики и спросила:
– Я правда Афротида?
– Афродита, – поправил ее Сергей Владимирович. – Святая правда.
Сергей Владимирович – он просил называть его просто Сергеем – был кинорежиссером. Верочку он встретил на съемочной площадке – девочка пришла с подружкой, которая была занята в массовке. С того дня Сергей и Верочка не расставались. Он называл ее Афродитой, а она в каком-то угаре сдавала выпускные экзамены.
Верочка пригласила Сергея на день рождения, который решила отпраздновать подальше от родительских глаз. Подружка дала ключ от пустовавшей бабушкиной квартиры.
Сергей принес коньяк, шампанское, коробку шоколадных конфет и роскошный букет. Они танцевали под Джо Дассена, захмелевшая Верочка прижималась к Сергею. Она была невысокой, чуть полноватой, голубоглазой, с большой тугой грудью и большой задницей. Высокий худощавый Сергей шептал ей на ухо: «Древние греки называли богиню любви Каллипигой, это значит – с красивой попой».
Потом она сняла платье и залезла в ванну, и Сергей облил ее шампанским.
Потом она сняла лифчик и трусики.
Наутро она сказала матери, что уезжает в Москву.
– Он старше тебя на сорок два года, – сказала мать. – При Керенском родился, о господи.
– Мы любим друг друга, – сказала Верочка. – Это что-то неизъяснимое, мама.
Вечером она уехала в Москву.
Сергей выкупил все места в купе и завалил его цветами. Всю дорогу они пили шампанское и занимались любовью.
Через месяц они поженились.
Верочка стала хозяйкой большой квартиры в старом московском доме и дачи на Жуковой Горе. Благодаря мужу она познакомилась с известными людьми – актерами, режиссерами, писателями. Пожилая кинозвезда Кира Зелинская называла ее Мин: «В твоем лице есть что-то китайское, древнее и загадочное». На самом деле в лице Верочки было что-то удмуртское, потому что ее отец был удмуртом. Но Мин – это прозвище ей нравилось. Кира подарила ей кимоно, которое так шло к китайскому прозвищу, узким глазам и скрывало растущий живот.
В положенный срок Верочка родила мальчика, которого назвали Игорем.
Через два года поступила в полиграфический институт, окончила его с красным дипломом и стала работать в крупном издательстве техническим редактором.
В тот день, когда в московских церквях тысячи матерей молились о здоровье Горбачева, который объявил о начале вывода советских войск из Афганистана, у Сергея случился инсульт.
Верочка вызвала в Москву мать, и вдвоем они за год подняли Сергея на ноги.
Сергей ходил по квартире, опираясь на палочку, пытался читать и писать – он давно задумал мемуары, – но быстро уставал. Щеголеватый пожилой мужчина превратился в дряхлого старика с мокрой ширинкой.
Он происходил из кинематографической семьи. Его мать снималась у Ханжонкова, а отец публиковал рецензии в журнале «Пегас». Их сын снимал документальные фильмы о героях сталинских пятилеток и военную кинохронику, а в пятидесятых стал режиссером игрового кино. Он снял десятка два фильмов, но среди них не было ни одного заметного. Зато он был хорошим мужем для четырех своих жен, хорошим отцом для пятерых своих детей и хорошим другом для бесчисленных своих друзей, которые любили его за чувство юмора, щедрость и спокойный нрав.
Если его спрашивали, как ему за его долгую жизнь удалось не замараться – не участвовать в интригах, в стукачестве и травле талантливых коллег, Сергей отвечал с невозмутимым видом: «Не приглашали».
Он коллекционировал старинные часы, иконы, любил жирную утку, терпкое вино и вопящих от счастья женщин с жаркими задницами. Теперь же его меню сводилось к каше и травяным отварам, а что же до жаркой задницы… поначалу он даже боялся, что сойдет с ума, думая о жене, которой не было и тридцати, и о мужчинах, окружавших ее в издательстве… некоторых он неплохо знал, и знал, что они постараются не упустить такую добычу… но вскоре понял, что на самом деле хуже всего – это унизительное недержание мочи, а не возможная измена жены…
Однако когда она впервые вернулась с работы за полночь, пьяная и веселая, он собрался с силами и избил ее палкой. Бил по плечам, по спине, а она только закрывала лицо руками и молчала, и это ее молчание – оно было унизительнее, чем недержание мочи.
В детстве Верочка боялась бабы Раи. Эта уродливая костлявая старуха бродила по городку с мешком за плечами и говорила, что ее сын пал смертью храбрых, защищая Москву, хотя все знали, что он отбывал срок за убийство. Иногда она вдруг останавливалась посреди улицы, вынимала вставные челюсти, широко разевала рот и начинала выть.
Верочке почему-то страсть как хотелось заглянуть в загадочный ее рот, но было страшно. Пасть у старухи была огромной, черной, бездонной, и казалось, что она способна проглотить все: и Верочку, и бензоколонку рядом с домом, и общую собачку Фрушу, и весь этот городок с его вечными горестями и простыми радостями, с химзаводом, на котором работал отец, с маминой школой, с бетонным Лениным на площади, обутым в искрошившиеся ботинки, весь городок – со всей его кровью, любовью и морковью, с неунывающим соседом Ленечкой, который при встрече тыкал Верочку пальцем в живот и говорил: «Пузо, железо, авизо», отчего становилось так легко и весело, но в старухином рту все будет не легко, не весело, не трудно, даже не страшно, а – никак, там больше ничего не будет и никого, ни пуза-железа, ни крови-моркови, ни папы с мамой, ни кудрявой Фруши, ни Верочки, ничего, только пустота, только зияние, только эта беззубая пасть, и это-то и было ужасно, и ничего ужаснее не было…
Мать удивлялась: «Да что ж тебя так тянет-то к этой бабе?»
– А, понимаю, – сказал он. – Викинги.
От неожиданности я рассмеялась.
Мы договорились встретиться завтра на Пушкинской площади.
Прощаясь, он задержал мою руку в своей – возможно, случайно, но у меня вдруг перехватило дыхание.
В метро, в автобусе я думала о завтрашней встрече… о Льве Страхове… на кладбище и в кафе не произошло ничего особенного, да и не могло произойти, но иногда, наверное, достаточно мелочей… взгляд, улыбка, направленный синтез, викинги, рука в руке – иногда, наверное, достаточно и этой малости, чтобы между людьми возникло что-то… я не знаю что… ведь это все банально, почти пошло, во всяком случае – так обыденно, так обыкновенно, и, наверное, я все это выдумала… может быть… но я – я что-то почувствовала, какое-то легкое движение в душе… или где там случаются эти легкие движения… дуновение, блик, тень, непроизвольное движение губ… что-то незначительное, что-то неуловимое, что-то, чему и имени нет, и вот оно вдруг возникает словно само собой, словно ни с того ни с сего – и привычный мир рушится… хотя, возможно, я все это выдумала… как всегда – выдумала… при этой мысли мне стало тошно…
Вернувшись домой измученная, в полуобморочном состоянии, я приняла душ, поспала, выпила чаю и принялась разбирать вещи матери. Платья, плащи, пальто, нижнее белье сложила в один пакет, обувь – в другой. Потом взялась за фотографии. Их скопилось много – в альбомах, папках и в больших коричневых конвертах: Элиза Дулитл, Герцогиня Герольштейнская, Джулия Ламберт, Ганна Главари – вершины ее карьеры… десяток моих снимков… толстая папка с завязками, набитая мужскими фотографиями, на которых был запечатлен Лев Страхов – великая любовь, ужас и владыка ее жизни… Гамлет, Мефистофель, Чацкий, Макбет, Васька Пепел…
За ужином я выпила рюмку коньяку, потом другую. Нужно было избавиться от вещей матери. Нужно было не просто выбросить ее платья и лифчики – нужно было сжечь их. Чтобы они превратились в пепел, в ничто. Навсегда, безвозвратно.
Когда начало темнеть, я взвалила узел с барахлом на спину и спустилась во двор. Миновала ряды гаражей, пересекла пустырь, тянувшийся до перелеска, где темнела ограда Кандауровского рынка, и оказалась в неглубоком овраге.
Голова кружилась – вторая рюмка была явно лишней.
Трава вокруг была примята и изгажена, пахло дерьмом и старой гарью, всюду валялись полиэтиленовые пакеты, консервные банки, обрывки газет, ящики, кирпичи, обгорелые доски, окурки: похоже, это место облюбовали бомжи и местная алкашня. Но сейчас в овраге никого не было. Я вывалила тряпки на землю, щелкнула зажигалкой, села на ящик и закурила, глядя на разгорающийся огонь.
Они пришли на огонь…
На мне была футболка, короткая юбка и спортивные туфли, и когда эти двое вышли из темноты, один из них – тот, что повыше, – сразу уставился на мои коленки. Я поймала его взгляд и онемела. Не могла пошевельнуться. Надо было бежать, бежать со всех ног, а меня словно парализовало. Плечи, руки и ноги налились тяжестью, горло сдавила боль, в груди стало пусто и холодно. Тот, что повыше, что-то сказал, но я не расслышала – оглохла. Их запах перебивал запахи дерьма и гари. Низенький присел передо мной на корточки и протянул руку. Я отдала ему недокуренную сигарету. Он глубоко затянулся, выпустил дым, широко открыв рот, – у него не было нижних передних зубов, – и запах тухлых яиц накрыл меня с головой. Я думала, что они скажут: «Будешь орать – убьем» или что-нибудь в этом роде… но они ничего не сказали…
Утром я выбралась из-под одеяла, подошла к зеркалу и увидела себя… высокая шея, высокая грудь, высокие бедра… высокие небеса… Господь и ангелы его… мое тело словно горело, пылало белым лилейным пламенем… какое счастье… и на глазах выступили слезы…
Меня изнасиловали, унизили, растоптали, а я – я плакала от счастья…
Ну да, меня изнасиловали два подонка… это ужасно… я вернулась домой и долго отмывалась от липкой грязи… от этой вонищи… терла мочалкой локти, колени… плакала и терла… потом перестала плакать, только всхлипывала и продолжала тупо тереть колени мочалкой… сама виновата, шептала я, сама виновата… кой черт тебя дернул тащиться на ночь глядя в этот вонючий овраг… да при первом взгляде на этот овраг нужно было тотчас поворачивать и бежать домой без оглядки… без оглядки!.. нет же, не побежала, осталась… ну и вот, и вот… шептала, бормотала, намыливалась, смывала грязь, снова намыливалась… и вот странно… да, наверное, это странно… очень странно… я вовсе не думала об этих подонках… то есть сначала, конечно, думала, а потом нет… совсем нет… видимо, это какой-то психологический механизм – память вытесняет зло… а может быть, дело не только в этом… я не думала о них, потому что я думала о себе… я думала про пальто… то есть как будто про пальто… всю жизнь я ползла на четвереньках, не поднимая головы, придавленная к земле каким-то тяжелым грязным пальто, от которого, казалось мне, не избавиться никогда… оно, казалось, приросло ко мне, стало второй моей кожей, шкурой, чешуей, панцирем, и вот вдруг я сбросила это пальто, и на душе стало легко… я почувствовала себя свободной – как будто в трусах у меня внезапно лопнула тугая резинка… при этой мысли мне стало смешно… меня изнасиловали, а мне – смешно… смешно и все тут… я сидела по грудь в воде и улыбалась… я чувствовала облегчение… на меня снизошла радость… снизошла – это точное, правильное, уместное слово: снизошла… это была настоящая радость, беспримесная, божественная, непостижимая… и эта радость захватила все мое существо, от макушки до пят, и я чувствовала себя чистой, невинной и счастливой…
Радость переполняла меня, когда я ложилась спать…
А утром – утром я выбросила в мусорное ведро купальник со всеми его ста пуговицами, приняла душ, надела легкое цветастое платье, открывающее грудь и плечи, туфли на высоких каблуках, хлопнула дверью и побежала вниз по лестнице… я летела к автобусной остановке и с каждым шагом становилась все легче…
Через час я вышла из метро на Пушкинской площади и сразу попала в бешеное коловращение летней жизни… летели машины, бежали люди… площадь бурлила, пахло пивом, дешевым кофе и бензином… я остановилась, глубоко вздохнула, и мне вдруг стало хорошо, хорошо… люди бежали мимо, никто не обращал на меня внимания, никто не знал меня, никто меня не любил, не желал мне ни зла, ни добра… я была одна… я была безымянна и счастлива… ревели автомобили, бежали люди, солнце пылало в витринах, солнце светило вовсю… великий пожар… я была в центре этого безумия, в центре этого пожара, и никому не было до меня дела, я было никем и ничем… это было ужасно… и это было прекрасно… со стороны Белорусского мчались машины «Скорой» и пожарные… за спиной бурно разговаривали по-немецки… мальчишки неслись на роликах – хищные, злые, юные… кто-то бросил на тротуар недоеденное мороженое – оно шлепнулось, расплылось… меня толкали, извинялись и не извинялись… а я не трогалась с места… я была переполнена счастьем, смыслом, жизнью…
И вдруг я увидела ее… о боже, это была она!.. это было невозможно, нелепо, чудовищно, но я увидела – ее… она словно реяла над людьми и машинами… парила над памятником и крышами… плыла в синеватом бензиновом воздухе… совершенная, прекрасная, божественная… она несла свое нагое белоснежное тело как знамя победы… родинка под грудью, мраморное бедро с черной розой, высокая лилейная шея… привидение, мираж, морок… царица, сука, богиня… образ бессмертной любви, моей бессмертной любви…
Меня толкнули – я очнулась. Взглянула на часы: через десять минут должен прийти Лев. Расстегнула сумочку, достала бархатную коробочку, вытряхнула на ладонь стеклянный глаз, сжала в кулаке, зажмурилась, глубоко вздохнула, задержала дыхание – ра-аз, два-а, три-и – и с силой! что было сил! изо всех сил! – запустила его вверх… он круто взмыл, замер, вспыхнул и исчез, пропал, канул, растворился в божественной высоте июньского неба…
Счастливое тело
Верочке Минаковой исполнилось семнадцать, она получила аттестат об окончании средней школы, искупалась в шампанском и стала самой счастливой в мире женщиной.
От шампанского склеились волосы. Сергей Владимирович протянул Верочке флакон с шампунем. Верочка, не сводя взгляда с Сергея Владимировича, который тоже не сводил с нее взгляда, сняла с себя лифчик, трусики и спросила:
– Я правда Афротида?
– Афродита, – поправил ее Сергей Владимирович. – Святая правда.
Сергей Владимирович – он просил называть его просто Сергеем – был кинорежиссером. Верочку он встретил на съемочной площадке – девочка пришла с подружкой, которая была занята в массовке. С того дня Сергей и Верочка не расставались. Он называл ее Афродитой, а она в каком-то угаре сдавала выпускные экзамены.
Верочка пригласила Сергея на день рождения, который решила отпраздновать подальше от родительских глаз. Подружка дала ключ от пустовавшей бабушкиной квартиры.
Сергей принес коньяк, шампанское, коробку шоколадных конфет и роскошный букет. Они танцевали под Джо Дассена, захмелевшая Верочка прижималась к Сергею. Она была невысокой, чуть полноватой, голубоглазой, с большой тугой грудью и большой задницей. Высокий худощавый Сергей шептал ей на ухо: «Древние греки называли богиню любви Каллипигой, это значит – с красивой попой».
Потом она сняла платье и залезла в ванну, и Сергей облил ее шампанским.
Потом она сняла лифчик и трусики.
Наутро она сказала матери, что уезжает в Москву.
– Он старше тебя на сорок два года, – сказала мать. – При Керенском родился, о господи.
– Мы любим друг друга, – сказала Верочка. – Это что-то неизъяснимое, мама.
Вечером она уехала в Москву.
Сергей выкупил все места в купе и завалил его цветами. Всю дорогу они пили шампанское и занимались любовью.
Через месяц они поженились.
Верочка стала хозяйкой большой квартиры в старом московском доме и дачи на Жуковой Горе. Благодаря мужу она познакомилась с известными людьми – актерами, режиссерами, писателями. Пожилая кинозвезда Кира Зелинская называла ее Мин: «В твоем лице есть что-то китайское, древнее и загадочное». На самом деле в лице Верочки было что-то удмуртское, потому что ее отец был удмуртом. Но Мин – это прозвище ей нравилось. Кира подарила ей кимоно, которое так шло к китайскому прозвищу, узким глазам и скрывало растущий живот.
В положенный срок Верочка родила мальчика, которого назвали Игорем.
Через два года поступила в полиграфический институт, окончила его с красным дипломом и стала работать в крупном издательстве техническим редактором.
В тот день, когда в московских церквях тысячи матерей молились о здоровье Горбачева, который объявил о начале вывода советских войск из Афганистана, у Сергея случился инсульт.
Верочка вызвала в Москву мать, и вдвоем они за год подняли Сергея на ноги.
Сергей ходил по квартире, опираясь на палочку, пытался читать и писать – он давно задумал мемуары, – но быстро уставал. Щеголеватый пожилой мужчина превратился в дряхлого старика с мокрой ширинкой.
Он происходил из кинематографической семьи. Его мать снималась у Ханжонкова, а отец публиковал рецензии в журнале «Пегас». Их сын снимал документальные фильмы о героях сталинских пятилеток и военную кинохронику, а в пятидесятых стал режиссером игрового кино. Он снял десятка два фильмов, но среди них не было ни одного заметного. Зато он был хорошим мужем для четырех своих жен, хорошим отцом для пятерых своих детей и хорошим другом для бесчисленных своих друзей, которые любили его за чувство юмора, щедрость и спокойный нрав.
Если его спрашивали, как ему за его долгую жизнь удалось не замараться – не участвовать в интригах, в стукачестве и травле талантливых коллег, Сергей отвечал с невозмутимым видом: «Не приглашали».
Он коллекционировал старинные часы, иконы, любил жирную утку, терпкое вино и вопящих от счастья женщин с жаркими задницами. Теперь же его меню сводилось к каше и травяным отварам, а что же до жаркой задницы… поначалу он даже боялся, что сойдет с ума, думая о жене, которой не было и тридцати, и о мужчинах, окружавших ее в издательстве… некоторых он неплохо знал, и знал, что они постараются не упустить такую добычу… но вскоре понял, что на самом деле хуже всего – это унизительное недержание мочи, а не возможная измена жены…
Однако когда она впервые вернулась с работы за полночь, пьяная и веселая, он собрался с силами и избил ее палкой. Бил по плечам, по спине, а она только закрывала лицо руками и молчала, и это ее молчание – оно было унизительнее, чем недержание мочи.
В детстве Верочка боялась бабы Раи. Эта уродливая костлявая старуха бродила по городку с мешком за плечами и говорила, что ее сын пал смертью храбрых, защищая Москву, хотя все знали, что он отбывал срок за убийство. Иногда она вдруг останавливалась посреди улицы, вынимала вставные челюсти, широко разевала рот и начинала выть.
Верочке почему-то страсть как хотелось заглянуть в загадочный ее рот, но было страшно. Пасть у старухи была огромной, черной, бездонной, и казалось, что она способна проглотить все: и Верочку, и бензоколонку рядом с домом, и общую собачку Фрушу, и весь этот городок с его вечными горестями и простыми радостями, с химзаводом, на котором работал отец, с маминой школой, с бетонным Лениным на площади, обутым в искрошившиеся ботинки, весь городок – со всей его кровью, любовью и морковью, с неунывающим соседом Ленечкой, который при встрече тыкал Верочку пальцем в живот и говорил: «Пузо, железо, авизо», отчего становилось так легко и весело, но в старухином рту все будет не легко, не весело, не трудно, даже не страшно, а – никак, там больше ничего не будет и никого, ни пуза-железа, ни крови-моркови, ни папы с мамой, ни кудрявой Фруши, ни Верочки, ничего, только пустота, только зияние, только эта беззубая пасть, и это-то и было ужасно, и ничего ужаснее не было…
Мать удивлялась: «Да что ж тебя так тянет-то к этой бабе?»