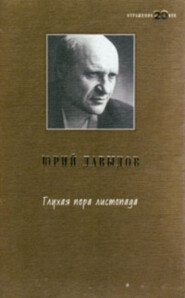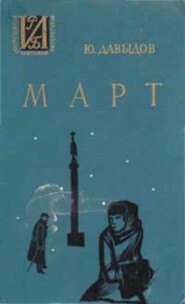По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Глухая пора листопада
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А Мите с Нилом, ей-богу, ничего “такого” в голову не забредало. Явятся к Саньке (Сашей звать стали), она, усталая, прикорнет за своей занавесочкой в цветочках, посапывает, слушать приятно, а Нил с Митей листками шуршат. Не торопясь читают, со смыслом и памятливо. Студент (началам механики в ремесленном учил) занятными книжками ссужал Сизовых. “Надо, – говорил, – больше читать и больше думать”. Сперва давал такие: “Пауки и мухи”, “История одного крестьянина”. Потом сказал: “Можно, господа, за Беляева приниматься”. Какой такой Беляев? Оказывается, “Крестьяне на Руси”. Для чего, зачем? “А для того, – отвечает, – что следует досконально штудировать крестьянский вопрос, ибо в России это вопрос вопросов”.
После маминой укоризны оба вдруг и приметили, что Саша вправду “хорошая”, да только не в одном, мамином, смысле, а и в другом, о котором вслух неловко говорить. Нил было надумал отстать, но Митька, ерш, на дыбы: “Э, предрассудки! Наши отец-мать понятия при крепостном праве получили”.
Яков Илларионович, конечно, тоже знал, где ребята сумерничают. А разве свяжешь? Очень он за них тревожился. Ужинать сядут, Яков Илларионович ввернет, что от книжек этих, пропади они пропадом, все на свете беды, бунты, смута, прежде смирно жили – и ничего, кормились, да еще как, жирнее нонешнего, а теперь какие-то злодеи-социалисты обнаружились, бомбы в живых людей кидают, из револьвера палят, ни царя небесного для них, ни земного, всё тьфу. И чего только полиция ушами хлопает? Он бы, Яков Илларионович, словил, загнал бы черт-те куда, хоть на остров Сахалин.
Митя с Нилом не спорили. Молчок. Пусть отец что хошь, а они ложками стук-стук. Но опять-таки Митька сорвался.
– Ругаешь социалистов всяко, а сам и в глаза ни одного…
– Не-е, я бы их, супостатов, порешил, – загрозился Яков Илларионович, который, что называется, и куренка в жизни не обидел.
– А вдруг, батя… Вдруг на поверку сын твой Митька как раз и есть социалист?
– Прикуси язык, дурень! – крикнула мать.
Социалистами сыновей своих Яков Илларионович не увидел. В ту осень, когда ребята в мастерские Смоленской железной дороги устроились (рукой подать, за вокзалом), занемог он жестокой горячкой. Загорелся как сушинка, в два дня и убрался. Мать не голосила. Инструмент, покинутый навсегда, в руки брала. Возьмет и смотрит, смотрит. Митя от нее ни на шаг: “Мам, а мам”, – не слышит. Нил плакал.
Стали жить втроем. Митя и Нил до последнего пятака всё матери отдавали. Хорошие получки у них были, потому что большие ремонты начались. Мать раньше, бывало, посмеется: “Вот уж, Яша, ребяты на ноги встанут – покатаемся как сыр в масле”. Теперь она не то чтобы постирушки сократила, а еще дольше в господских домах пропадала. Они чуть не на коленках: “Не надо, мам! Чего нам не хватает? Христом-богом просим!” Она ладонью тронет их колкие уже щеки: “Мне так лучше”.
2
Обоих Сизовых быстро аттестовали в мастерских: из тех, мол, которые “божьей милостью”. Мастер, сам токарь и слесарь первой статьи, откровенно, не боясь, что молодые задерут нос, признавал: “Брательники эти паровоз из проволоки сладят”.
В огромных мастерских Нилу с Митей все по душе пришлось. И сама их огромность, не то что закутки у “рашпилей”, как прозывали мелких хозяйчиков; и машины “на чистом электрическом ходу”; и германской выделки инструмент. А работы не муторные, всякий раз как загадку отгадываешь.
Составилась у Сизовых “умственная” компания. Даже Лоскутов примкнул, человек серьезный, самостоятельный, повидавший белый свет. Он не только в Питере иль в Кронштадте токарничал, но и за кордоном, на Льежском оружейном… Этот вот Лоскутов и предложил однажды: “Хорошо бы, братцы, в обед не турусы на колесах, а газетку сухомятникам!” Кто жил далеко от мастерских, прозывался “сухомятником”, потому что харчи брал в узелке. Сизовы хотя и не брали, домой в обед бегали, но поддакнули Лоскутову.
Газеткой не обошлось. Мало-помалу то Успенского Глеба, то про Гарибальди, но все цензурой дозволенное. А не дозволенное цензурой – вечером, для немногих. Теперь и дома можно было, Сашу не беспокоили.
Она сама обеспокоилась, пришла как-то.
– Можно? – спрашивает. – А то скучно.
Косынка на ней была новенькая, такой Сизовы раньше не видели, и ботинки новенькие, на каблучке и со шнуровочкой. Улыбается скромненько. Хозяева еще и рта не открыли, как Гришка-красавчик, из медницкой, Гришка-кавалер выискался:
– Отчего же, коли скучно. Пожалте, пожалте.
И так это особенно на Сашу глянул, Нила с Митей на кривой объехал.
– Заходите, Саша, – промямлил Митя, вдруг обращаясь к ней на “вы”.
Гришка, разлетевшись, табуреточку подал и даже будто пыль с нее смахнул, как половой. “Ишь, шельма”, – неприязненно подумал Нил, а у Саши глаза смеются. Митя просительно скосился на Лоскутова, тот и завел:
– Стало-ть так, господа, приезжаю я в Кронштадт, от Питера это неподалеку, городок на острове, кругом, значит, вода. Само собой, пароходы разные.
Пощуриваясь, ковыряя в ухе, Лоскутов нес околесицу. Саша вежливо слушала. Сидела она прямо, руки вытянула на коленях. Гришка постреливал в нее зенками, бровями поигрывал. Нил и Митя, изображая равнодушие, злились. Мастеровые покуривали, усмехались: “Горазд Лоскутов лапти плести”.
Саше чудно было. И чего собрались? Водку не пьют, даже книжку не читают. Эка невидаль, приехал дядька в какой-то там… (Она позабыла, какой город.) Ну, в завод нанялся, куда ж еще?.. Гришкино внимание льстило Саше. Но вот если б заместо этого парня да Нил… Она догадывалась, что Нил сердится. “Позлись, позлись, – тешилась, – а то ходишь мимо”.
Право, Гришка нахал: ишь, бровками дергает, Скобелев-победитель. А Санька-дуреха млеет. Своя-то она своя, но попробуй-ка читать при ней “Устав боевой дружины”.
У Саши наконец скулы задрожали от подавленной зевоты. Гришка вызвался было проводить, да она ему: “Благодарствуйте, мне рядышком”, – и, округлым плечом дверь нажимая, перехватив взгляд Нила, вдруг и зарделась.
– Посиделки, – проворчал Лоскутов. – Время даром… В другой раз умнее будете.
Кому он выговаривал, Митрию ли с Нилом, Гришке ли, разлетевшемуся со своим “пожалте”, неясно было.
В следующую субботу прочли “Устав”. Митя отрубил: “То, что нам нужно! Действовать!” Нил отмалчивался. У него свои соображения, да на людях неохота с братом перекоряться. “Устав” этот что? “Устав” требует полного признания программы партии “Народная воля”. А Нил, по правде сказать, и про “Черный передел” подумывал, отрицающий террор. Эти ж вот дружины названы боевыми, и каждый, кто в них, обязан участвовать в терроре: кому заводского доносчика убрать, кому предателя-шпиона, чтоб в охранку не шастал, а кому и покрупнее дичь срезать, коли призовут. Но ведь и то в расчет взять – кто важнее императора? Ну одного убили, другой сел, и теперь уж порохом вовсе не пахнет.
Нил отмалчивался. Да в общем-то, все смешались. Словно бы тяжестью их придавило. Не газетки “сухомятникам” пощелкивать, не книжки разбирать. Тут кровь, смерть, виселица, тут отчаянность во какая нужна. Работу забастовать – почему и нет, если прижмут? Но чтобы это с бомбой выскочить… Да-а-а, смешались мастеровые. Лоскутов тоже вроде смутился. Эх, не ко времени он, не подошло тесто, хоть и дрожжи есть.
– А я, братцы, – молвил Лоскутов, глядя в сторону, – я так, для ознакомления. – Он помолчал. – Чтоб знали вы: есть такие дружины. А лучше сказать – бывали, потому жандармерия, известно, гадов своих во все дыры запускает… Ну для ознакомления, значит, спешить-то нам ни к чему.
Митя Сизов загорячился, вспылил, совсем как мать. Лоскутов внушительно и намекающе пресек:
– Ты за всех не ответчик. Желябов, покойник, советовал: лучше меньше, да лучше.
Мастеровые разошлись. Митя напустился на брата. Нил отвечал, что хотел бы прежде определить суть несогласий “Народной воли” и “Черного передела”. Дмитрий растопырил пальцы.
– Разные, видишь? Пальцы-то, говорю, разные, а на одной руке и одному человеку служат.
Нил показал сжатый кулак:
– Так-то способнее. Верно?
Но Дмитрий свое не отдавал.
– Возьми, Нилка, семью. Муж с женой не во всем сходятся, а живут вместе и вместе детей растят. А ты – “несогласия”! Чему удивляться! Вот если бы их не было, тогда бы да, тогда удивляйся. – Он тряхнул черными, с блеском, такими же, как у брата, волосами. – Я тебе скажу: противно будет жить, если все на одну резьбу. Если такое случится, род людской вымрет. Ей-богу, вымрет!
– Эва хватил, – рассмеялся Нил. – Быть такого не может.
После неудачной попытки устроить боевую дружину Лоскутов, похоже, охладел к сизовской компании. А вскоре, ни с кем не простясь, исчез. Однако перед тем познакомил братьев Сизовых с человеком в рыжих вихрах и обильных конопушках. Сказал: Савелий Савельевич, нелегальный, беречь надо Савелия Савельевича. То был Златопольский, член исполнительного комитета “Народной воли”, о чем, разумеется, Сизовым знать не полагалось.
Савелий Савельевич не часто навещал Тверскую заставу. Наверное, не один сизовский кружок занимал его время. Но уж когда приходил, очень горячо, толково беседовал и о французской революции, и о борьбе за политические права, без которых не видать народу свободного существования, и об идеалах социализма. Беседовал однажды и о Парижской коммуне, всех увлек, а больше других, кажется, Нила. О делах же практических Златопольский, несмотря на тоскующие намеки Дмитрия, не заговаривал.
Практические дела, впрочем, сами набегали. И как-то так оборачивалось, что в застрельщиках ходили Сизовы.
Ученик был у них в мастерской, тихий, старательный, да на беду, не потрафил чем-то мастеру, тот ему и скостил помесячную плату. Ни много ни мало – на пять целковых скостил! Мальчонка плакал, мастер пихнул его взашей, а тот к Сизову-старшему: “Дядя Мить, заступись!”
Мастер осерчал: “Не лезь, Сизов, твое дело сторона”. – “Это, может, ваше дело сторона, господин мастер, – возражает Дмитрий, – а наше – артельное: вы ж знаете, парень и сестренку, и больную мать содержит…” Токари, слесари вокруг сгрудились. Мастер самолюбивый, ежели б один на один, а тут все смотрят, нельзя отступить, он и Митьку послал “вдоль по Питерской”. Выдвинулся младший Сизов: “Нехорошо, господин мастер. Ведь сами понимаете, разве справедливо…” Мастер и этого обложил выше макушки. Нил крикнул: “А что, ребята, так и утремся?” Народ молчал, мастер ободрился: “Утрешься!”
В конторе брякали счеты. Конторщики уставились на Сизовых. “По какой надобности?” – “К начальству”, – хмуро ответил Дмитрий.
Начальником мастерских Смоленской дороги был пожилой холеный инженер, пенсне у него сверкало, манжеты, запонки-камушки тоже сверкали.
Дмитрий, вольно заложив руки за спину, рассказал, что произошло. Инженер произнес наставление – кто есть такой господин мастер. Выходило, мастер прав.
– Да ведь какая ж это бережливость? – рассудительно отвечал Нил. – Железной дороге, господин начальник, выгоднее хороших работников выучивать, как этот мальчик. А голодом морить и невыгодно и позорно, не по-человечески.
После маминой укоризны оба вдруг и приметили, что Саша вправду “хорошая”, да только не в одном, мамином, смысле, а и в другом, о котором вслух неловко говорить. Нил было надумал отстать, но Митька, ерш, на дыбы: “Э, предрассудки! Наши отец-мать понятия при крепостном праве получили”.
Яков Илларионович, конечно, тоже знал, где ребята сумерничают. А разве свяжешь? Очень он за них тревожился. Ужинать сядут, Яков Илларионович ввернет, что от книжек этих, пропади они пропадом, все на свете беды, бунты, смута, прежде смирно жили – и ничего, кормились, да еще как, жирнее нонешнего, а теперь какие-то злодеи-социалисты обнаружились, бомбы в живых людей кидают, из револьвера палят, ни царя небесного для них, ни земного, всё тьфу. И чего только полиция ушами хлопает? Он бы, Яков Илларионович, словил, загнал бы черт-те куда, хоть на остров Сахалин.
Митя с Нилом не спорили. Молчок. Пусть отец что хошь, а они ложками стук-стук. Но опять-таки Митька сорвался.
– Ругаешь социалистов всяко, а сам и в глаза ни одного…
– Не-е, я бы их, супостатов, порешил, – загрозился Яков Илларионович, который, что называется, и куренка в жизни не обидел.
– А вдруг, батя… Вдруг на поверку сын твой Митька как раз и есть социалист?
– Прикуси язык, дурень! – крикнула мать.
Социалистами сыновей своих Яков Илларионович не увидел. В ту осень, когда ребята в мастерские Смоленской железной дороги устроились (рукой подать, за вокзалом), занемог он жестокой горячкой. Загорелся как сушинка, в два дня и убрался. Мать не голосила. Инструмент, покинутый навсегда, в руки брала. Возьмет и смотрит, смотрит. Митя от нее ни на шаг: “Мам, а мам”, – не слышит. Нил плакал.
Стали жить втроем. Митя и Нил до последнего пятака всё матери отдавали. Хорошие получки у них были, потому что большие ремонты начались. Мать раньше, бывало, посмеется: “Вот уж, Яша, ребяты на ноги встанут – покатаемся как сыр в масле”. Теперь она не то чтобы постирушки сократила, а еще дольше в господских домах пропадала. Они чуть не на коленках: “Не надо, мам! Чего нам не хватает? Христом-богом просим!” Она ладонью тронет их колкие уже щеки: “Мне так лучше”.
2
Обоих Сизовых быстро аттестовали в мастерских: из тех, мол, которые “божьей милостью”. Мастер, сам токарь и слесарь первой статьи, откровенно, не боясь, что молодые задерут нос, признавал: “Брательники эти паровоз из проволоки сладят”.
В огромных мастерских Нилу с Митей все по душе пришлось. И сама их огромность, не то что закутки у “рашпилей”, как прозывали мелких хозяйчиков; и машины “на чистом электрическом ходу”; и германской выделки инструмент. А работы не муторные, всякий раз как загадку отгадываешь.
Составилась у Сизовых “умственная” компания. Даже Лоскутов примкнул, человек серьезный, самостоятельный, повидавший белый свет. Он не только в Питере иль в Кронштадте токарничал, но и за кордоном, на Льежском оружейном… Этот вот Лоскутов и предложил однажды: “Хорошо бы, братцы, в обед не турусы на колесах, а газетку сухомятникам!” Кто жил далеко от мастерских, прозывался “сухомятником”, потому что харчи брал в узелке. Сизовы хотя и не брали, домой в обед бегали, но поддакнули Лоскутову.
Газеткой не обошлось. Мало-помалу то Успенского Глеба, то про Гарибальди, но все цензурой дозволенное. А не дозволенное цензурой – вечером, для немногих. Теперь и дома можно было, Сашу не беспокоили.
Она сама обеспокоилась, пришла как-то.
– Можно? – спрашивает. – А то скучно.
Косынка на ней была новенькая, такой Сизовы раньше не видели, и ботинки новенькие, на каблучке и со шнуровочкой. Улыбается скромненько. Хозяева еще и рта не открыли, как Гришка-красавчик, из медницкой, Гришка-кавалер выискался:
– Отчего же, коли скучно. Пожалте, пожалте.
И так это особенно на Сашу глянул, Нила с Митей на кривой объехал.
– Заходите, Саша, – промямлил Митя, вдруг обращаясь к ней на “вы”.
Гришка, разлетевшись, табуреточку подал и даже будто пыль с нее смахнул, как половой. “Ишь, шельма”, – неприязненно подумал Нил, а у Саши глаза смеются. Митя просительно скосился на Лоскутова, тот и завел:
– Стало-ть так, господа, приезжаю я в Кронштадт, от Питера это неподалеку, городок на острове, кругом, значит, вода. Само собой, пароходы разные.
Пощуриваясь, ковыряя в ухе, Лоскутов нес околесицу. Саша вежливо слушала. Сидела она прямо, руки вытянула на коленях. Гришка постреливал в нее зенками, бровями поигрывал. Нил и Митя, изображая равнодушие, злились. Мастеровые покуривали, усмехались: “Горазд Лоскутов лапти плести”.
Саше чудно было. И чего собрались? Водку не пьют, даже книжку не читают. Эка невидаль, приехал дядька в какой-то там… (Она позабыла, какой город.) Ну, в завод нанялся, куда ж еще?.. Гришкино внимание льстило Саше. Но вот если б заместо этого парня да Нил… Она догадывалась, что Нил сердится. “Позлись, позлись, – тешилась, – а то ходишь мимо”.
Право, Гришка нахал: ишь, бровками дергает, Скобелев-победитель. А Санька-дуреха млеет. Своя-то она своя, но попробуй-ка читать при ней “Устав боевой дружины”.
У Саши наконец скулы задрожали от подавленной зевоты. Гришка вызвался было проводить, да она ему: “Благодарствуйте, мне рядышком”, – и, округлым плечом дверь нажимая, перехватив взгляд Нила, вдруг и зарделась.
– Посиделки, – проворчал Лоскутов. – Время даром… В другой раз умнее будете.
Кому он выговаривал, Митрию ли с Нилом, Гришке ли, разлетевшемуся со своим “пожалте”, неясно было.
В следующую субботу прочли “Устав”. Митя отрубил: “То, что нам нужно! Действовать!” Нил отмалчивался. У него свои соображения, да на людях неохота с братом перекоряться. “Устав” этот что? “Устав” требует полного признания программы партии “Народная воля”. А Нил, по правде сказать, и про “Черный передел” подумывал, отрицающий террор. Эти ж вот дружины названы боевыми, и каждый, кто в них, обязан участвовать в терроре: кому заводского доносчика убрать, кому предателя-шпиона, чтоб в охранку не шастал, а кому и покрупнее дичь срезать, коли призовут. Но ведь и то в расчет взять – кто важнее императора? Ну одного убили, другой сел, и теперь уж порохом вовсе не пахнет.
Нил отмалчивался. Да в общем-то, все смешались. Словно бы тяжестью их придавило. Не газетки “сухомятникам” пощелкивать, не книжки разбирать. Тут кровь, смерть, виселица, тут отчаянность во какая нужна. Работу забастовать – почему и нет, если прижмут? Но чтобы это с бомбой выскочить… Да-а-а, смешались мастеровые. Лоскутов тоже вроде смутился. Эх, не ко времени он, не подошло тесто, хоть и дрожжи есть.
– А я, братцы, – молвил Лоскутов, глядя в сторону, – я так, для ознакомления. – Он помолчал. – Чтоб знали вы: есть такие дружины. А лучше сказать – бывали, потому жандармерия, известно, гадов своих во все дыры запускает… Ну для ознакомления, значит, спешить-то нам ни к чему.
Митя Сизов загорячился, вспылил, совсем как мать. Лоскутов внушительно и намекающе пресек:
– Ты за всех не ответчик. Желябов, покойник, советовал: лучше меньше, да лучше.
Мастеровые разошлись. Митя напустился на брата. Нил отвечал, что хотел бы прежде определить суть несогласий “Народной воли” и “Черного передела”. Дмитрий растопырил пальцы.
– Разные, видишь? Пальцы-то, говорю, разные, а на одной руке и одному человеку служат.
Нил показал сжатый кулак:
– Так-то способнее. Верно?
Но Дмитрий свое не отдавал.
– Возьми, Нилка, семью. Муж с женой не во всем сходятся, а живут вместе и вместе детей растят. А ты – “несогласия”! Чему удивляться! Вот если бы их не было, тогда бы да, тогда удивляйся. – Он тряхнул черными, с блеском, такими же, как у брата, волосами. – Я тебе скажу: противно будет жить, если все на одну резьбу. Если такое случится, род людской вымрет. Ей-богу, вымрет!
– Эва хватил, – рассмеялся Нил. – Быть такого не может.
После неудачной попытки устроить боевую дружину Лоскутов, похоже, охладел к сизовской компании. А вскоре, ни с кем не простясь, исчез. Однако перед тем познакомил братьев Сизовых с человеком в рыжих вихрах и обильных конопушках. Сказал: Савелий Савельевич, нелегальный, беречь надо Савелия Савельевича. То был Златопольский, член исполнительного комитета “Народной воли”, о чем, разумеется, Сизовым знать не полагалось.
Савелий Савельевич не часто навещал Тверскую заставу. Наверное, не один сизовский кружок занимал его время. Но уж когда приходил, очень горячо, толково беседовал и о французской революции, и о борьбе за политические права, без которых не видать народу свободного существования, и об идеалах социализма. Беседовал однажды и о Парижской коммуне, всех увлек, а больше других, кажется, Нила. О делах же практических Златопольский, несмотря на тоскующие намеки Дмитрия, не заговаривал.
Практические дела, впрочем, сами набегали. И как-то так оборачивалось, что в застрельщиках ходили Сизовы.
Ученик был у них в мастерской, тихий, старательный, да на беду, не потрафил чем-то мастеру, тот ему и скостил помесячную плату. Ни много ни мало – на пять целковых скостил! Мальчонка плакал, мастер пихнул его взашей, а тот к Сизову-старшему: “Дядя Мить, заступись!”
Мастер осерчал: “Не лезь, Сизов, твое дело сторона”. – “Это, может, ваше дело сторона, господин мастер, – возражает Дмитрий, – а наше – артельное: вы ж знаете, парень и сестренку, и больную мать содержит…” Токари, слесари вокруг сгрудились. Мастер самолюбивый, ежели б один на один, а тут все смотрят, нельзя отступить, он и Митьку послал “вдоль по Питерской”. Выдвинулся младший Сизов: “Нехорошо, господин мастер. Ведь сами понимаете, разве справедливо…” Мастер и этого обложил выше макушки. Нил крикнул: “А что, ребята, так и утремся?” Народ молчал, мастер ободрился: “Утрешься!”
В конторе брякали счеты. Конторщики уставились на Сизовых. “По какой надобности?” – “К начальству”, – хмуро ответил Дмитрий.
Начальником мастерских Смоленской дороги был пожилой холеный инженер, пенсне у него сверкало, манжеты, запонки-камушки тоже сверкали.
Дмитрий, вольно заложив руки за спину, рассказал, что произошло. Инженер произнес наставление – кто есть такой господин мастер. Выходило, мастер прав.
– Да ведь какая ж это бережливость? – рассудительно отвечал Нил. – Железной дороге, господин начальник, выгоднее хороших работников выучивать, как этот мальчик. А голодом морить и невыгодно и позорно, не по-человечески.