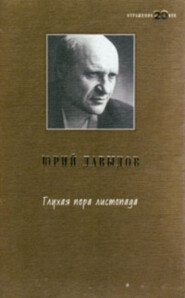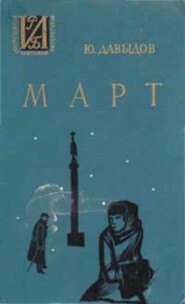По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Глухая пора листопада
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Коридоры министерств длинны чрезмерно. В департаменте государственной полиции они всегда бесконечны. Лишь очутившись в камере, вдруг жалеешь странной жалостью, что коридоры пройдены. И пройдены, чудится, мгновенно.
Но покамест – коридоры. Не двери распахиваются, не двери затворяются, не переход сменяется переходом. Нет, будто отламываются пласты изжитого. Счет годам невелик, ей тридцать первый. Да суть-то, должно быть, в топографии местности, по которой пролегла твоя дорога.
Минуты есть, неуследимые отрезки времени кристаллизации души. Были у нее такие минуты. Одна отлилась нравственным постулатом: нерасторжимость слова и дела. Другая обозначилась мыслью, что великие поворотные решения человек должен принимать для себя сам.
Дворянский дом полной чашей, подблюдные песни, милая няня, Казанский институт благородных девиц и первый бал, неудачное замужество, завершившееся разводом. Увлечение наукой, годы в Швейцарии. И новый взгляд, брошенный на Россию. “Внезапно” обнаруживается невозможность жить без сопротивления тому, что черно. Невозможность жить, не меньше. Ничего не остается, кроме общности личной судьбы с судьбою русской революции. В этом “ничего не остается” – ничего жертвенного. Есть дело, слитое со словом. И значит, радость и полнота, полнота и честность существования, покуда оно длится. Пусть краткого, но твоего существования. Тут ни на грош показного. Все неостановимо, как дыхание. Но и оттенок аскетизма, схима: печать поколения.
Ей тридцать первый. Захлопываются двери. Не здешние, не департаментские – двери прожитого: динамитная ворожба то в Одессе, то в Петербурге; знакомства с моряками и артиллеристами, когда вслед за Желябовым создавала она военную организацию “Народной воли”; ночь на первое марта восемьдесят первого года, когда у нее на квартире у Вознесенского моста, в ярком беспощадном круге от лампы, в круге белых лиц и белых рук было ее лицо, были ее руки, собиравшие части метательных снарядов… И уже после казни царя, но еще до казни пятерых, Перовская пришла к ней. “Верочка, можно у тебя ночевать?” – “Как ты это спрашиваешь? Разве можно об этом спрашивать?!” – “Я спрашиваю потому, что, если придут и найдут меня, тебя повесят”. – “С тобой или без тебя, если придут, я буду стрелять…”
Захлопывались двери в бесконечных коридорах департамента государственной полиции. На плече жандарма елозила оголенная шашка.
6
А внизу, глубоко, на узком мощеном дворе, зацокали лошади, внизу, на дворе, покатился к воротам экипаж.
Недалеко дом: Большая Морская, одиннадцать. Софья Дмитриевна ждет ко второму завтраку. Господи, сколько уж лет супружества с этой женщиной, невзрачной, неумной, но благодушной и преданной. Во времена оны дядюшка, царствие небесное, отговорил племянника Митеньку от брака с бесприданницей Языковой. Рожденная Бибикова стала графиней Толстой, принесла графу Дмитрию немалые земли. А бесприданницу взял голландский дипломат, и никогда уж больше не видел ее Дмитрий Андреевич. Не видел и не вспоминал, признаться. До нынешнего дня не вспоминал. И вот эта Фигнер. Та же грация, та же летящая походка, тот же поворот головы. Господи, как они похожи…
Теперь, в экипаже, он был немножко раздосадован. Эка его, однако, разобрало. А он слывет угрюмым, необщительным. Хе-хе, необщительным… У него есть всегдашние собеседники: латинские классики. Он был бы счастлив запереться дома и никого не принимать. У него есть латинские классики, обожаемый сын Глебушка, единственная любовь и привязанность. А многие – он слышал, слышал – в злобе своей почитают Глебушку форменным кретином.
Ах, запереться бы в кабинете, в тишине и никого не принимать, не видеть, не слышать. Двадцать лет тому… Нет, еще раньше: то-то было наслаждение в архивных разысканиях, в изучении, пристальном и пристрастном, отношений Рима и России, католицизма и православия, как иезуиты гнездились на Руси. А потом писать настоящий ученый труд. Два тома, изданных поначалу в Париже.
Ничего так не ненавидел граф Дмитрий Андреевич, как папство. Ватикан виделся ему первейшим врагом истинной России. Теперь еще один враг. Новый враг страшнее прежнего: социализм, учение бедоносное и злокозненное.
О революции он не писал и не напишет. Время, оставляя желания, отбирает силы. Силы на исходе, мало, слишком мало земных дней. Да и те могут пресечь нигилисты. Проклиная иезуитизм, поневоле вздохнешь: вот у кого была превосходная осведомительная служба. Не чета нашей… Да, иезуиты действовали в этом смысле превосходно, не нашим чета…
Граф почувствовал легкое головокружение, прикрыв глаза, перекрестился. Он был мнителен. Легкое головокружение, и тотчас мысль о близости смерти. “Увы, о Постум, Постум, мчатся быстрые годы…”
Генералу Оржевскому не терпелось первым огласить гостиные bon mot “ужасной женщины”. Какова! Она обратила бы в социалиста и этот замшелый пень. У старика отвисла челюсть… Черт догадал графа болтать об этих отравленных пахитосках. Плеве, конечно, тотчас сообразил, кто выкинул эту штуку.
Выдумка не из блестящих. Впрочем, старикан струхнул. Отказался от ежедневных прогулок по Морской, просил на лето лучших филеров для охраны рязанского имения. Нет, что ни говори, струхнул изрядно, а в этом суть. “Пусть, – говорит, – Оржевский всем заправляет, пусть они лучше в Оржевского стреляют, чем в меня!” Ах, циник, циник!.. Ну ничего, глядишь, обойдется. Десять лет ты, Петр Васильевич, Варшаву гнул – ничего, жив-здоров. Варшава! Вот уж где умеют задавать балы. Но Петербург тоже нынче весел, везде танцуют… Генералу вообразилось, как, похохатывая, прищелкивая пальцами, он будет рассказывать про нынешнее рандеву с Фигнер. И Оржевский заулыбался, полетел, как в мазурке, к дверям, весело мигнул дежурному унтеру: “Шинель, братец!”
Тем временем директор Плеве переговорил в телефон с Зизи, просил не ждать к обеду и, повесив трубку, послал за инспектором Судейкиным.
Плеве очень хорошо понимал, как страдает самолюбие инспектора. Не пригласить на “смотрины” того, кто устроил блестящее арестование наиважнейшей революционистки! Да-с, непременно надо Судейкину знать: не он, не директор Плеве, тому виною, а его сиятельство. Для графа инспектор просто-напросто выскочка, плебей. А между прочим, ваше сиятельство, дворянские руки, о коих вы изволили сказать, как раз и есть руки Судейкиных. Так-то! Судейкиных и Плеве, происходящих из “обер-офицерских детей”. Вот так-то!
Он сидел за просторным столом, ждал инспектора. Он не утаит, пусть знает, кто виновник явного небрежения. И ведь не впервой. Давно бы след представить инспектора царю. А граф Дмитрий Андреевич увиливает: нет, рано. Не было б поздно, ваше сиятельство, а? Самолюбие инспектора, оно того-с… Оно посерьезнее пахитосок вашего шаркуна Оржевского.
Грубая раздражительность при встрече с Фигнер уже оставила Вячеслава Константиновича. Он уязвил, смутил ее. И он был доволен ее ответом министру. То-то посмеется публика. Но дело прежде всего: не сегодня-завтра Фигнер переведут из департамента в крепость.
В дверь постучали.
– Прошу, Георгий Порфирьевич, – громко позвал Плеве.
7
Жена швейцара прибрала квартиру. Яблонский вымылся. Потом он допил водочку и закусил. Потом хорошо поспал.
На дворе смерклось. Яблонский, проснувшись, не стал зажигать свет. Скоро уж, подумал, припожалует… Яблонский известил его телеграммой, вот он и припожалует, инспектор Судейкин.
Последнее свидание было в Одессе. Обсуживался проект уловления Фигнер. Оба сознавали важность её ареста. Судейкин не скупился на посулы. Фигнер для обоих была крупным козырем. Следовало условиться о правилах игры. Яблонский своего не упустил. Они столковались: не начальник и сотрудник, не инспектор секретной полиции и агент секретной полиции – ровня, соумышленники.
Из Одессы Судейкин – в Питер, Яблонский – в Харьков. Он нервничал, не находил себе места. А все произошло удивительно просто. Яблонский держался в тени. Он навел на след Фигнер Ваську Меркулова, а сам издали, хоронясь за деревьями, наблюдал, как ее брали у Екатерининского сквера.
И в тот день, и на другой Яблонский много пил. Женщина с летящей походкой, женщина в шубке, с муфтой не выходила из головы. То были сантименты, результат нервного напряжения, вдруг разрядившегося. Он знал, что это не конец, лишь почин. Однако почин потрясающе удачный! Фигнер устранена, провал южных офицерских кружков обеспечен. Тут уж чистая техника, и баста. Казалось бы, “веселися, храбрый росс…”. Но нет, на душе у Яблонского было скверно, ему будто б нездоровилось. Он не тотчас поскакал в Петербург, как было условлено, а пожил в Малороссии, не переставая пить и пытаясь встряхнуться.
И внезапно от пронзительных подозрений у него в груди защемило. Он понял, что промазал в самом начале игры. Еще в Одессе инспектор взял с него слово никогда не показываться в департаменте на Пантелеймоновской. Резон был основательный: страх пред новыми Клеточниковыми. Яблонский мог бы поклясться, что новых Клеточниковых нет, у революционеров нет никакого агента в департаменте. Однако нынче нет, а завтра, глядишь, есть. И вот эта возможность… О черт! Но, не зная никого в департаменте, не показываясь на Пантелеймоновской, каким, спрашивается, волшебством мог удостовериться Яблонский в честности инспектора? Яблонский метил далеко и высоко. Не банальное шпионство свело его с Георгием Порфирьевичем… Сомнениями мучился Яблонский. Теперь, при свидании с подполковником, он выставит новые требования. Решительно, не колеблясь!
В прихожей дерзко забренчал звонок. На цыпочках, сразу вспотев, Яблонский устремился в ретирадное место. Как во многих питерских домах, в клозете было маленькое оконце на лестничную клетку. Яблонский прильнул к мутному стеклу, разглядел внушительную фигуру инспектора.
Минуту спустя Георгий Порфирьевич басил в передней. Яблонский, как уже бывало, ощущал рядом с инспектором обидную телесную малость. И, пропуская Судейкина в комнаты, кольнул:
– А вы тут, “милый Гошенька”, времени не теряли.
– А, вона что, – заулыбался Судейкин, – вы уж не браните.
Судейкин был весел, от него мартелем припахивало, на Яблонского смотрел он ласково, открыто, товарищески. Очень, надо сказать, ободрила Георгия Порфирьевича недавняя беседа с директором департамента. Прекрасно они друг дружку поняли. И скоро уж коронация, а в канун коронации обещана высочайшая аудиенция. С Вячеславом Константиновичем Плеве держи ухо востро, но на сей раз, кажется…
Ну ладно, это потом. А сейчас вот с Яблонским надо. Можно и арестование Фигнер вспрыснуть, и почин здешней, питерской, деятельности. Однако что такое? Что с ним?
Оживление, бодрость и этот запашок дорогого коньяка, исходивший от Судейкина, омрачили Яблонского. “Победу празднуешь, – думал он враждебно, – обо мне, конечно, в сферах ни гугу, а я вот тебя, брат, сейчас огорошу”.
– Послушайте, вы ведь знаете, я не ради выгоды, – начал он прерывающимся голосом.
– Ну, ну, батенька, – недоуменно и мирно вопросил Георгий Порфирьевич, властно подминая диван своим тяжелым телом.
– Я вам верю, – продолжал Яблонский, расхаживая по комнате и не глядя на Судейкина, – очень вам верю, право. Но… То есть и не “но”, вовсе без этого “но”. Я хочу напомнить: я не давал согласия на простое агентство.
– Так, так, – молвил Судейкин, шевеля бровями и точно бы сызнова всматриваясь в Яблонского, в его большую, несоразмерную торсу голову, в бледное, неглупое, но какое-то уж слишком обыкновенное лицо с пегой бородкой и усами. – Так, так, слушаю.
Его пристальный взгляд, его “так, так” взорвали Яблонского. Он остановился, исполненный решимости, глядя в упор на инспектора. И выставил требование: доложить о нем министру, а потом и государю императору.
Вышла пауза.
– Однако в Одессе, – сказал инспектор, – мы, кажется…
– В Одессе, в Одессе, – перебил Яблонский и опять пустился из угла в угол. – Вы знаете: не выгода, не карьера. Тут другое, совсем другое! Согласны? А коли согласны, почему б и не объявить?
Судейкин не разваливался на диване. Судейкин был прям, как в седле. Он потер круглый, коротко остриженный затылок, ладонью снизу надавил подбородок, потом скулу, словно усомнившись в их твердости. И неожиданно улыбнулся. Серьезная, уважительная была у него улыбка.
– А молодцом, черт возьми, – сказал он. – Молодцом!
– Нет, ей-богу, Георгий Порфирьевич, – проговорил Яблонский, будто сконфуживаясь, – поймите правильно.
– Н-да-с, оплел-таки нас бог одной веревочкой. Прошу, впрочем, сообразить: министр, государь… Эка ведь! Скоро сказка сказывается, прошу сообразить. Дайте срок.
– Понимаю, хорошо понимаю! Как не понять!
– Ну и отлично, – обрадовался Судейкин. – Мы-то с вами да не столкуемся! А? Ну теперь слушайте… Тут на нас с вами свалилось, батенька. Давайте-ка шторы, свет давайте-ка, так-то оно веселее. Ну-с, вот и хорошо. Прошу, садитесь, разговор не минутный, у меня, сознаюсь, никаких концов, все вам достанется. “Крестницу”-то нашу решено до суда держать в крепости. Я, правду сказать, спокоен за сохранность, но все ж таки не следует упускать из виду: Фигнерша – особа прыткая. Согласитесь, в наших интересах прятать сударыню в бастионе. Не так ли?
Но покамест – коридоры. Не двери распахиваются, не двери затворяются, не переход сменяется переходом. Нет, будто отламываются пласты изжитого. Счет годам невелик, ей тридцать первый. Да суть-то, должно быть, в топографии местности, по которой пролегла твоя дорога.
Минуты есть, неуследимые отрезки времени кристаллизации души. Были у нее такие минуты. Одна отлилась нравственным постулатом: нерасторжимость слова и дела. Другая обозначилась мыслью, что великие поворотные решения человек должен принимать для себя сам.
Дворянский дом полной чашей, подблюдные песни, милая няня, Казанский институт благородных девиц и первый бал, неудачное замужество, завершившееся разводом. Увлечение наукой, годы в Швейцарии. И новый взгляд, брошенный на Россию. “Внезапно” обнаруживается невозможность жить без сопротивления тому, что черно. Невозможность жить, не меньше. Ничего не остается, кроме общности личной судьбы с судьбою русской революции. В этом “ничего не остается” – ничего жертвенного. Есть дело, слитое со словом. И значит, радость и полнота, полнота и честность существования, покуда оно длится. Пусть краткого, но твоего существования. Тут ни на грош показного. Все неостановимо, как дыхание. Но и оттенок аскетизма, схима: печать поколения.
Ей тридцать первый. Захлопываются двери. Не здешние, не департаментские – двери прожитого: динамитная ворожба то в Одессе, то в Петербурге; знакомства с моряками и артиллеристами, когда вслед за Желябовым создавала она военную организацию “Народной воли”; ночь на первое марта восемьдесят первого года, когда у нее на квартире у Вознесенского моста, в ярком беспощадном круге от лампы, в круге белых лиц и белых рук было ее лицо, были ее руки, собиравшие части метательных снарядов… И уже после казни царя, но еще до казни пятерых, Перовская пришла к ней. “Верочка, можно у тебя ночевать?” – “Как ты это спрашиваешь? Разве можно об этом спрашивать?!” – “Я спрашиваю потому, что, если придут и найдут меня, тебя повесят”. – “С тобой или без тебя, если придут, я буду стрелять…”
Захлопывались двери в бесконечных коридорах департамента государственной полиции. На плече жандарма елозила оголенная шашка.
6
А внизу, глубоко, на узком мощеном дворе, зацокали лошади, внизу, на дворе, покатился к воротам экипаж.
Недалеко дом: Большая Морская, одиннадцать. Софья Дмитриевна ждет ко второму завтраку. Господи, сколько уж лет супружества с этой женщиной, невзрачной, неумной, но благодушной и преданной. Во времена оны дядюшка, царствие небесное, отговорил племянника Митеньку от брака с бесприданницей Языковой. Рожденная Бибикова стала графиней Толстой, принесла графу Дмитрию немалые земли. А бесприданницу взял голландский дипломат, и никогда уж больше не видел ее Дмитрий Андреевич. Не видел и не вспоминал, признаться. До нынешнего дня не вспоминал. И вот эта Фигнер. Та же грация, та же летящая походка, тот же поворот головы. Господи, как они похожи…
Теперь, в экипаже, он был немножко раздосадован. Эка его, однако, разобрало. А он слывет угрюмым, необщительным. Хе-хе, необщительным… У него есть всегдашние собеседники: латинские классики. Он был бы счастлив запереться дома и никого не принимать. У него есть латинские классики, обожаемый сын Глебушка, единственная любовь и привязанность. А многие – он слышал, слышал – в злобе своей почитают Глебушку форменным кретином.
Ах, запереться бы в кабинете, в тишине и никого не принимать, не видеть, не слышать. Двадцать лет тому… Нет, еще раньше: то-то было наслаждение в архивных разысканиях, в изучении, пристальном и пристрастном, отношений Рима и России, католицизма и православия, как иезуиты гнездились на Руси. А потом писать настоящий ученый труд. Два тома, изданных поначалу в Париже.
Ничего так не ненавидел граф Дмитрий Андреевич, как папство. Ватикан виделся ему первейшим врагом истинной России. Теперь еще один враг. Новый враг страшнее прежнего: социализм, учение бедоносное и злокозненное.
О революции он не писал и не напишет. Время, оставляя желания, отбирает силы. Силы на исходе, мало, слишком мало земных дней. Да и те могут пресечь нигилисты. Проклиная иезуитизм, поневоле вздохнешь: вот у кого была превосходная осведомительная служба. Не чета нашей… Да, иезуиты действовали в этом смысле превосходно, не нашим чета…
Граф почувствовал легкое головокружение, прикрыв глаза, перекрестился. Он был мнителен. Легкое головокружение, и тотчас мысль о близости смерти. “Увы, о Постум, Постум, мчатся быстрые годы…”
Генералу Оржевскому не терпелось первым огласить гостиные bon mot “ужасной женщины”. Какова! Она обратила бы в социалиста и этот замшелый пень. У старика отвисла челюсть… Черт догадал графа болтать об этих отравленных пахитосках. Плеве, конечно, тотчас сообразил, кто выкинул эту штуку.
Выдумка не из блестящих. Впрочем, старикан струхнул. Отказался от ежедневных прогулок по Морской, просил на лето лучших филеров для охраны рязанского имения. Нет, что ни говори, струхнул изрядно, а в этом суть. “Пусть, – говорит, – Оржевский всем заправляет, пусть они лучше в Оржевского стреляют, чем в меня!” Ах, циник, циник!.. Ну ничего, глядишь, обойдется. Десять лет ты, Петр Васильевич, Варшаву гнул – ничего, жив-здоров. Варшава! Вот уж где умеют задавать балы. Но Петербург тоже нынче весел, везде танцуют… Генералу вообразилось, как, похохатывая, прищелкивая пальцами, он будет рассказывать про нынешнее рандеву с Фигнер. И Оржевский заулыбался, полетел, как в мазурке, к дверям, весело мигнул дежурному унтеру: “Шинель, братец!”
Тем временем директор Плеве переговорил в телефон с Зизи, просил не ждать к обеду и, повесив трубку, послал за инспектором Судейкиным.
Плеве очень хорошо понимал, как страдает самолюбие инспектора. Не пригласить на “смотрины” того, кто устроил блестящее арестование наиважнейшей революционистки! Да-с, непременно надо Судейкину знать: не он, не директор Плеве, тому виною, а его сиятельство. Для графа инспектор просто-напросто выскочка, плебей. А между прочим, ваше сиятельство, дворянские руки, о коих вы изволили сказать, как раз и есть руки Судейкиных. Так-то! Судейкиных и Плеве, происходящих из “обер-офицерских детей”. Вот так-то!
Он сидел за просторным столом, ждал инспектора. Он не утаит, пусть знает, кто виновник явного небрежения. И ведь не впервой. Давно бы след представить инспектора царю. А граф Дмитрий Андреевич увиливает: нет, рано. Не было б поздно, ваше сиятельство, а? Самолюбие инспектора, оно того-с… Оно посерьезнее пахитосок вашего шаркуна Оржевского.
Грубая раздражительность при встрече с Фигнер уже оставила Вячеслава Константиновича. Он уязвил, смутил ее. И он был доволен ее ответом министру. То-то посмеется публика. Но дело прежде всего: не сегодня-завтра Фигнер переведут из департамента в крепость.
В дверь постучали.
– Прошу, Георгий Порфирьевич, – громко позвал Плеве.
7
Жена швейцара прибрала квартиру. Яблонский вымылся. Потом он допил водочку и закусил. Потом хорошо поспал.
На дворе смерклось. Яблонский, проснувшись, не стал зажигать свет. Скоро уж, подумал, припожалует… Яблонский известил его телеграммой, вот он и припожалует, инспектор Судейкин.
Последнее свидание было в Одессе. Обсуживался проект уловления Фигнер. Оба сознавали важность её ареста. Судейкин не скупился на посулы. Фигнер для обоих была крупным козырем. Следовало условиться о правилах игры. Яблонский своего не упустил. Они столковались: не начальник и сотрудник, не инспектор секретной полиции и агент секретной полиции – ровня, соумышленники.
Из Одессы Судейкин – в Питер, Яблонский – в Харьков. Он нервничал, не находил себе места. А все произошло удивительно просто. Яблонский держался в тени. Он навел на след Фигнер Ваську Меркулова, а сам издали, хоронясь за деревьями, наблюдал, как ее брали у Екатерининского сквера.
И в тот день, и на другой Яблонский много пил. Женщина с летящей походкой, женщина в шубке, с муфтой не выходила из головы. То были сантименты, результат нервного напряжения, вдруг разрядившегося. Он знал, что это не конец, лишь почин. Однако почин потрясающе удачный! Фигнер устранена, провал южных офицерских кружков обеспечен. Тут уж чистая техника, и баста. Казалось бы, “веселися, храбрый росс…”. Но нет, на душе у Яблонского было скверно, ему будто б нездоровилось. Он не тотчас поскакал в Петербург, как было условлено, а пожил в Малороссии, не переставая пить и пытаясь встряхнуться.
И внезапно от пронзительных подозрений у него в груди защемило. Он понял, что промазал в самом начале игры. Еще в Одессе инспектор взял с него слово никогда не показываться в департаменте на Пантелеймоновской. Резон был основательный: страх пред новыми Клеточниковыми. Яблонский мог бы поклясться, что новых Клеточниковых нет, у революционеров нет никакого агента в департаменте. Однако нынче нет, а завтра, глядишь, есть. И вот эта возможность… О черт! Но, не зная никого в департаменте, не показываясь на Пантелеймоновской, каким, спрашивается, волшебством мог удостовериться Яблонский в честности инспектора? Яблонский метил далеко и высоко. Не банальное шпионство свело его с Георгием Порфирьевичем… Сомнениями мучился Яблонский. Теперь, при свидании с подполковником, он выставит новые требования. Решительно, не колеблясь!
В прихожей дерзко забренчал звонок. На цыпочках, сразу вспотев, Яблонский устремился в ретирадное место. Как во многих питерских домах, в клозете было маленькое оконце на лестничную клетку. Яблонский прильнул к мутному стеклу, разглядел внушительную фигуру инспектора.
Минуту спустя Георгий Порфирьевич басил в передней. Яблонский, как уже бывало, ощущал рядом с инспектором обидную телесную малость. И, пропуская Судейкина в комнаты, кольнул:
– А вы тут, “милый Гошенька”, времени не теряли.
– А, вона что, – заулыбался Судейкин, – вы уж не браните.
Судейкин был весел, от него мартелем припахивало, на Яблонского смотрел он ласково, открыто, товарищески. Очень, надо сказать, ободрила Георгия Порфирьевича недавняя беседа с директором департамента. Прекрасно они друг дружку поняли. И скоро уж коронация, а в канун коронации обещана высочайшая аудиенция. С Вячеславом Константиновичем Плеве держи ухо востро, но на сей раз, кажется…
Ну ладно, это потом. А сейчас вот с Яблонским надо. Можно и арестование Фигнер вспрыснуть, и почин здешней, питерской, деятельности. Однако что такое? Что с ним?
Оживление, бодрость и этот запашок дорогого коньяка, исходивший от Судейкина, омрачили Яблонского. “Победу празднуешь, – думал он враждебно, – обо мне, конечно, в сферах ни гугу, а я вот тебя, брат, сейчас огорошу”.
– Послушайте, вы ведь знаете, я не ради выгоды, – начал он прерывающимся голосом.
– Ну, ну, батенька, – недоуменно и мирно вопросил Георгий Порфирьевич, властно подминая диван своим тяжелым телом.
– Я вам верю, – продолжал Яблонский, расхаживая по комнате и не глядя на Судейкина, – очень вам верю, право. Но… То есть и не “но”, вовсе без этого “но”. Я хочу напомнить: я не давал согласия на простое агентство.
– Так, так, – молвил Судейкин, шевеля бровями и точно бы сызнова всматриваясь в Яблонского, в его большую, несоразмерную торсу голову, в бледное, неглупое, но какое-то уж слишком обыкновенное лицо с пегой бородкой и усами. – Так, так, слушаю.
Его пристальный взгляд, его “так, так” взорвали Яблонского. Он остановился, исполненный решимости, глядя в упор на инспектора. И выставил требование: доложить о нем министру, а потом и государю императору.
Вышла пауза.
– Однако в Одессе, – сказал инспектор, – мы, кажется…
– В Одессе, в Одессе, – перебил Яблонский и опять пустился из угла в угол. – Вы знаете: не выгода, не карьера. Тут другое, совсем другое! Согласны? А коли согласны, почему б и не объявить?
Судейкин не разваливался на диване. Судейкин был прям, как в седле. Он потер круглый, коротко остриженный затылок, ладонью снизу надавил подбородок, потом скулу, словно усомнившись в их твердости. И неожиданно улыбнулся. Серьезная, уважительная была у него улыбка.
– А молодцом, черт возьми, – сказал он. – Молодцом!
– Нет, ей-богу, Георгий Порфирьевич, – проговорил Яблонский, будто сконфуживаясь, – поймите правильно.
– Н-да-с, оплел-таки нас бог одной веревочкой. Прошу, впрочем, сообразить: министр, государь… Эка ведь! Скоро сказка сказывается, прошу сообразить. Дайте срок.
– Понимаю, хорошо понимаю! Как не понять!
– Ну и отлично, – обрадовался Судейкин. – Мы-то с вами да не столкуемся! А? Ну теперь слушайте… Тут на нас с вами свалилось, батенька. Давайте-ка шторы, свет давайте-ка, так-то оно веселее. Ну-с, вот и хорошо. Прошу, садитесь, разговор не минутный, у меня, сознаюсь, никаких концов, все вам достанется. “Крестницу”-то нашу решено до суда держать в крепости. Я, правду сказать, спокоен за сохранность, но все ж таки не следует упускать из виду: Фигнерша – особа прыткая. Согласитесь, в наших интересах прятать сударыню в бастионе. Не так ли?