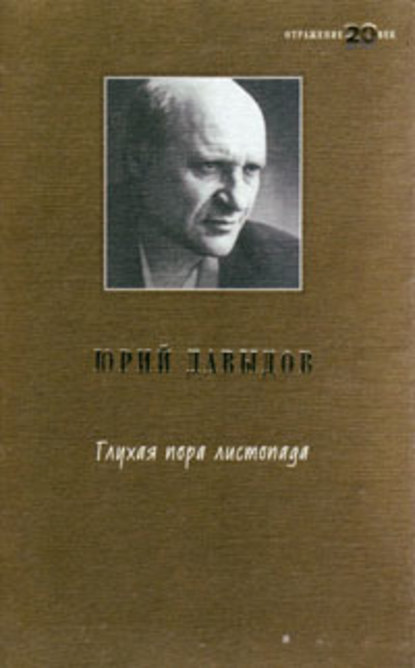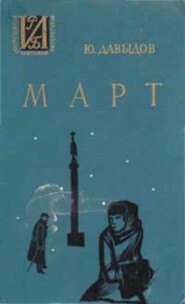По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Глухая пора листопада
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Плохо различала Лиза, как солдаты взвалили на ломовые телеги пять черных гробов, как некий господин поднес ей нашатырю, взял об руку. Потом этот господин, бережно поддерживая барышню, ехал с нею на конке, говорил, что нельзя так нервничать, и еще что-то бессмысленное, пустяковое.
Он проводил ее до дому, она представила его своим спасителем. С того дня он зачастил к Дегаевым. Его звали Борисом Ивановичем Зверевым. Он был приятен, неглуп, Сергею Петровичу посулил достать чертежную работу в какой-то конторе.
Лиза не то чтобы строила на него виды, но Борис Иванович был ее первым серьезным ухажером, и это ей льстило. Она не принимала настороженности Сергея (недавно, мол, из тюрьмы, болезненная подозрительность). Дегаеву действительно не импонировал смазливый блондинчик. Сергей Петрович навел справки у товарищей, хранивших еще «черные списки» Клеточникова, и удостоверился, что Зверев обыкновеннейший мерзавец из охранного отделения. Объявив об этом сестре, Дегаев отказал Борису Ивановичу от дома: неприлично-де барышне водить знакомство с молодым человеком, который никем ей не представлен. Отказ был шит белыми нитками, но Зверев все понял, исчез с горизонта… И вот спустя столько времени «противный Серж» укусил:
– Не второй ли Борис Иванович?
– О это уж слишком! – крикнула Лиза.
Она разобиделась до слез. Надо знать меру! В ее обиде крылось еще и раздражение на брата за столь несвоевременное вторжение.
– Ну прости, прости, – ласково сказал Дегаев, обнимая сестру за плечи, – столько не виделись, а ты…
– Не я, а ты… ты, – возбужденно отозвалась Лиза. – Прекрасный он, честный. Нет, это невозможно! Какая нравственная грубость, Сергей! Приходишь и ни за что ни про что…
– Хорошо, Лизок, согласен – прекрасный, честный… Однако в моем положении… – Он развел руками.
Лиза опешила.
– То есть?
– А то, милая… – И он жестом изобразил бегущего человека.
Лиза ахнула.
– Когда ж? Как? Господи, Сережа! Что ж это будет? А мама знает? Господи, господи, ведь они тебя могут…
Дегаев снова обнял сестру, она прижалась к нему, оба испытывали родственную, кровную близость.
Она заспешила в кухоньку, загремела посудой. Дегаев тихо улыбнулся: до чего ж Лизонька похожа на маму. Дегаев подумал, что напрасно тянул со свиданием. Вот пришел, сидит, вот эта гостиная с замоскворецкой мебелью, а справа комната, где они с Белышом жили. Да-а, Белыш, Любинька. Ведь как обернулось: ей он обязан своим спасением. Жаль, пришлось расстаться. Как-то она там, в Белгороде, без него?
Нехотя, без тех подробностей, которые открыл в Харькове Вере Николаевне Фигнер, описал он свой побег. Лиза и не настаивала – тяжело брату вспоминать Одессу.
Они пили чай, говорили о семейных делах. Володе, конечно, грустно отбывать службу в Саратове. Но что поделаешь? Еще, слава богу, Судейкин ограничился угрозой: «Постарайтесь, чтоб правительство забыло про вас!» А Наталья, кажется, оставила свои сценические грезы, думает заняться беллетристикой, переводить «Фауста». Он, Сергей, доволен, что познакомил ее с Маклецовым, своим приятелем по Кронштадту. Маклецов натура практическая, умеет приспособиться; Наталья счастлива в замужестве. Правда, эти вечные переезды с места на место. Такая уж у Маклецова служба: в разных обществах по строительству железных дорог. Пусть Лизонька не беспокоится, маме хорошо у них, и если Лиза летом поедет в Малороссию, Наташа и Коля будут только рады. Какое неудобство? Его-то, Сергея, они привечают, лучше желать нечего. Ах и пожил он у них прошлой осенью на хуторе Максимовка! Что за жизнь, честное слово. Пусть Лиза непременно летом отдохнет. Конечно, Харьков или Белгород – это все городское, но, возможно, Маклецов заберется в деревню, близ Лозовой, он, кажется, получит какую-то работу в обществе Лозово-Ссвастопольской железной дороги.
Потом соскользнули к Лизиному петербургскому житью. Не смей трунить, противный Сережка! У тебя на уме только шахматы да глупые математические формулы. А вот если б ты услышал «Заклинание огня» в концертной транскрипции профессора Брассена… И про студента Николая Александровича Блинова тоже заговорили, о каких-то нелегальных его заботах.
– Ах вот как… – Дегаев ухмыльнулся: – Ну, семейка-то наша, а?
– Да, – ответила Лиза, – он тоже серьезный революционер.
4
В ледовых трещинах ходила жадная вода. На задворках помирали матерые сугробы. В полдень чувствительно грело. Вечерами, однако, было свежо.
Дегаев шел по набережной. Уже темнело, приходилось напрягать зрение, чтобы следить не только за студентом, но еще и за его спутником, долговязым унтер-офицером. Решать надо – брать на себя «голубя» или не брать.
А унтер Ефимушка уже смекнул: «Пока-азывают!» Стало быть, другой, вон тот, позади который, головастый, и почту теперь примет, и деньгу теперь кинет. Пускай! Тот ли, иной ли, хрен с ними. А к «показыванию» ему, Провотворову, не привыкать стать: чуть не месяц, как на смотру, шлендал в Архиерейском переулке. Все-то они, эти революционисты, проверяли его. Осторожные, черти, на своем молоке обжигаются, на нашу воду дуют.
Десять лет, одиннадцатый служил Провотворов в Отдельном корпусе жандармов. Долго тянул лямку в казармах на Надеждинской, храбрость в перестрелке выказал, когда типографов в Саперном переулке брали. А в марте восемьдесят первого, как царя порешили, отослали его в Петропавловскую крепость – самых, значит, отчаянных злодеев стеречь. Ничего, справно стерег. Вон они, шевроны, один золотой, другой серебряный: начальством отмечен беспорочный унтер Ефим Провотворов. И такого навидался, такого наслышался, хоть век сказывай, не перескажешь. Но – молчок, язык проглоти по долгу присяги.
Крепость-то лишь прикидывалась: вот, дескать, одели меня камнем, затворили засовами, решетками, ни слуху ни духу. А послужишь, поймешь: так-то оно так, да не совсем. Трава скрозь камень проклюнется, человек и железо источит.
Это ведь случай случайный, что его, Ефима, в Алексеевский равелин не определили. Он все время в Трубецком бастионе. А в равелине-то окажись, состоять бы ему теперича вместе с равелинской командой под военным судом. Там этот арестант, из секретных, который под нумером пятым значился, ведь он что же? Годы изжил, в оковах, на цепи, говорят, гнил, ан слово за слово обкатал-таки команду. Слушались его, ровно господина смотрителя. Отчего ж? Оттого, говорят, великая в нем сила правды заключалась. Да и глянет – аж душа замрет, и баста, попробуй не подчинись. Верняком бы сбег, когда б не открылся заговор. Ребята теперь под караулом, осудят соколиков: кому каторга, кому дисциплинарна, валяй, брат, по всем по четырем. Сам же арестант кончился, кажись, еще до рождества. Вот тебе и «сила правды»… Какая в ей сила? Хреновина одна. А вот деньжищ от секретного арестанта в команду прорва перепала, вот те и сила правды…
Темнело. Звонче делался шаг. И не слышалась уж капель, только где-то, не разберешь где, осторожно потрескивало. Линии Васильевского острова упирались в набережную, как темные каньоны. Оттуда несло застоявшимся, нечистым. Чудилось, Нева вздувается подо льдом, ширит разводья. Блики фонарей лежали на реке то недвижно, мертво, а то вдруг оживали, шевелились.
В сущности, кой черт смотреть «голубя»? Дегаев не колебался: Провотворов был бесценной находкой. Такой же, как некогда два солдата из команды Алексеевского равелина, что передавали записки «секретного арестанта нумер пятый», записки Нечаева. Дегаев помнил, как Исполнительный комитет «Народной воли», как Желябов и Перовская, порицая Нечаева за давнее, за мистификации, восторгались несокрушимостью его духа. Дегаев помнил, как замышлялся побег Нечаева и как Денис Волошин пытался осуществить безумный побег. Волошин, смельчак в пальто офицерского покроя, со щегольской тросточкой и в котелке, сдвинутом на затылок. Пробрался в крепость, чуть не в равелин проник, но был застигнут, его преследовали, и он в темноте угодил в невскую прорубь… Нечаев не дождался воли, умер… Все это было, все это сплыло… А долговязый – находка бесценная. Особенно теперь! Вера Николаевна в бастионе. Кой черт смотреть «голубя», пора бы чайком да водочкой побаловать… А надо отдать должное Блинову, его друзьям: ловко завязали сношения с Трубецким бастионом. Впрочем, главная тут заслуга Златопольского.
К Златопольскому испытывал Дегаев уважение и неприязнь. Последнее, пожалуй, в большей степени, нежели первое. Познакомились они два года назад здесь, в Петербурге. Златопольский был введен в Исполнительный комитет и этим, сам того не подозревая, больно задел Сергея Петровича.
О членстве в комитете Дегаев мечтал неотступно. Ему казалось, что он заслужил, достоин «высокого партийного положения». В обществе – и среди сочувствующих, и среди враждебных «Народной воле» – Исполнительный комитет, неуловимый и карающий, грозный и вездесущий, почитался чуть ли не подпольным правительством России. Дегаев не без труда скрывал свое нетерпеливое, жаркое желание. Он не раз сетовал на невнимание к себе, но Желябов и Перовская оставались глухи к его намекам. Не пугались ли они огонька честолюбия, которое нет-нет да и вихрилось в душе отставного штабс-капитана?.. А этот Златопольский, едва появившись на питерском горизонте, заполучил членство в комитете. Не откажешь ему в сметке, в решительности не откажешь, а все же мог бы послужить и в «нижних чинах».
Дважды Дегаев имел с ним дело по семейным, так сказать, обстоятельствам. К нему обращался Сергей Петрович, выясняя, кто такой есть Лизин ухажер, увязавшийся за сестрою на Семеновском плацу. Златопольского поставил Сергей Петрович в известность о «подходах» Судейкина, и это он, Златопольский, санкционировал Володину контршпионскую деятельность, из которой, увы, вышел пшик. Теперь Дегаев как бы даже и не вспоминал, что сам настаивал на братниной связи с инспектором; теперь Дегаеву хотелось думать, что всему виною был именно этот ушастый одессит, и Сергей Петрович так и думал. Однако прошлогодний арест Златопольского искренне опечалил Дегаева. Но не душевно, а скорее из общих, практических соображений. И при этом Дегаев запоздало укорил себя в неприязни к товарищу. Впрочем, раскаяние это объяснялось, пожалуй, тем, что Златопольский сошел со сцены.
Мечтая о членстве в комитете в самую сочную пору его могущества и деятельности, Дегаев с помощью Фигнер стал членом в общем-то уже и не существующего комитета. Предстояло воссоздавать, предстояло возрождать. И Дегаев заявлял молодым: надо воссоздавать, надо возрождать. А молодых, рвущихся в бой, оказалось, к удивлению, не так уж и мало…
Дегаев прибавил шагу. Обгоняя Блинова, зажег папиросу, подал условный знак, и Блинов шепнул унтеру: следуй за этим господином во фроловский трактир.
5
Унтер был прав, рассуждая о траве и камне. Склепы, созданные для медленного умерщвления, для тихих и буйных помешательств, для самоубийств, неукоснительно выполняли свое предназначение. Но трава, пусть блеклая, чахлая, сиротская, осиливала железо и камень. И человек противился безмолвию, которое сравнивал с гробовым, и одиночеству, для которого не умел найти сравнения.
Застенок, этап, каторга так прочно и кряжисто втиснулись в наше государственное бытие, что и пословица, будь она проклята, народилась: от тюрьмы не зарекайся. Быть может, никакие другие заключенные во всем свете не выказали столько изобретательности, столько изощренности, сколько выказали русские.
Тут было и старое, как сама тюрьма, перестукивание, несложная азбука. И записочки, нацарапанные обгорелой спичкой или оловянной пуговицей от кальсон. И отчеркнутые ногтем буквочки в строках какого-нибудь «душеспасительного чтения». И узелки на нитках из основы холщовых портянок. И условные зарубки на рукоятке деревянной лопаты, которой узники перебрасывали с места на место песок в тюремном дворике. Ни карцеры, ни лишения прогулок, ни цепи не могли удержать заключенных от общения друг с другом. Как голод, как жажда – либо утолишь, либо околеешь.
Но высшим, но самым желанным было общение с волей, с теми, кто дышал и ходил, кто еще находился «там». Требовался «голубь», почтальон-посредник, некий субъект, приставленный, чтоб держать тебя взаперти, тут Ефимушка требовался.
Ох как нужен был «голубь»! Златопольский ничего бы, кажется, не пожалел. Он слушал шаги, голоса солдат, сменявшихся в карауле. Он знал нечаевскую историю, знал, что и в Трубецком бастионе можно найти «голубя». Посредник чудился в одном, в другом, в третьем. Но кто же? Кто? Он искал, приглядывался, принюхивался, взывая к своему инстинкту опытного конспиратора.
На шпиле собора парил архангел с трубою. Когда вострубит архангел? Что-то происходит на воле? Хоть бы клочок газеты, хоть бы обрывок. О, если б он верил в грозного иудейского бога! Он верил в случай…
Был июль. Как некогда Нечаев, слышал Златопольский свистки пароходов на Неве, пронзительные бодрые свистки, зов плещущего мира.
Вечером вошел в камеру унтер с двумя шевронами за беспорочную службу, малый лет тридцати, долговязый, круглорожий. Этих назначали для слежки и за арестантами, и за караулом. Этих пускали в камеры важных арестантов на суточное дежурство. Эти почитались отборными из отборных. Они обязаны молчать как стены. Они обязаны ходить как заведенные. Они воплощают Неумолимость.
Унтер молча ходил по камере. Златопольский тоже ходил и тоже молчал. Обоим было душно. Унтер расстегнул крючочек мундирного воротника. Златопольский сбросил халат. Обоим хотелось пить.
Они ходили из угла в угол.
На Неве посвистывали вечерние пароходы.
– Садитесь, пожалуйста…
Любезный хозяин? Глупо, смешно. Унтер не сел и не ответил, но что-то намекающее в лице его почудилось Златопольскому, и арестант добавил:
– Жарко, можно и отдохнуть.