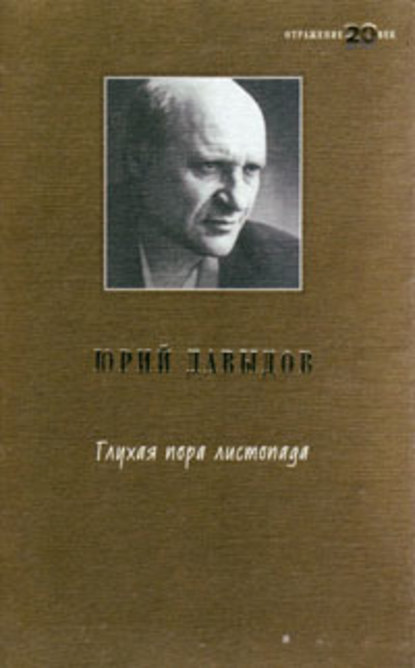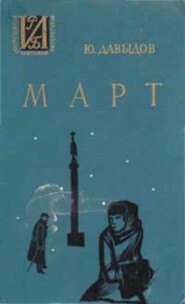По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Глухая пора листопада
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Унтер выразительно покосился на дверь. Шерохнул «глазок»: подглядывали из коридора… Они опять ходили молча. И вдруг Златопольский, как по наитию, назвал свое имя. Унтер не обязан был знать его имени, унтеру это запрещалось, он должен был знать его номер, соответствующий номеру каземата: шестьдесят второй. Но унтер кивнул, и кивок означал: «Запомню!»
– Вы давно в службе? – тихонько спросил арестант.
– Могут услышать, – суфлерски ответил стражник.
И это «могут услышать» решило все. Златопольский рывком отвернул кран, вода бурно засипела. Златопольский опорожнил ковшик и еще один, без передышки… Потом арестант и стражник обменялись несколькими торопливыми словами. Суть была не в словах. Суть была в том, что они были произнесены.
Господи, как он пережил двое суток ожидания? И вот опять в камере номер шестьдесят два дежурил унтер-офицер, награжденный шевронами за беспорочную службу.
– Мартыновский, Зунделевич, Тригони, Кобылянский, – шептал Ефимушка.
Он словно бы рекомендации показывал. Народовольцы, названные им, содержались на каторжном положении здесь же, в Трубецком бастионе Санкт-Петербургской крепости.
Всем им услуживал Ефимушка Провотворов. Однако конспиративных адресов уже не было, а Златопольский, «свежий», имел такие явки, которые, как он надеялся, пока не провалились. Следовало торопиться. И не следовало торопиться. Он не смел рисковать. Он должен был рискнуть.
Еще одно дежурство, и прямой, в упор, вопрос: «Не отнесешь ли записку в город?» Унтер трудно, как мужик на торгах, молчал. Потом ухнул: «Две тыщи!»
Не сумма изумила, все равно таких деньжищ не было, изумила хватка Ефимушки. Не играет в сочувствие «несчастным», а ребром: две тыщи – и шабаш. У Нечаева в равелине солдаты действовали «по совести»: это уж после Нечаев просил товарищей ссужать их деньгами, да и то небогато, чтоб не запили. А этот – малый не промах: плати, и баста.
Златопольский не торговался. Была не была, лишь бы начать. Другое неотступно мучило: а не ставит ли дошлый унтер и на бога и на черта, не переметный ли, куда как прыток, а ведь знает, каково придется, коли накроют.
Ничего еще, в сущности, не произошло, но Златопольскому уж в камере просторнее. Слабенько, но будто дунул ветер воли. Нет, не грезил о побеге, в голове роились планы постоянных сношений «мира мертвых с миром живых». В подпольных изданиях, в заграничных изданиях виделась рубрика: «Письма из Петропавловской крепости». Пусть узнают люди о бастионном режиме, пусть «Письма» послужат революции, пусть стучат в сердца спящих, вызывая гнев и сострадание, ибо сострадание и гнев ведут за руку Действие.
Все это хорошо, стройно уложилось в голове Златопольского, потому что он уж несколько переменился в тюремных глухих стенах. Он верил, что сострадание непременно предполагает действие. Он не хотел принять в расчет разрыв, дистанцию, какие сохраняются между состраданием и опасным действием у людей, поглощенных хлопотами повседневности. Но разве из этого следовало: не стучите, ибо не отверзется?
Он уже не перекладывал с места на место песок бессмыслицы, как перекладывал гимнастики ради речной песок в тюремном дворе. Простеньким шифром составил краткую записку, адресовал легальному, студенту Военно-медицинской академии, – потянул первое звенышко длинной путаной цепочки.
Полетел Ефимушка на Выборгскую, отыскал студента, такой оказался мозглячок. Передал, исполнил в точности. Правда, арестант нумер шестьдесят два не сулил тотчас тыщи, но вроде бы и намекнул. Оно понятно, заломил-таки Ефимушка.
Однако надо ведь и в его положение вникнуть. Не шутки шутит – или голова в кустах, или… У него свое на мушке. Аннушка в полюбовницах, ах, малина-баба, так это они сладко сладились, пора и под венец. Да вот Аннушка медлит. Сперва уж так-то, мой ясный, расстарайся, чтоб нам, говорит, собственную торговлишку завести, надоело, говорит, мне мадамочек обшивать. А расстарается Ефимушка, тогда уж мундир долой, из крепости долой, его высокоблагородию смотрителю Леснику под козырек, прощевайте, господин майор, был у вас, дескать, унтер Провотворов верный слуга, а теперича кум королю, сват министру. И заживут они с Аннушкой, совет да любовь. Вот у него какой прицел.
Преступники государственные, хоть и не злодеи вовсе, как начальство толкует, но распробестии, а только и он, Ефим Провотворов, тоже не лыком шит. Понимает: и на старуху бывает проруха, не ровен час обремизишься, во сто глаз и за унтерами присмотр. Ну, на такой-то случай… Ха-ха! Прозапасный ход имеется, не лыком шит Ефимушка, не прост. Ему бы поскорее расстараться, как Аннушка-умница наставляет, да и концы в воду. А уж лавочку в низке они приглядели, хороша лавочка, в Архиерейском переулке, аккурат там, где Аннушка квартирует. Ну заживут, эх, заживут, совет да любовь.
Поначалу его все испытывали, в Архиерейском переулке рассматривали. Да и он, не будь плох, Аннушку подпускал: последи-ка, куда вон тот господин стопы направил. И две-три записочки Ефимушка припрятал, не отдал. Тоже, стало быть, если заминка, нате, мол, вашескородь, я это, богом клянусь, для пользы службы. А двумя тысячами, правда, лишь но губам мазнули. Ладно… Полегоньку съехал на пятьсот, на том и уперся всеми копытами. Получал в рассрочку четвертным, получал и красненькими – прикапливал.
Обе стороны держались начеку. Но «голубиная почта» действовала в общем-то исправно, словно бы городская, однако в отличие от городской, минуя «черный кабинет», перлюстрацию минуя. И газетки объявились в Трубецком, и вечное перо доставил Ефимушка, и писчую бумагу.
Снега обкладывали крепость. Долгие, то вьюжные, то звездные ночи влеклись над крепостью. Стужа пронизывала камень бастионов. Дымили печи, отзванивали куранты. И в высокой пасмурности коченел на шпиле архангел с трубою.
Не было в «мире живых» решительной, сердитой Веры Топни Ножкой, неутомимой Веры Фигнер. Тихомиров – это авторитет, но не сравнишь его с Верой. Как допустили? Как не уберегли?.. Снег, снег… Молчит архангел. Вере грозит смертная казнь. Обмер Златопольский, когда Провотворов шепотом: «Здесь, в бастионе-с». В тот день он ни о чем не говорил с Ефимушкой.
Потом он послал ей привет, несколько ласковых слов. Она отозвалась «проверочной» запиской два-три наводящих вопроса. Он ответил. И получил шифром: Дегаев бежал из тюрьмы, еще не все потеряно.
Дегаев, Сергей Петрович Дегаев, отставной штабс-капитан артиллерии. Он, Златопольский, ввел его в кружок кронштадтцев. «Вываренной тряпкой» ругнул Дегаева кто-то из товарищей. Гм, «вываренная тряпка…». Исполнителен, это да, только вряд ли дождешься от него инициативы, энергии. Но, может быть, ошибка? Бывает и так. Вере лучше знать… И все ж он не разделяет Вериного оптимизма. Однако если Дегаев бежал, сумел бежать, значит, есть в нем искра. Дегаев бежал, а Вера здесь, рядом, на Вере синий халат, желтые кожаные коты, она в том одеянии, в котором ходят «состоящие под следствием»…
Фигнер привезли в бастион на другой день после «смотрин» в кабинете генерала Оржевского. Генерал еще изящно рысил по гостиным, еще рассказывал, пощелкивая пальцами, как она срезала графа Дмитрия Андреевича, а глухая карета уже доставила «ужасную женщину» в крепость, и уже гремели шаги и железо, и уже надели на нее мерзкую, травленную по?том дерюгу. Генерал-лейтенант еще скакал по гостиным, его сиятельство граф Дмитрий Андреевич, затворившись дома, услаждался Горацием, а директор департамента полиции уже фиолетово, тонко и строго, без завитушек, выставил свое имя под секретным документом. В том документе, «совершенно доверительном», предписывалось коменданту Санкт-Петербургской крепости иметь строгое наблюдение за наиважнейшей государственной преступницей.
В каземате была она с середины февраля восемьдесят третьего года. И с февральских тех дней Златопольским владела мысль о побеге: ее, Верином, побеге из крепости. Он сознавал не трудность, нет, почти невозможность, почти безумие своих проектов. Он сознавал, что те, кому он пишет, слишком неопытны, слишком малосильны. Но писал. Писал намеками…
Нынче, апрельским стылым вечером, укрывшись в задней комнате черного трактира близ Андреевского рынка, Ефимушка передал одну из тех записок господину, которого прежде знать не знал.
Господин был недомерок, тщедушный, с большой головою, с угрюмым взглядом темных глаз. Ефимушке он не понравился. Впрочем, что ж? Не детей крестить… Не охнув, выложил господин полсотенки. Видать, тороватей того, прежнего, из студентов. Выложил, следующее свидание назначил. И вежливо так отбыл-с.
6
Дом пятьдесят шесть дробь два на углу Большого проспекта и Гагаринской был на замете у департамента полиции – «по причине проживания лиц, скомпрометированных в политическом отношении». Да сами посудите: сперва библиотека принадлежала писателю Павлу Засодимскому; потом писателю Александру Эртелю; там же одно время снимал комнату и беллетрист Николай Златовратский. Хоть легальные, хоть при паспортах, но за версту неблагонамеренностью несет. А к ним кто? Универсанты, технологи, бестужевки, разных журналов сотрудники. С недавнего ж времени библиотека досталась братьям Карауловым, Николаю и Василию. Жена Николая, слушательница врачебных курсов, хозяйство вела, прислуги Карауловы не держали, скромно жили. Однако подполковник Судейкин прилепил филеров к угловому дому на Большом и Гагаринском, и вот уж, помимо прочих, замелькал в филерских суточных донесениях некий господин в английском суконном пальто с воротником-шалью, в круглой енотовой шапке с синим верхом. Господин этот – сыщики меж собою нарекли его Головастиком – приезжал на извозчике, держался спокойно, никогда не юлил проходным двором… Ага, вот он, собственной персоной. Ишь, прет, не оглядывается, ровно барин какой.
Из трактира близ Андреевского рынка Дегаев поехал на Петербургскую сторону. Был уже поздний вечер, ясный, в молодых звездах.
На Гагаринской, отпустив извозчика, Дегаев, не озираясь, не осторожничая, вошел в парадную, взбежал по лестнице, позвонил условным звонком.
В читальне он не показывался, а показывался лишь на тесных сходках в квартире хозяев библиотеки братьев Карауловых. Отворил ему нынче старший, Николай Андреевич, человек плечистый, гулкоголосый.
Ах, мирная картина! Круг от лампы, блики самовара, белое запястье женщины, опустившей стакан в полоскательницу, а в серебряной сахарнице – твердая голубизна колотого сахара. И наплыв папиросного дыма. Мирная картина… «О, в самом бы деле», – с внезапным и грустным сожалением подумалось Дегаеву.
Он знал собравшихся. Филолога и поэта Якубовича: «Так без жизни проносится жизнь вся моя: поглощаемый мутною тиною, я борюсь день и ночь, сам себе – и судья, и тюрьма, и палач с гильотиною…» Ну да, да, а молодость свое берет – румянец-то ровный, юношеский, неподвластный горькой думе… И милейший Стась Куницкий тут же, огненным взором брызжет, воплощенная пылкость этот Стась Куницкий, в жилах его горячая, как пунш, смесь польской и грузинской крови. Он Дегаеву вроде бы крестником: Стасю передал Сергей Петрович нелегальный кружок в Институте путей сообщений… Кто еще? Ага, в креслах, поодаль, как будто в гоголевской шинели с поднятым воротом, неулыбчивый Флеров. Крупный, породистый нос, выпуклая, будто вызывающе развернутая грудь. «Кто знает, господа, не перейдет ли в скором времени дело революции в руки рабочих?» Это он сказал, неулыбчивый Флеров. А вот и Блинов. Блинов демократически пьет чай – с блюдечка пьет, вытянув губы. Блинов – будущий горный инженер (ежели не арестуют) и будущий зять (ежели Лизонька не отвергнет, что, впрочем, весьма сомнительно-с).
Дегаев принял от хозяйки стакан чаю, но еще не поставил на стол, как почувствовал пристальный взгляд и поднял голову.
В стакане тонко и дробно зазвенела ложечка; Сергею Петровичу почудилось, что где-то там, на улице, проехала тяжелая фура, и вот здесь, в комнате, этот дробный, тонкий звон. Он поставил стакан.
Ювачев? Дегаев смотрел на отрочески тонкого, загорелого офицера. Неужели Ювачев? Неужели один из тех офицеров-южан, с которыми он, Дегаев, познакомился в Одессе и в Николаеве? Значит, уцелел?
Ювачев, сын мелкого придворного служащего, был похож на романтичных моряков из увлекательных книжек капитана Марриэта: хорош собою, четкий очерк рта, бронзовость, которой одаривают солнце и ветер морей.
Ювачев стоял у зашторенного окна, спрятав руки за спину.
– Последний из могикан? – печально улыбнулся Дегаев.
– Вам уже известно? – быстро и неприязненно спросил прапорщик.
– Следовало ожидать, – вздохнул Дегаев. Прибавил значительно: – Увы, следовало. Да-с.
– Отчего же «следовало»? – Ювачев голосом подчеркнул это утвердительное «следовало».
Дегаев пожал плечами, словно удивляясь недогадливости молодого человека. И объяснил:
– Предательство. Я уж говорил: предательство. Я первый, верно, об этом сказал. Еще когда у Софьи Григорьевны… Ну да вы об этом знаете, надеюсь.
Дегаев взял чай, негромко заговорил с публикой.
Ювачев не слушал. Достал папиросы и спички, но не закурил. Он задумался, на душе у него было смутно. Повернувшись, он лбом раздвинул шторы, приник к черному слепому окну.
Недавно в Одессе Ювачев впервые увидел Дегаева, представителя центра. Да и товарищи его, офицеры флотские и армейские, тоже, кажется, впервые встретились с этим невзрачным, хмурым Сергеем Петровичем.
Тогда, в Одессе, Дегаев внушал членам Военной организации необходимость возобновить террористические действия. Террор замер вместе с эхом бомб на Екатерининском канале, бомб первого марта восемьдесят первого года. Террор словно бы иссяк вместе с казнью императора Александра Второго и казнью террористов на Семеновском плацу. Возобновить террористические акты, по мысли Дегаева (стало быть, и центра), значило возвестить, что «Народная воля» существует, действует.
Тогда, в Одессе, как казалось Ювачеву, Сергей Петрович был весьма категоричен и нецеремонен. Он беседовал с каждым офицером отдельно. Брал об руку, уводил в уголок. В этом «уводе» чудилось Ювачеву что-то паучье. И он, штурман Ювачев, довольно резко возразил Дегаеву: понуждать к террору неуместно, намерение метать бомбы должно исходить, так сказать, изнутри, а не под чарами чужого красноречия.