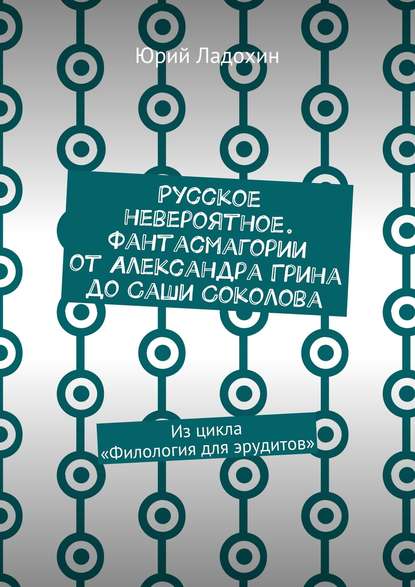По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русское невероятное. Фантасмагории от Александра Грина до Саши Соколова. Из цикла «Филология для эрудитов»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Русское невероятное. Фантасмагории от Александра Грина до Саши Соколова. Из цикла «Филология для эрудитов»
Юрий Дмитриевич Ладохин
Русское невероятное рядом. Порой отойди на десять шагов и уже не знаешь, что это – действительность или фантастический мир домовых и колдунов. Не верите? Тогда у вас есть возможность перечитать с нами лучшие страницы и попытаться разгадать магическую притягательность культовых фантасмагорических произведений: «Алые паруса» Александра Грина», «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Альтист Данилов» Владимира Орлова, «Между собакой и волком» Саши Соколова.
Русское невероятное. Фантасмагории от Александра Грина до Саши Соколова
Из цикла «Филология для эрудитов»
Юрий Дмитриевич Ладохин
Посвящается любимой жене Оленьке
© Юрий Дмитриевич Ладохин, 2016
ISBN 978-5-4483-5833-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Нет, наверное, такого любителя книги, кто не зачитывался бы удивительным романом Александра Грина о чудесном появлении в заливе у деревушки Каперна корабля «Секрет» с алыми парусами и романтической встрече трепетной Ассоль и мужественного капитана Грэя. Не найдется, видимо, и того, для кого строки Михаила Булгакова «в белом плаще с кровавым подбоем..» мгновенно не вызвали бы ассоциации с беседой Иешуа Га-Ноцри с Понтием Пилатом под безжалостным солнцем Ершалаима, эксцентричными выходками свиты Воланда в Москве, нежданной встречей в Тверском переулке мастера с Маргаритой, сжимающей в руке тревожные желтые цветы.
Думается, эрудированный читатель помнит и о настольной книге советской интеллигенции 80-х годов ХХ века «Альтист Данилов» Владимира Орлова, главный герой которой, демон на договоре, сочиняет новую музыку, используя двенадцатитоновую технику согласно латинской формуле: «Пахарь Арепо за своим плугом направляет работы». Любители повествований о русской глубинке, диковинных лесных и речных существах наверняка хранят в памяти строки из романа Саши Соколова «Между собакой и волком» о верховьях Итиль-реки: «Идут ведьмы на погост, // О своем судача. // Мерзни, мерзни, святый хвост, // Грейся, хвост чертячий. // И совсем уже синя // Слюдяная Волга, // Едет Пес на ней в санях, // Погоняя Волка».
Фантастические события и явления в этих книгах тесно переплетаются с русской реальной жизнью. Иногда даже не разобрать, где кончается одно и начинается другое. И такой сложносплетенный пеньковый канат небывальщины и почвенной славянской основы так и хочется назвать РУССКОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ. Попытаться разгадать секрет очарования этих фантасмагорических произведений, тайну их неизбывного магического воздействия на читателя – одна из стержневых задач представленной вашему вниманию книги.
А чтобы исследование не выглядело провинциальным, предлагаются также филологические размышления о произведениях двух признанных зарубежных мастеров мистерий и загадок: Эдгара По с его психологическими рассказами, где граница достоверного с легкостью смещается с сторону экстраординарного, и Джона Фаулза с романом-фантастагорией «Волхв», предлагающим ловко срежиссированный «магом» Кончисом карнавал мистификаций и психологических экспериментов.
Глава 1. «Дверь не ищи. Спасения из плена // Не жди. Ты замурован в мирозданье…» (ирреальный мир смещений и чудес)
Ключевая особенность произведения с элементами фантасмагории – погружение персонажей время от времени в ирреальный мир, где законы природы и общепринятые понятия здравого смысла действуют в весьма измененном виде, а привычные координаты времени и пространства причудливо смещены. Как известно, на Земле существуют 24 часовых пояса, ограниченные меридианами, которые проходят на 7,5 градусов восточнее и западнее среднего меридиана каждого пояса. Однако некоторые часовые пояса пропадают – время этих поясов не используется. Это характерно в основном для регионов, находящихся выше широты приблизительно 60 градусов, к примеру, Аляска, Гренландия, северные регионы России. Трудно судить о первых двух регионах, но для русского Севера наталкивающий на мысль о некой зоне ирреальности факт пропажи часовых поясов, как нам думается, не случаен. Пожалуй (пусть это будет гипотезой), догадку о существующем поясе мерцающей иллюзорности времени и пространства можно распространить и на российские широты значительно южнее Полярного круга.
Поищем союзников в обосновании этого дикого, на первый взгляд, предположения. Один из них – известный российский писатель Александр Кабаков: «Я глубоко убежден, что жизнь вообще, а в нашей стране в особенности, абсолютно иррациональна. Под внешним покрывалом быта прячется тайна, и невозможно ни вполне проникнуть в нее, ни убедить себя, что никакой тайны нет. Это смутное ощущение и рождает всякое искусство, а душу если и можно чем-то оживить, то именно приближением к этой тайне. Тут не божественное и не дьявольское в чистом виде – скорее, просто человеческое, но то человеческое, что нематериально» [Кабаков 2012, С.38]. Второй – житель острова дождей и туманов, слова которого приводит главный редактор «Colta.ru» Мария Степанова: «Диковатая, клочковатая архаизация, о которой говорят сейчас все и которую приходится наблюдать и описывать прямо по ходу того, как почта осыпается под ногами, имеет в России занятный фон. Сколько-то лет назад мне задали вопрос, на который интересно было бы ответить сегодня. Спрашивал англичанин, специалист по русской литературе, – и не мог понять, почему вся русская проза могла бы проходить по ведомству фантастики (shi-fi, fantasy, fairy tale). Вот ваш Пелевин, вот ваш Сорокин, вот ваша Петрушевская, говорил он, – в любой реалистический текст обязательно просунется какое-нибудь привидение, чудесное спасение, опричник с клешней, война мышей с обезьянами. Я ничего не имею против – но почему везде, почему у всех?» [см. Степанова 2015]. Попытки найти ответ на хитроумный вопрос привели к неожиданному, но и вполне ожидаемому выводу: «Мы наблюдаем странную ситуацию, где уклонение от реальности и есть самый сермяжный реализм – реализм первой полосы, аттракцион авторской смелости: в этом качестве он и воспринимается местным читателем, и только им (и не имеет никакой специальной притягательности для читателя внешнего – в отличие от латиноамериканского магического реализма с его пышными чудесами). То есть русское невероятное, оно же русское вероятное – это настолько внутренний продукт, что не такого сарафана, в который его можно было упаковать для внешнего мира, нет такого аршина, вдоль которого можно было этот перевертыш разместить» [Там же].
Ну, если речь пошла про «какое-нибудь привидение», то, чтобы наверняка – это к Саше Соколову, во временную расщелину «между собакой и волком». Будь то неведомый Зимарь-Человек: «Всюду сумерки, всюду вечер, везде Итиль. Но там, где Зимарь-Человек телегой скрипит – заосеняло с небес, у коллег в Городнище завьюжило, а на моей Волка-речке – иволга да желна. Поступаю, как старшая велит, и вступаю по колено в волну» [Соколов 2014, С.207]. Причем со сказочным повторением, как по Проппу: «Всюду сумерки, повсюду вечер, везде Итиль. Но там, где Зимарь-Человек на телеге супругу на карачун повез, лист сухой в самокрутку сворачивается на лету; под Городнищем, где речь про Егора, про Федора, – чистый декабрь; а на нашей на Волчьей – не верится даже – там иволга, там желна» [Там же, С.270]. Или Она, шествующая в апреле с запрокинутой головой вместе с кикиморами в черном: «Стоило шествию, впрочем, спуститься с насыпи, приблизиться к огородам, где сутулились пугала, ступить на убитую детскими играми и печатными курьими ножками дворовую твердь, как все, достигнутое балаболками в деле преодоления расстояний, оборачивалось фикцией чистейшей воды. Не помышляя вернуться, не отступив назад ни на шаг, шествие уже возвращено, сдвинуто, смещено на исходные рубежи, к горизонту, и, явно не замечая случившегося, продолжает однажды начатое – шествует, марширует, шагает, влача и толкая, понукая и поучая ту, чья голова запрокинута и увенчана столь несвежим, а издали – чрез очищающий кристалл пустоты – бантом поразительной свежести» [Там же, С.350].
Реестр диковинных персонажей романа продолжается зомби со столетним стажем, привидевшемся рыбакам во время подледного лова: «Кого это там еще Бог дает – // С лампою, на коньках… // Никак Аладдин Батруддинов идет, // Татарина шлет Аллах. // Ну ты и горбатый средь наших равнин, // Хирагра тебя еры, // На кой тебе лампа, чуж-чужанин, // В дремучие эти поры? // Якши, мормышка, поймал ерши? // Проваливай, конек-горбунок, // Ты есть наважденье, хвороба души, // Батрутдинов сто лет как йок» [Там же, С.190, 191]. Не менее причудлива судьба еще одного кандидата в зомби-взвод Заитильщины, несчастного оппонента богемских кристаллов: «Иван был стекольщик, // Хрусталь не любил, // Поэтому больше // Из горлышка пил. // Любил он толченым // Стеклом зажевать, // Но вдруг подавился – // Но вот не узнать. // Любовь – это счастье, // А счастье – стекло, // Стеклянному счастью // Разбиться легко» [Там же, С.409, 410]. Герои романа, жители дремучих заводей Верхневолжья, думается, интуитивно понимают, что местные «чудеса» как-то связаны с метафизическими завихрениями воды и времени: «Слава богу, навестил меня Крылобыл и, соболезнуя, надоумил. Илия, мудрит, Петрикеич, настаиваешь, время единовременно, что ли, повсеместно фукцирует? Я сказал: я не настаиваю… Смотри, Крылобыл, этот умняга, учит, давай с тобой не время возьмем, а воду обычную. А давай. И останови впечатление, тормошит, в заводи она практически не идет, ее ряска душит, трава, а на стрежне – стремглав; так и время фукцирует, объяснял, в Городнище шустрит, махом крыла стрижа, приблизительно, в Быдогоще – ни шатко ни валко, в лесах – совсем тишь да гладь» [Там же, С.372, 373]. Знание «водного параграфа» теории относительности приносит и практические плоды: «Потому и пойми уверенье, что кража, которой ты – жертва, случилась пока что лишь в нашем любимом городе и больше нигде, и на той стороне о ней и не слыхивали. Стоит, значит, тебе туда переехать – все ходом и образуется. Принял я это к сведению и заездил на будущем челноке в позапрошлое» [Там же, С.373].
Изданный в том же 1980 году, что и роман Саши Соколова, «Альтист Данилов» Владимира Орлова знакомит читателя со своими (назовем их «городские») фантомами времен НИИ, КБ и толстых журналов. Это и грозный начальник Канцелярии от Того Света, мимикрирующий на Земле под останкинского домового: «Валентин Сергеевич выпрямился, отлетел вдруг в центр залы, захохотал жутким концертным басом, перстом, словно платиновым, нацелился в худую грудь Данилова и прогремел ужасно, раскалывая пивные кружки, запертые в ночь в соседнем заведении на улице Королева: – Жди своего часа! – Он превратился в нечто дымное и огненное, с треском врезавшееся в стену, и исчез, опять оставив двадцать первый дом без присмотра. Домовые еще долго терли глаза, видимо, натура Валентина Сергеевича при переходе из одного физического состояния в другое испускала слезоточивый газ» [Орлов 2011, С.20].
Не уступающий начальнику Канцелярии по зловредности, однокашник главного героя романа Кармадон «как и любой иной демон, был, по школьным понятиям Данилова, лишь определенным духовным выражением материи и мог принять любую форму, какая бы соответствовала его желаниям и обстоятельствам. То есть выглядеть хотя бы птичьим пометом, и пуговицей от штанов, и бурундуком, или даже точкой, или траекторией или никак не выглядеть» [Там же, С.100]. Несмотря на необузданный норов, Кармадон не лишен был тяги к романтическим выходкам. Одна из таких – обрести в земной ипостаси облик громадного Синего быка, на которой держался остов империи Девяти Слоев: «Данилов ожидал почуять возле быка Мигуэля запахи потной скотины, но нет, пахло лишь железнодорожным буфетом станции Моршанск-II. Но самым неожиданным для Данилова было то, что бык Мигуэль спал. И спящий он был хорош, гладок, силен, размером куда больше бизона или зубра. Но до слона бык Мигуэль не дорос. Стало быть, присутствовало в Кармадоне чувство меры и объективности» [Там же, С.108].
Между тем, сам Данилов, полу-демон, полу-человек, вполне мог составить достойную конкуренцию Кармадону в пятиборье превращений. Подвести Данилова могла только отчаянная бесшабашность: «Крутою и гладкой дорогой, открытой теперь для движения, отрицательные заряды полетели вниз со скоростью в десятки тысяч километров в секунду, и Данилов вместе с ними понесся к земле на самом острие молнии, завывал, гремел от восторга. И с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громоотвода Останкинского дворца… А однажды в безрассудстве упоения бурей, ради гибельных и сладких ощущений, нейтрализовался на миг и все же успел вернуться в свою сущность. Дважды он опять попадал в стальную иглу, а в третий раз, увлекшись, промазал и расщепил старый парковый дуб возле катальной горки. Тут и опомнился» [Там же, С.24]. Более осмотрительно Данилов проделывал «фокусы» со смещением временных координат: «Данилов же ни на секунду не мог исчезнуть из Москвы, вот в наблюдениях за Кармадоном он и вынужден был втискиваться в демоническое время. Данилов как бы в электричке, на ходу, разжимал закрытые двери и оказывался между ними, то есть на самом деле он разжимал людское время, был вне его, но и двигался вместе с ним, а потом отпускал двери времени, они сжимались опять. И Данилов возвращался в то же самое мгновение, из которого по необходимости вышел» [Там же, С.132].
Несмотря на демонические возможности, манипуляции со временем не проходили для Данилова бесследно: «Выходило, что он ни на минуту не исчезал из Москвы, но пока в его московской жизни, как будто бы главной реальности Данилова, была ощутимая щель, вызванная пребыванием в Девяти Слоях. И она, эта щель, еще не представлялась Данилову иллюзией. Края ее не смыкались. Увидев Альбани, он тут же вспомнил о похитителях инструмента» [Там же, С.424, 425]. Выручали стойкость и натренированное умение владеть собой: «Так или иначе, обнаружив Альбани, Данилов и в руки его не стал брать сразу, а, походив возле открытого футляра и одевшись, не спеша, как бы нехотя, поднял инструмент и положил его на стол… А он лишь проверил звук (его ли это инструмент, не подделка ли от умельцев Валентина Сергеевича) и, убедившись, что Альбани подлинный (тут его обмануть не могли), сыграл легкую мазурку Шумана. И, укрыв альт кашмирским платком, закрыл футляр. Но чего это ему стоило!» [Там же, С.425] … У Эмиля Кио, родоначальника знаменитой династии иллюзионистов, был известный фокус «Превращение женщины во льва». Для Данилова больше подошел бы номер «Превращение любимой женщины в чудесную фею на гречишном лугу»: «Потом они стояли на лестнице у Наташиной квартиры и долго не могли отпустить друг друга. Время стекало в глиняный кувшин и застывало в нем гречишным медом. Наконец Наташа отстранилась от Данилова, взглянула на него серыми прекрасными своими глазами пристально и серьезно, выскользнула из его рук, легким английским ключом отворила дверь и тут же ее за собой захлопнула» [Там же, С.58, 59].
В 30-е годы прошлого столетия «какое-нибудь привидение», посетившее Москву, могло выглядеть импозантно и без всяких внешних признаков упыря или лешего: «Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый – почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец» [Булгаков 2015, С.77]. Сопровождающие гостя столицы смотрелись, правда, несколько эксцентрично, но никак не угадывались как представители мира «иных». В первом смущали нелепый головной убор, выражение лица и какая-то особая летучесть: «И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок… Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая» [Там же, С.74]. В другом «существе» резали глаз габариты и походка, несвойственная домашним питомцам: «Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного. Тот был уже у выхода в Патриарший переулок, и притом не один. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все: третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянным кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, причем кот тронулся на задних лапах» [Там же, С.118]. В третьем озадачивали особенности строения зубов и непредвиденная деталь гардероба: «Какая голова? – спросила Маргарита, вглядываясь в неожиданного соседа. Сосед этот оказался маленького роста, пламенно рыжий, с клыком, в крахмальном белье, в лакированных туфлях и с котелком на голове. Галстух был яркий. Удивительно было то, что из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или самопишущее перо, у того гражданина торчала обглоданная куриная кость» [Там же, С.299] … Имена гостя златоглавой, его подручных и название романа проницательный читатель, конечно, угадал.
Визитеры сбивали с толку не только внешним видом и раскованными, еще мягко говоря, манерами; самое загадочное – их фамильярное взаимоотношения с физическим явлением, порожденным, как утверждают предания, древнегреческим божеством Хроносом. Во-первых, принципиальная позиция – не ставить дат на документах: «Не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гелла уже сидела за машинкой, а кот диктовал ей: – Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства… поставь, Гелла, скобку! В скобке напиши „боров“. Подпись – Бегемот. – А число? – пискнул Николай Иванович. – Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, – отозвался кот, подмахнув бумагу, откуда-то добыл печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово „уплочено“ и вручил бумагу Николаю Ивановичу» [Там же, С.370].
Во-первых, всемогущий Воланд легко преодолевал временные промежутки величиной почти в две тысячи лет: «Дело в том… – тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, – что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас – никому ни слова и полнейший секрет!.. Тсс! – Наступило молчание, и Берлиоз побледнел» [Там же, С.112].
Воланд и его свита уверенно владеют и искусством сотворения иногда озорных, иногда небезобидных метаморфоз. Возьмем хулиганскую выходку превращения заведующего Комиссией зрелищ и увеселений облегченного типа в человека-невидимку: «За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстухе, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, что царила кругом. Услышав, что кто-то вошел, костюм откинулся в кресле, и над воротником прозвучал хорошо знакомый бухгалтеру голос Прохора Петровича: – В чем дело? Ведь на дверях же написано, что я не принимаю» [Там же, С.263]. Другая проделка уже не походила на шутливую проказу, а вполне могла заинтересовать правоохранительные органы: «Сдачи, что ли нету? – робко спросил бухгалтер. – Полный карман сдачи! – заорал шофер и в зеркальце отразились его наливающиеся кровью глаза. – Третий случай со мной сегодня. Да и с другими то же было. Дает какой-то сукин сын червонец, я ему сдачи – четыре пятьдесят… Вылез, сволочь! Минут через пять смотрю: вместо червонца бумажка с нарзанной бутылки! – Тут шофер произнес несколько непечатный слов. – Другой – за Зубовской. Червонец. Даю сдачи три рубля. Ушел! Я полез в кошелек, а оттуда пчела – тяп за палец! Ах ты!.. – шофер опять вклеил непечатные слова. – А червонца нету» [Там же, С.262].
Но, надо отдать должное – иногда «номера» приезжих иллюзионистов служили благому делу: «О чем роман? – Роман о Понтии Пилате. – Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей, задребезжала посуда на столе, Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал и смехом этим не удивил. Бегемот почему-то зааплодировал. – О чем, о чем? О ком? – заговорил Воланд, перестав смеяться. – Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть, – Воланд протянул руку ладонью кверху. – Я, к сожалению, не могу этого сделать, – ответил мастер, – потому что я сжег его в печке. – Простите, не поверю, ответил Воланд, – этого быть не может. Рукописи не горят. – Он повернулся к Бегемоту и сказал. – Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман. – Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей» [Там же, С.365].
В «Гринландии» места действия произведений звучат не по-русски: Лисс, Зурбаган, Гель-Гью, Сан-Риоль и другие, но диковинные явления сплошь и рядом имеют приметы отечественных пространств и нравов. Только вместо упомянутой выше «войны мышей с обезьянами» —танцевальный па сусликов: «Ассоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву; держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению. Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки – позы, усилия, движения, черты и взгляды; ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, еж, серея, выкатился перед ней на тропинку. – „Фук-фук“, – отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода» [Грин 2014, С.60]. Взамен «опричника с клешней» – говорящая рыба, парящая над водой: «Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т.п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность – в образы своей фантазии. Тут появлялись и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказания которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем…» [Там же, С.20].
Таков Грин: фантазии художника-оптимиста наперекор ставшими почти обыденными в русской действительности вурдалакам и прочей нежити. Фантомы в произведениях автора «Алых парусов» нередко порождены галлюцинациями, которые он, нам кажется, мог считать явлением, заслуживающим пристального внимания. Во всяком случае, так думал доктор Грантом из романа «Блистающий мир»: «Есть сфера – или должна быть – подобно тому, как должна была быть Америка, когда это стало ясно Колумбу, – в которой все отчетливые представления наши несомненно реальны. Этим я хочу сказать, что они получают существование в момент отчетливого усилия нашего. Поэтому я рассматриваю галлюцинацию как феномен строгой реальности, способной деформироваться и сгущаться вновь… Реальности, о которых говорю я, – реальности подлинные, вездесущи, как свет и вода Так, например, я, Грантом, ученый и врач, есть не совсем то, что думают обо мне; я – Хозиреней, человек, забывший о себе в некоторый момент, уже не подвластный памяти» [Там же, С.202].
С героями романов Грина происходят дивные метаморфозы. Каноны обыденности, не склонной к сентиментальным сюжетам, законы физики и воздухоплавания покоряются небывалой энергии мечты. Ассоль так самозабвенно и трепетно грезит о счастье, что находит его под алыми парусами: «Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала: – Совершенно такой. – И ты тоже, дитя мое! – вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. – Вот я пришел. Узнала ли ты меня? – Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком» [Там же, С.81]. Пассажирка фрегата «Адмирал Фосс» Фрези Грант сказала себе, что обязательно побывает на чудесном острове, повстречавшемся на пути из Бостона в Индию – и сделала это: «В это время, как на грех, молодой лейтенант вздумал ей сказать комплимент. „Вы так легки, – сказал он, – что при желании могли бы пробежать к острову на воде и вернуться обратно, не замочив ног“. Что же вы думаете? „Пусть будет по-вашему, сэр, – сказала она. Я уже дала себе слово быть там, или я сдержу его или умру“… С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. Никто, даже ее отец, не мог сказать слова, так все были поражены. Она обернулась и, улыбнувшись, сказала: „Это не так трудно, как я думала. Передайте моему жениху, что он меня более не увидит. Прощай и ты, милый отец! Прощай, моя родина!“. Пока это происходило, все стояли, как связанные. И вот, с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрези Грант побежала к тому острову» [Там же, С.349].
Беря с собой в полет Руну Бегуэм, стремящуюся с помощью его фантастического дара овладеть миром, Друд дал ей последний шанс отказаться от своей навязчивой идеи: «Смотри же, – сказал Друд, схватывая ее талию. Ее сердце упало, стены двинулись, все повернулось прочь, и, быстро скользнув мимо, отрезал залу массивный очерк окна. – Смотри! – повторил Друд, крепко прижимая оцепеневшую девушку. – От этого ты уходишь! – Они были среди пышных кустов – так показалось Руне, – на деле же – среди вершин сада, которые вдруг понеслись вниз. Светало; гнев, холод и удивление заставили ее упереться руками в грудь Друда. Она едва не вырвалась, с странным удовольствием ожидая близкой и быстрой смерти, но Друд удержал ее. – Дурочка! – сурово сказал он. Ты могла бы рассматривать землю, как чашечку цветка, но вместо того хочешь быть только упрямой гусеницей!» [Там же, С.149].
Но Грин – не оторванный от жизни идеалист. Знал он и печальные судьбы мифологического покорителя неба Икара, и жертв Минотавра в Кносском лабиринте на Крите. Земное притяжение наказывает слишком дерзких. Запутанные каменные ходы опутывают человека ужасом безвыходности. Именно о таком страхе каждого из нас потерять луч надежды, не вырваться из прочных оков земных реалий написал Хорхе Луис Борхес в книге «Лабиринт»: «Дверь не ищи. Спасения из плена // Не жди. Ты замурован в мирозданье. // И нет ни средоточия, ни грани, // Ни меры, ни предела той вселенной» [Борхес 2006, С.647] … Друд сделал все, чтобы преодолеть могучее притяжение родной планеты. Но, видимо, скептицизм прикованных к земной тверди обывателей, искрящаяся ненависть Руны Бегуеэм – все это привело к трагическому финалу: «Вы говорите, – тихо сказала Руна, уловив часть беглого разговора, – что этот человек – самоубийца? Что он бросился из окна? О нет! Вот он – враг мой. Земля сильнее его; он мертв, да; и я вновь буду жить, как жила» [Грин 2014, С.252].
Иррациональность бытия порой является живительным раствором для взращивания всякого рода произволов, как в идеях, так и в претворении их в действительность; особенно в период «великих перемен». Замахиваются в этом случае на глобальные явления, к примеру, на Время, и, в частности, на летоисчисление, устоявшийся календарь. Как пишет литературовед Лазарь Флейшман, «в канун Пасхи 1929 г. сотрудник московских Известий потребовал заменить семидневную неделю шестидневной – в качестве способа изъятия из обращения „воскресений“ и тотальной секуляризации действительности… По словам автора, предложенная им реформа – переход на шестидневную неделю – „ни в малой степени не ломает“ календарную систему, „оставляя те же месяцы и числа в году. Дело сводится лишь к отбрасыванию одного дня в теперешней неделе“. Поэтому проект был воспринят как недостаточно революционный» [Флейшман 2006, С.252]. Флейшман отмечает также, на указанное курьезное предложение ярого апологета атеизма откликнулся стихотворением «I РАЗРУШЕНИЕ» Даниил Хармс. Вот последняя строфа из него: «Так мы строим время счет // По закону наших тел. // Время заново течет для удобства наших дел. // Неделя – стала нами делима. // Неделя – дней значок пяти. // Неделя – великана дуля. // Неделя – в путь летит как пуля. // Ура, короткая неделя, // ты все утратила! // И теперь можно приступить к следующему разрушению. // Все. Начато 6 ноября – кончено 20/21 ноября 1929 года» [Хармс 1978, С.13, 14].
Попытки вольного обращения со Временем – случай, конечно, не единичный. За 88 лет до Хармса, в 1841 году Эдгар По опубликовал сатирический рассказ «Три воскресенья на одной неделе», в котором описывается удивительный по своей фантасмагоричности случай. Племянник Бобби просит у своего дядюшки с примечательной фамилией Скупердэй руки его дочери Кейт. Условие дяди было неожиданным: «Ты получишь мое согласие – а заодно и приданое, не будем забывать о приданом, – постой-ка, сейчас я тебе скажу когда. Сегодня у нас воскресенье? Ну так вот, ты сможешь сыграть свадьбу точно – точнехонько, сэр! – тогда, когда три воскресенья подряд придутся на одну неделю!.. Ни днем раньше, хоть умри. Ты меня знаешь: я человек слова! А теперь ступай прочь. – И он одним глотком осушил свой стакан портвейна, а я в отчаянье выбежал из комнаты» [По 2015, С.296, 297].
Самодур с туго набитым кошельком и лукавый игрок в календарный покер, казалось, одержит уверенную победу. Но в игру вмешались… каравеллы Магеллана, ну, правда, не они сами, а кругосветные путешествия его последователей. Выход из отчаянной ситуации подсказали знакомые невесты морские капитаны Пратт и Смизертон. Оба они были в плавании вокруг света целый год, однако, один отправился в западном направлении, а другой в восточном. В связи с этим, на обеде у дядюшки Скупердэя, куда приглашены оба морских волка, выясняется… и тут не стоит искать припаркованную рядом машину времени, невероятное: одно воскресенье расщепляется сразу на три: «Пратт. Прошу у вас обоих прощения, но невозможно, чтобы я так ошибался. Я точно знаю, что завтра воскресенье, так как я… Смизертон (с изумлением). Позвольте, что вы такое говорите? Разве не вчера было воскресенье? Все. Вчера? Да вы в своем ли уме! Дядя. Да говорю вам, воскресенье сегодня! Мне ли не знать? [Там же, С.301].
Близкую к абсурду ситуацию пытается объяснить один из капитанов, делая упор на вращение Земли вокруг своей оси: «То есть, сэр, скорость его вращения – тысяча миль в час. Теперь, предположим, что я переместился отсюда на тысячу миль к востоку. Понятно, что для меня восход солнца произойдет ровно на час раньше, чем здесь, в Лондоне. Я обгоню ваше время на один час. Продвинувшись в том же направлении еще на тысячу миль, я опережу ваш восход уже на два часа; еще на тысячу миль – на три часа, и так далее, покуда не возвращусь в эту же точку, проделав путь в двадцать четыре тысячи миль к востоку и тем самым опередив лондонский восход солнца ровно на двадцать четыре часа. Иначе говоря, я на целые сутки обгоню ваше время. Вы понимаете?» [Там же, С.302]. Аналогичными рассуждениями Смизертон объяснил суточный сдвиг у второго мореплавателя: «Капитан же Пратт, напротив, отплыв на тысячу миль к западу, оказался на час позади, а проделав весь путь в двадцать четыре тысячи миль к западу, на сутки отстал от лондонского времени. Вот почему для меня воскресенье было вчера. Для вас оно сегодня, а для Пратта наступит завтра» [Там же, С.303] … Сумасбродный охотник за временными парадоксами расставил хитроумный капкан, но сам же в него и попался: «Дядя. Ах ты черт, действительно… Ну, Кейт, ну, Бобби, это в самом деле, как видно, перст судьбы. Я – человек слова, это каждому известно. И потому ты можешь назвать ее своею (со всем, что за ней дается), когда пожелаешь. Обошли меня, клянусь душою! Три воскресенья подряд, а?» [Там же, С.303].
Скупердэй Эдгара По пытается по-дилетантски играть с действительностью, Морис Кончис в романе Джона Фаулза «Волхв» профессионально, подобно демиургу, ее изменяет. Из диалога Лилии (Жюли) и Николаса о «маге» Кончисе: «Вы ведь понимаете, что попали в руки человека, который виртуозно кроит реальность так и сяк. – Мы достигли статуи. – Что должно случиться вечером? – спросил я. – Не бойтесь. Это будет… не совсем спектакль. Или, наоборот, самая суть спектакля. – Помолчала секунду, повернулась ко мне лицом. – Вам надо идти» [Фаулз 1977, С.238]. В этом фрагменте, на наш взгляд, два слова стержневых слова: «спектакль» и «идти». Представленные искушенным «кукловодом» фантасмагорические сценки последовательно ведут самовлюбленного эгоиста Николаса Эрфе по пути постижения истин Кончиса.
Сценка первая (о священнике из деревушки Стентон-Леси, совратившем малолетку и убившего родившегося от этой связи ребенка): «Он стоял в тени, в позе рембрандтовской модели, поразительно правдоподобный и абсолютно неуместный – полный, важный, краснолицый мужчина. Роберт Фулкс… И тут из-за рожкового дерева выступил еще один персонаж. Бледная девочка лет четырнадцати в темно-коричневом платье до пят. На макушке тесная пурпурная шапочка. Длинные локоны. Встав рядом с ним, она тоже повернулась ко мне лицом» [Там же, С.152, 153]. Сценка вторая (из античных времен): «Из темного прогала, где кончалась лесная дорога к вилле, выбежал слабо светящейся силуэт. Луч фонаря метнулся к ней – ибо то была девушка, тоже нагая, за исключением античных сандалий, обнимающих икры шнуровкой… Волосы в классическом стиле убраны назад, тело и лицо, как и у Аполлона, неестественно белые. Она бежала так быстро, что я не мог рассмотреть ее черт. Подбегая, оглянулась – ее преследовали» [Там же, С.197].
Психологические опыты владельца виллы «Бурани» продолжаются. И Николас, сам того не желая, из комфортного партера перемещается на неуютную сцену, где лицедеи режиссера Кончиса пугающе правдоподобно вживаются в свои роли. Сценка третья (1943 год, греческое Сопротивления во времена фашистской оккупации): «Его перебил чей-то вскрик, чье-то восклицание. Хлесткая команда полковника: „Нихт шиссен!“. Пальцы конвоиров тисками впились мне в плечи. Первый партизан высвободился, метнулся вбок, в заросли. Двое сопровождающих ринулись следом, за ними – трое или четверо солдат из тех, кто стоял у обочины. Он не пробежал и десяти ярдов. Крик, немецкая речь… выворачивающий внутренний вопль боли, потом еще. Удары ботинок по ребрам, уханье прикладов» [Там же, С.417]. Сценка четвертая (суд над Николасом, подиум «ряженых»): «Оглядел зал; надо зафиксировать все до мелочей. Сплошь каббалические знаки. На правой стене черный крест – не христианский, со вздувшейся, словно перевернутая груша, верхушкой; на левой, вровень с крестом – пунцовая роза, единственное цветное пятно в черно-белом убранстве зала… И тут сердце мое ушло в пятки. Что за кошмарная образина! Стремительно и бесшумно в дальних дверях вырос Хёрни-зверобой. Божок неолита, дух таежного сумрака, племенного строя, черный и студеный, как прикосновенье железки… В арке двери возник второй персонаж, замер, позируя, как будут позировать, являясь моему взору, и последующие. На сей раз женщина. Одета как рядовая английская ведьма; широкополая шляпа с черной остроконечной тульей, седые лохмы, красный фартук, черный плащ, змеиная накладная улыбочка, крючковатый нос… Новый персонаж кошмара: человек с головой крокодила – экзотическая гривастая маска с далеко выдающимися челюстями и неуловимыми чертами негроидной расы; белозубый оскал, глаза навыкате» [Там же, С.555, 556].
Устали от образин? —терпение… еще шестеро (и это не всё!): «Следом явился мужичок поприземистей; болезненно распухшая голова, зверская ухмылка от уха до уха обнажает белоснежные бульники зубов. Глазницы провалившиеся, темные, будто могильные ямы. С макушки свисает пышный игуаний гребешок… Еще женщина, Почти наверняла Лилия. Загримирована под крылатую вампиршу, ушастая чернявая морда нетопыря, губу оттопыривают белые клыкищи, ниже пояса – черная юбка, черные чулки, черные туфли… Очередной посетитель был родом из Африки, плебейский страшила в домодельной кукольной хламиде из черной ветоши, ступенчато ниспадающей до самых пят. Та же ветошь сгодилась на маску, пришлось добавить лишь три белых хохолка-перышка да две тарелки вместо глаз… За ним вкатился суккуб с босховской харей… Следующий гость, разнообразия ради, тешил взор своей белизной: меланхолический скелетик-Пьеро, двойник изображенного на стене камеры. Маской ему служил череп… Настал черед еще более нетривиальной личины. Это была женщина, и я засомневался: а точно ли вампирша – Лилия? Спереди ее юбку покрыли каким-то закрепителем и кое-как придали материи форму рыбьего хвоста; выше хвост раздавался в беременное чрево; а чрево на уровне груди стыковалось с птичьей, задранной кверху, головой» [Там же, С.556, 557]. Ну, хватит с «ряжеными»…
Однако лавры Станиславского – явно не та цель, к которой стремится «волхв» Кончис. Планка повыше. Об ее уровне поведал неизвестный (неизвестный ли?) автор брошюры «Как достичь иных миров». Отрывок из нее (автор сочинения – о себе в третьем лице): «Его интересы чисто научны. Он подчеркивает, что не верит в „сверхъестественное“, в розенкрейцерство, герметизм и подобные лжеучения. Он утверждает, что более развитые цивилизации уже пытаются с нами связаться; и что само понятие возвышенного и благотворного образа мыслей, проявляющееся в нашем обществе через здравый смысл, взаимовыручку, художественное вдохновение, научную одаренность, на деле есть следствие полуосознанных телепатических сообщений из иных миров. Он уверен, что античная легенда о музах – не поэтический вымысел, но интуитивное описание объективной реальности, которую нам, людям нового времени, предстоит исследовать» [Там же, С.208].
Николас прочитал брошюру и отнесся к ней с определенным скепсисом, особенно в части телепатических контактов. Впрочем, скоро его оксфордовский багаж был пополнен, причем существенно. Началось с гипнотических пассов Кончиса: «Приказываю: смотрите на звезду, приказываю: расслабьте все тело. Необходимо, чтобы вы расслабили все тело. Чуть-чуть напрягитесь. И расслабьтесь. Напрягитесь… расслабьтесь. Смотрите на звезду. Звезда называется альфа Лиры» [Там же, С.258]. Усилия «мага» не пропали даром: «Хорошо помню, какое изумление вызвал во мне этот доселе не ведомый облик звезды: белый световой шарик, питающий пустоту вокруг себя и питаемый ею; помню чувство подсознательной общности, эквивалентности нашего бытия в темной разреженной среде. Я смотрел на звезду, звезда смотрела на меня… Ни красоты, ни нравственности, ни бога, ни строгих пропорций; лишь инстинктивное, животное чувство контакта» [Там же, С.259]. Затем – космический ветер (вернее, как ни парадоксально, – ветер в космосе): «Пустота завладела всем. Помню два слова: „мерцать“ и „проницать“; наверное, их произнес Кончис. Мерцающая, проницательная пустота; мрак и ожидание. Потом в лицо мне ударил ветер: острое, земное ощущение. Я хотел было омыться его теплом и свежестью, но вдруг меня охватил упоительный ужас, ибо дул он, вопреки естеству, со всех сторон одновременно» [Там же, С.259, 260].
От галактических пассатов – к свету: «Но вот субстанция ветра начала меняться. Ветер превратился в свет. То было не зрительное впечатление, а твердая, заведомая уверенность: ветер превратился в свет (возможно, Кончис сказал мне, что ветер – это свет), в неимоверно ласковый свет, словно душа, пережив затяжную сумрачную зиму, очутилась на самом припеке; восхитительно отрадное чувство, что ты нежишься в лучах, и притягиваешь их» [Там же, С.260]. И далее – ощущения, выпадающие из пространства вербальности: «То, что я чувствовал, невыразимо на языках, которые содержат лишь имена отдельных вещей и низменных ощущений. По-моему, я уже тогда понял, что все происходящее со мной сверхсловесно. Понятия висели на мне как вериги; я шел вдоль них, точно вдоль испещренных дырами стен. Сквозь дыры хлестала действительность, но выбраться в ее царство я не мог» [Там же, С.260] … Что произошло с Николасом Эрфе? – каждый читатель, наверное, волен трактовать это по-своему.
Глава 2. «Познание – лишь тень иных теней, // Но твой удел – охотиться за знаньем…» (преодоление непреодолимого)
2.1. «Алые паруса». Туннельный эффект
Начнем с небольшого эксперимента. Вы скажете: тут филологическое исследование, а предлагаемый подход больше приемлем для физики – и будете правы. Но не спешите с выводами. Впереди – несколько непривычный микс словесности и естественных наук…
Итак, эксперимент. Угадайте, откуда этот фрагмент: «Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины и женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чем был; жители перекликались со двора во двор, наскакивали друг на друга и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль» [Грин 2014, С.80]. На наш взгляд, задача несложная, тем более подсказкой – всем знакомое имя главной героини произведения. Конечно, это «Алые паруса» – вершина романтической прозы Александра Грина.
Вот только откуда среди повествования о чистой мечте эта строгая фраза – «с невинностью факта, опровергающего все законы бытия»? Но, если задуматься, она здесь вполне уместна. Прибытие в залив у деревушки Каперна трехмачтового галиота «Секрет» в двести шестьдесят тонн для исполнения девичьих грез – событие не только чрезвычайное, но и вполне невероятное, даже фантастическое. Настолько невероятное, что его можно сравнить, и это наша гипотеза, с туннельным эффектом в физике, когда альфа-частица, согласно теории физика-теоретика Георгия Гамова, только после 10 в тридцать третьей степени попыток сможет преодолеть потенциальный барьер, мешающий ей покинуть ядро. С точки зрения классической механики положение этой пленницы, как бы заточенной в глубокой яме, практически безнадежно. Но в квантовом/и в реальном/ мире все иначе: одна из ранее упомянутого феерического числа попыток выбраться из «заточения» приводит к успеху. Ключевая трудность, впрочем, состоит в том, что никогда нельзя заранее предсказать, какое именно усилие окажется успешным.
Грин в 1923 году, конечно, не знал и не мог ничего знать о «туннельном эффекте», но, как нам думается, прекрасно понимал, что все «фантасмагории» и «чудеса», происходящие в его романах и рассказах, невозможны без исполинских усилий главных героев по преодолению казалось бы непреодолимого барьера повседневной рутины к своей мечте. Капитан «Секрета» Артур Грэй знал цену этим многочисленным упорным попыткам: «…тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, т.е. человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную – роль провидения, намечался в Грэе еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображающую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, т.е. попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра» [Там же, С.30]. Будущий создатель «алого корабля» с детства проявлял сочувствие не только к библейским героям: «Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около ста фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл ее короткой запиской: «Бетси, это твое. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд» [Там же, С.35].
Юрий Дмитриевич Ладохин
Русское невероятное рядом. Порой отойди на десять шагов и уже не знаешь, что это – действительность или фантастический мир домовых и колдунов. Не верите? Тогда у вас есть возможность перечитать с нами лучшие страницы и попытаться разгадать магическую притягательность культовых фантасмагорических произведений: «Алые паруса» Александра Грина», «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Альтист Данилов» Владимира Орлова, «Между собакой и волком» Саши Соколова.
Русское невероятное. Фантасмагории от Александра Грина до Саши Соколова
Из цикла «Филология для эрудитов»
Юрий Дмитриевич Ладохин
Посвящается любимой жене Оленьке
© Юрий Дмитриевич Ладохин, 2016
ISBN 978-5-4483-5833-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Нет, наверное, такого любителя книги, кто не зачитывался бы удивительным романом Александра Грина о чудесном появлении в заливе у деревушки Каперна корабля «Секрет» с алыми парусами и романтической встрече трепетной Ассоль и мужественного капитана Грэя. Не найдется, видимо, и того, для кого строки Михаила Булгакова «в белом плаще с кровавым подбоем..» мгновенно не вызвали бы ассоциации с беседой Иешуа Га-Ноцри с Понтием Пилатом под безжалостным солнцем Ершалаима, эксцентричными выходками свиты Воланда в Москве, нежданной встречей в Тверском переулке мастера с Маргаритой, сжимающей в руке тревожные желтые цветы.
Думается, эрудированный читатель помнит и о настольной книге советской интеллигенции 80-х годов ХХ века «Альтист Данилов» Владимира Орлова, главный герой которой, демон на договоре, сочиняет новую музыку, используя двенадцатитоновую технику согласно латинской формуле: «Пахарь Арепо за своим плугом направляет работы». Любители повествований о русской глубинке, диковинных лесных и речных существах наверняка хранят в памяти строки из романа Саши Соколова «Между собакой и волком» о верховьях Итиль-реки: «Идут ведьмы на погост, // О своем судача. // Мерзни, мерзни, святый хвост, // Грейся, хвост чертячий. // И совсем уже синя // Слюдяная Волга, // Едет Пес на ней в санях, // Погоняя Волка».
Фантастические события и явления в этих книгах тесно переплетаются с русской реальной жизнью. Иногда даже не разобрать, где кончается одно и начинается другое. И такой сложносплетенный пеньковый канат небывальщины и почвенной славянской основы так и хочется назвать РУССКОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ. Попытаться разгадать секрет очарования этих фантасмагорических произведений, тайну их неизбывного магического воздействия на читателя – одна из стержневых задач представленной вашему вниманию книги.
А чтобы исследование не выглядело провинциальным, предлагаются также филологические размышления о произведениях двух признанных зарубежных мастеров мистерий и загадок: Эдгара По с его психологическими рассказами, где граница достоверного с легкостью смещается с сторону экстраординарного, и Джона Фаулза с романом-фантастагорией «Волхв», предлагающим ловко срежиссированный «магом» Кончисом карнавал мистификаций и психологических экспериментов.
Глава 1. «Дверь не ищи. Спасения из плена // Не жди. Ты замурован в мирозданье…» (ирреальный мир смещений и чудес)
Ключевая особенность произведения с элементами фантасмагории – погружение персонажей время от времени в ирреальный мир, где законы природы и общепринятые понятия здравого смысла действуют в весьма измененном виде, а привычные координаты времени и пространства причудливо смещены. Как известно, на Земле существуют 24 часовых пояса, ограниченные меридианами, которые проходят на 7,5 градусов восточнее и западнее среднего меридиана каждого пояса. Однако некоторые часовые пояса пропадают – время этих поясов не используется. Это характерно в основном для регионов, находящихся выше широты приблизительно 60 градусов, к примеру, Аляска, Гренландия, северные регионы России. Трудно судить о первых двух регионах, но для русского Севера наталкивающий на мысль о некой зоне ирреальности факт пропажи часовых поясов, как нам думается, не случаен. Пожалуй (пусть это будет гипотезой), догадку о существующем поясе мерцающей иллюзорности времени и пространства можно распространить и на российские широты значительно южнее Полярного круга.
Поищем союзников в обосновании этого дикого, на первый взгляд, предположения. Один из них – известный российский писатель Александр Кабаков: «Я глубоко убежден, что жизнь вообще, а в нашей стране в особенности, абсолютно иррациональна. Под внешним покрывалом быта прячется тайна, и невозможно ни вполне проникнуть в нее, ни убедить себя, что никакой тайны нет. Это смутное ощущение и рождает всякое искусство, а душу если и можно чем-то оживить, то именно приближением к этой тайне. Тут не божественное и не дьявольское в чистом виде – скорее, просто человеческое, но то человеческое, что нематериально» [Кабаков 2012, С.38]. Второй – житель острова дождей и туманов, слова которого приводит главный редактор «Colta.ru» Мария Степанова: «Диковатая, клочковатая архаизация, о которой говорят сейчас все и которую приходится наблюдать и описывать прямо по ходу того, как почта осыпается под ногами, имеет в России занятный фон. Сколько-то лет назад мне задали вопрос, на который интересно было бы ответить сегодня. Спрашивал англичанин, специалист по русской литературе, – и не мог понять, почему вся русская проза могла бы проходить по ведомству фантастики (shi-fi, fantasy, fairy tale). Вот ваш Пелевин, вот ваш Сорокин, вот ваша Петрушевская, говорил он, – в любой реалистический текст обязательно просунется какое-нибудь привидение, чудесное спасение, опричник с клешней, война мышей с обезьянами. Я ничего не имею против – но почему везде, почему у всех?» [см. Степанова 2015]. Попытки найти ответ на хитроумный вопрос привели к неожиданному, но и вполне ожидаемому выводу: «Мы наблюдаем странную ситуацию, где уклонение от реальности и есть самый сермяжный реализм – реализм первой полосы, аттракцион авторской смелости: в этом качестве он и воспринимается местным читателем, и только им (и не имеет никакой специальной притягательности для читателя внешнего – в отличие от латиноамериканского магического реализма с его пышными чудесами). То есть русское невероятное, оно же русское вероятное – это настолько внутренний продукт, что не такого сарафана, в который его можно было упаковать для внешнего мира, нет такого аршина, вдоль которого можно было этот перевертыш разместить» [Там же].
Ну, если речь пошла про «какое-нибудь привидение», то, чтобы наверняка – это к Саше Соколову, во временную расщелину «между собакой и волком». Будь то неведомый Зимарь-Человек: «Всюду сумерки, всюду вечер, везде Итиль. Но там, где Зимарь-Человек телегой скрипит – заосеняло с небес, у коллег в Городнище завьюжило, а на моей Волка-речке – иволга да желна. Поступаю, как старшая велит, и вступаю по колено в волну» [Соколов 2014, С.207]. Причем со сказочным повторением, как по Проппу: «Всюду сумерки, повсюду вечер, везде Итиль. Но там, где Зимарь-Человек на телеге супругу на карачун повез, лист сухой в самокрутку сворачивается на лету; под Городнищем, где речь про Егора, про Федора, – чистый декабрь; а на нашей на Волчьей – не верится даже – там иволга, там желна» [Там же, С.270]. Или Она, шествующая в апреле с запрокинутой головой вместе с кикиморами в черном: «Стоило шествию, впрочем, спуститься с насыпи, приблизиться к огородам, где сутулились пугала, ступить на убитую детскими играми и печатными курьими ножками дворовую твердь, как все, достигнутое балаболками в деле преодоления расстояний, оборачивалось фикцией чистейшей воды. Не помышляя вернуться, не отступив назад ни на шаг, шествие уже возвращено, сдвинуто, смещено на исходные рубежи, к горизонту, и, явно не замечая случившегося, продолжает однажды начатое – шествует, марширует, шагает, влача и толкая, понукая и поучая ту, чья голова запрокинута и увенчана столь несвежим, а издали – чрез очищающий кристалл пустоты – бантом поразительной свежести» [Там же, С.350].
Реестр диковинных персонажей романа продолжается зомби со столетним стажем, привидевшемся рыбакам во время подледного лова: «Кого это там еще Бог дает – // С лампою, на коньках… // Никак Аладдин Батруддинов идет, // Татарина шлет Аллах. // Ну ты и горбатый средь наших равнин, // Хирагра тебя еры, // На кой тебе лампа, чуж-чужанин, // В дремучие эти поры? // Якши, мормышка, поймал ерши? // Проваливай, конек-горбунок, // Ты есть наважденье, хвороба души, // Батрутдинов сто лет как йок» [Там же, С.190, 191]. Не менее причудлива судьба еще одного кандидата в зомби-взвод Заитильщины, несчастного оппонента богемских кристаллов: «Иван был стекольщик, // Хрусталь не любил, // Поэтому больше // Из горлышка пил. // Любил он толченым // Стеклом зажевать, // Но вдруг подавился – // Но вот не узнать. // Любовь – это счастье, // А счастье – стекло, // Стеклянному счастью // Разбиться легко» [Там же, С.409, 410]. Герои романа, жители дремучих заводей Верхневолжья, думается, интуитивно понимают, что местные «чудеса» как-то связаны с метафизическими завихрениями воды и времени: «Слава богу, навестил меня Крылобыл и, соболезнуя, надоумил. Илия, мудрит, Петрикеич, настаиваешь, время единовременно, что ли, повсеместно фукцирует? Я сказал: я не настаиваю… Смотри, Крылобыл, этот умняга, учит, давай с тобой не время возьмем, а воду обычную. А давай. И останови впечатление, тормошит, в заводи она практически не идет, ее ряска душит, трава, а на стрежне – стремглав; так и время фукцирует, объяснял, в Городнище шустрит, махом крыла стрижа, приблизительно, в Быдогоще – ни шатко ни валко, в лесах – совсем тишь да гладь» [Там же, С.372, 373]. Знание «водного параграфа» теории относительности приносит и практические плоды: «Потому и пойми уверенье, что кража, которой ты – жертва, случилась пока что лишь в нашем любимом городе и больше нигде, и на той стороне о ней и не слыхивали. Стоит, значит, тебе туда переехать – все ходом и образуется. Принял я это к сведению и заездил на будущем челноке в позапрошлое» [Там же, С.373].
Изданный в том же 1980 году, что и роман Саши Соколова, «Альтист Данилов» Владимира Орлова знакомит читателя со своими (назовем их «городские») фантомами времен НИИ, КБ и толстых журналов. Это и грозный начальник Канцелярии от Того Света, мимикрирующий на Земле под останкинского домового: «Валентин Сергеевич выпрямился, отлетел вдруг в центр залы, захохотал жутким концертным басом, перстом, словно платиновым, нацелился в худую грудь Данилова и прогремел ужасно, раскалывая пивные кружки, запертые в ночь в соседнем заведении на улице Королева: – Жди своего часа! – Он превратился в нечто дымное и огненное, с треском врезавшееся в стену, и исчез, опять оставив двадцать первый дом без присмотра. Домовые еще долго терли глаза, видимо, натура Валентина Сергеевича при переходе из одного физического состояния в другое испускала слезоточивый газ» [Орлов 2011, С.20].
Не уступающий начальнику Канцелярии по зловредности, однокашник главного героя романа Кармадон «как и любой иной демон, был, по школьным понятиям Данилова, лишь определенным духовным выражением материи и мог принять любую форму, какая бы соответствовала его желаниям и обстоятельствам. То есть выглядеть хотя бы птичьим пометом, и пуговицей от штанов, и бурундуком, или даже точкой, или траекторией или никак не выглядеть» [Там же, С.100]. Несмотря на необузданный норов, Кармадон не лишен был тяги к романтическим выходкам. Одна из таких – обрести в земной ипостаси облик громадного Синего быка, на которой держался остов империи Девяти Слоев: «Данилов ожидал почуять возле быка Мигуэля запахи потной скотины, но нет, пахло лишь железнодорожным буфетом станции Моршанск-II. Но самым неожиданным для Данилова было то, что бык Мигуэль спал. И спящий он был хорош, гладок, силен, размером куда больше бизона или зубра. Но до слона бык Мигуэль не дорос. Стало быть, присутствовало в Кармадоне чувство меры и объективности» [Там же, С.108].
Между тем, сам Данилов, полу-демон, полу-человек, вполне мог составить достойную конкуренцию Кармадону в пятиборье превращений. Подвести Данилова могла только отчаянная бесшабашность: «Крутою и гладкой дорогой, открытой теперь для движения, отрицательные заряды полетели вниз со скоростью в десятки тысяч километров в секунду, и Данилов вместе с ними понесся к земле на самом острие молнии, завывал, гремел от восторга. И с голубыми искрами ухнул, врезался в стальную иглу громоотвода Останкинского дворца… А однажды в безрассудстве упоения бурей, ради гибельных и сладких ощущений, нейтрализовался на миг и все же успел вернуться в свою сущность. Дважды он опять попадал в стальную иглу, а в третий раз, увлекшись, промазал и расщепил старый парковый дуб возле катальной горки. Тут и опомнился» [Там же, С.24]. Более осмотрительно Данилов проделывал «фокусы» со смещением временных координат: «Данилов же ни на секунду не мог исчезнуть из Москвы, вот в наблюдениях за Кармадоном он и вынужден был втискиваться в демоническое время. Данилов как бы в электричке, на ходу, разжимал закрытые двери и оказывался между ними, то есть на самом деле он разжимал людское время, был вне его, но и двигался вместе с ним, а потом отпускал двери времени, они сжимались опять. И Данилов возвращался в то же самое мгновение, из которого по необходимости вышел» [Там же, С.132].
Несмотря на демонические возможности, манипуляции со временем не проходили для Данилова бесследно: «Выходило, что он ни на минуту не исчезал из Москвы, но пока в его московской жизни, как будто бы главной реальности Данилова, была ощутимая щель, вызванная пребыванием в Девяти Слоях. И она, эта щель, еще не представлялась Данилову иллюзией. Края ее не смыкались. Увидев Альбани, он тут же вспомнил о похитителях инструмента» [Там же, С.424, 425]. Выручали стойкость и натренированное умение владеть собой: «Так или иначе, обнаружив Альбани, Данилов и в руки его не стал брать сразу, а, походив возле открытого футляра и одевшись, не спеша, как бы нехотя, поднял инструмент и положил его на стол… А он лишь проверил звук (его ли это инструмент, не подделка ли от умельцев Валентина Сергеевича) и, убедившись, что Альбани подлинный (тут его обмануть не могли), сыграл легкую мазурку Шумана. И, укрыв альт кашмирским платком, закрыл футляр. Но чего это ему стоило!» [Там же, С.425] … У Эмиля Кио, родоначальника знаменитой династии иллюзионистов, был известный фокус «Превращение женщины во льва». Для Данилова больше подошел бы номер «Превращение любимой женщины в чудесную фею на гречишном лугу»: «Потом они стояли на лестнице у Наташиной квартиры и долго не могли отпустить друг друга. Время стекало в глиняный кувшин и застывало в нем гречишным медом. Наконец Наташа отстранилась от Данилова, взглянула на него серыми прекрасными своими глазами пристально и серьезно, выскользнула из его рук, легким английским ключом отворила дверь и тут же ее за собой захлопнула» [Там же, С.58, 59].
В 30-е годы прошлого столетия «какое-нибудь привидение», посетившее Москву, могло выглядеть импозантно и без всяких внешних признаков упыря или лешего: «Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый – почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец» [Булгаков 2015, С.77]. Сопровождающие гостя столицы смотрелись, правда, несколько эксцентрично, но никак не угадывались как представители мира «иных». В первом смущали нелепый головной убор, выражение лица и какая-то особая летучесть: «И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок… Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая» [Там же, С.74]. В другом «существе» резали глаз габариты и походка, несвойственная домашним питомцам: «Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного. Тот был уже у выхода в Патриарший переулок, и притом не один. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все: третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянным кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, причем кот тронулся на задних лапах» [Там же, С.118]. В третьем озадачивали особенности строения зубов и непредвиденная деталь гардероба: «Какая голова? – спросила Маргарита, вглядываясь в неожиданного соседа. Сосед этот оказался маленького роста, пламенно рыжий, с клыком, в крахмальном белье, в лакированных туфлях и с котелком на голове. Галстух был яркий. Удивительно было то, что из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или самопишущее перо, у того гражданина торчала обглоданная куриная кость» [Там же, С.299] … Имена гостя златоглавой, его подручных и название романа проницательный читатель, конечно, угадал.
Визитеры сбивали с толку не только внешним видом и раскованными, еще мягко говоря, манерами; самое загадочное – их фамильярное взаимоотношения с физическим явлением, порожденным, как утверждают предания, древнегреческим божеством Хроносом. Во-первых, принципиальная позиция – не ставить дат на документах: «Не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гелла уже сидела за машинкой, а кот диктовал ей: – Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства… поставь, Гелла, скобку! В скобке напиши „боров“. Подпись – Бегемот. – А число? – пискнул Николай Иванович. – Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, – отозвался кот, подмахнув бумагу, откуда-то добыл печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово „уплочено“ и вручил бумагу Николаю Ивановичу» [Там же, С.370].
Во-первых, всемогущий Воланд легко преодолевал временные промежутки величиной почти в две тысячи лет: «Дело в том… – тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, – что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас – никому ни слова и полнейший секрет!.. Тсс! – Наступило молчание, и Берлиоз побледнел» [Там же, С.112].
Воланд и его свита уверенно владеют и искусством сотворения иногда озорных, иногда небезобидных метаморфоз. Возьмем хулиганскую выходку превращения заведующего Комиссией зрелищ и увеселений облегченного типа в человека-невидимку: «За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстухе, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, что царила кругом. Услышав, что кто-то вошел, костюм откинулся в кресле, и над воротником прозвучал хорошо знакомый бухгалтеру голос Прохора Петровича: – В чем дело? Ведь на дверях же написано, что я не принимаю» [Там же, С.263]. Другая проделка уже не походила на шутливую проказу, а вполне могла заинтересовать правоохранительные органы: «Сдачи, что ли нету? – робко спросил бухгалтер. – Полный карман сдачи! – заорал шофер и в зеркальце отразились его наливающиеся кровью глаза. – Третий случай со мной сегодня. Да и с другими то же было. Дает какой-то сукин сын червонец, я ему сдачи – четыре пятьдесят… Вылез, сволочь! Минут через пять смотрю: вместо червонца бумажка с нарзанной бутылки! – Тут шофер произнес несколько непечатный слов. – Другой – за Зубовской. Червонец. Даю сдачи три рубля. Ушел! Я полез в кошелек, а оттуда пчела – тяп за палец! Ах ты!.. – шофер опять вклеил непечатные слова. – А червонца нету» [Там же, С.262].
Но, надо отдать должное – иногда «номера» приезжих иллюзионистов служили благому делу: «О чем роман? – Роман о Понтии Пилате. – Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей, задребезжала посуда на столе, Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал и смехом этим не удивил. Бегемот почему-то зааплодировал. – О чем, о чем? О ком? – заговорил Воланд, перестав смеяться. – Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть, – Воланд протянул руку ладонью кверху. – Я, к сожалению, не могу этого сделать, – ответил мастер, – потому что я сжег его в печке. – Простите, не поверю, ответил Воланд, – этого быть не может. Рукописи не горят. – Он повернулся к Бегемоту и сказал. – Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман. – Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей» [Там же, С.365].
В «Гринландии» места действия произведений звучат не по-русски: Лисс, Зурбаган, Гель-Гью, Сан-Риоль и другие, но диковинные явления сплошь и рядом имеют приметы отечественных пространств и нравов. Только вместо упомянутой выше «войны мышей с обезьянами» —танцевальный па сусликов: «Ассоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву; держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению. Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки – позы, усилия, движения, черты и взгляды; ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, еж, серея, выкатился перед ней на тропинку. – „Фук-фук“, – отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода» [Грин 2014, С.60]. Взамен «опричника с клешней» – говорящая рыба, парящая над водой: «Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т.п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность – в образы своей фантазии. Тут появлялись и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказания которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем…» [Там же, С.20].
Таков Грин: фантазии художника-оптимиста наперекор ставшими почти обыденными в русской действительности вурдалакам и прочей нежити. Фантомы в произведениях автора «Алых парусов» нередко порождены галлюцинациями, которые он, нам кажется, мог считать явлением, заслуживающим пристального внимания. Во всяком случае, так думал доктор Грантом из романа «Блистающий мир»: «Есть сфера – или должна быть – подобно тому, как должна была быть Америка, когда это стало ясно Колумбу, – в которой все отчетливые представления наши несомненно реальны. Этим я хочу сказать, что они получают существование в момент отчетливого усилия нашего. Поэтому я рассматриваю галлюцинацию как феномен строгой реальности, способной деформироваться и сгущаться вновь… Реальности, о которых говорю я, – реальности подлинные, вездесущи, как свет и вода Так, например, я, Грантом, ученый и врач, есть не совсем то, что думают обо мне; я – Хозиреней, человек, забывший о себе в некоторый момент, уже не подвластный памяти» [Там же, С.202].
С героями романов Грина происходят дивные метаморфозы. Каноны обыденности, не склонной к сентиментальным сюжетам, законы физики и воздухоплавания покоряются небывалой энергии мечты. Ассоль так самозабвенно и трепетно грезит о счастье, что находит его под алыми парусами: «Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала: – Совершенно такой. – И ты тоже, дитя мое! – вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. – Вот я пришел. Узнала ли ты меня? – Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком» [Там же, С.81]. Пассажирка фрегата «Адмирал Фосс» Фрези Грант сказала себе, что обязательно побывает на чудесном острове, повстречавшемся на пути из Бостона в Индию – и сделала это: «В это время, как на грех, молодой лейтенант вздумал ей сказать комплимент. „Вы так легки, – сказал он, – что при желании могли бы пробежать к острову на воде и вернуться обратно, не замочив ног“. Что же вы думаете? „Пусть будет по-вашему, сэр, – сказала она. Я уже дала себе слово быть там, или я сдержу его или умру“… С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. Никто, даже ее отец, не мог сказать слова, так все были поражены. Она обернулась и, улыбнувшись, сказала: „Это не так трудно, как я думала. Передайте моему жениху, что он меня более не увидит. Прощай и ты, милый отец! Прощай, моя родина!“. Пока это происходило, все стояли, как связанные. И вот, с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрези Грант побежала к тому острову» [Там же, С.349].
Беря с собой в полет Руну Бегуэм, стремящуюся с помощью его фантастического дара овладеть миром, Друд дал ей последний шанс отказаться от своей навязчивой идеи: «Смотри же, – сказал Друд, схватывая ее талию. Ее сердце упало, стены двинулись, все повернулось прочь, и, быстро скользнув мимо, отрезал залу массивный очерк окна. – Смотри! – повторил Друд, крепко прижимая оцепеневшую девушку. – От этого ты уходишь! – Они были среди пышных кустов – так показалось Руне, – на деле же – среди вершин сада, которые вдруг понеслись вниз. Светало; гнев, холод и удивление заставили ее упереться руками в грудь Друда. Она едва не вырвалась, с странным удовольствием ожидая близкой и быстрой смерти, но Друд удержал ее. – Дурочка! – сурово сказал он. Ты могла бы рассматривать землю, как чашечку цветка, но вместо того хочешь быть только упрямой гусеницей!» [Там же, С.149].
Но Грин – не оторванный от жизни идеалист. Знал он и печальные судьбы мифологического покорителя неба Икара, и жертв Минотавра в Кносском лабиринте на Крите. Земное притяжение наказывает слишком дерзких. Запутанные каменные ходы опутывают человека ужасом безвыходности. Именно о таком страхе каждого из нас потерять луч надежды, не вырваться из прочных оков земных реалий написал Хорхе Луис Борхес в книге «Лабиринт»: «Дверь не ищи. Спасения из плена // Не жди. Ты замурован в мирозданье. // И нет ни средоточия, ни грани, // Ни меры, ни предела той вселенной» [Борхес 2006, С.647] … Друд сделал все, чтобы преодолеть могучее притяжение родной планеты. Но, видимо, скептицизм прикованных к земной тверди обывателей, искрящаяся ненависть Руны Бегуеэм – все это привело к трагическому финалу: «Вы говорите, – тихо сказала Руна, уловив часть беглого разговора, – что этот человек – самоубийца? Что он бросился из окна? О нет! Вот он – враг мой. Земля сильнее его; он мертв, да; и я вновь буду жить, как жила» [Грин 2014, С.252].
Иррациональность бытия порой является живительным раствором для взращивания всякого рода произволов, как в идеях, так и в претворении их в действительность; особенно в период «великих перемен». Замахиваются в этом случае на глобальные явления, к примеру, на Время, и, в частности, на летоисчисление, устоявшийся календарь. Как пишет литературовед Лазарь Флейшман, «в канун Пасхи 1929 г. сотрудник московских Известий потребовал заменить семидневную неделю шестидневной – в качестве способа изъятия из обращения „воскресений“ и тотальной секуляризации действительности… По словам автора, предложенная им реформа – переход на шестидневную неделю – „ни в малой степени не ломает“ календарную систему, „оставляя те же месяцы и числа в году. Дело сводится лишь к отбрасыванию одного дня в теперешней неделе“. Поэтому проект был воспринят как недостаточно революционный» [Флейшман 2006, С.252]. Флейшман отмечает также, на указанное курьезное предложение ярого апологета атеизма откликнулся стихотворением «I РАЗРУШЕНИЕ» Даниил Хармс. Вот последняя строфа из него: «Так мы строим время счет // По закону наших тел. // Время заново течет для удобства наших дел. // Неделя – стала нами делима. // Неделя – дней значок пяти. // Неделя – великана дуля. // Неделя – в путь летит как пуля. // Ура, короткая неделя, // ты все утратила! // И теперь можно приступить к следующему разрушению. // Все. Начато 6 ноября – кончено 20/21 ноября 1929 года» [Хармс 1978, С.13, 14].
Попытки вольного обращения со Временем – случай, конечно, не единичный. За 88 лет до Хармса, в 1841 году Эдгар По опубликовал сатирический рассказ «Три воскресенья на одной неделе», в котором описывается удивительный по своей фантасмагоричности случай. Племянник Бобби просит у своего дядюшки с примечательной фамилией Скупердэй руки его дочери Кейт. Условие дяди было неожиданным: «Ты получишь мое согласие – а заодно и приданое, не будем забывать о приданом, – постой-ка, сейчас я тебе скажу когда. Сегодня у нас воскресенье? Ну так вот, ты сможешь сыграть свадьбу точно – точнехонько, сэр! – тогда, когда три воскресенья подряд придутся на одну неделю!.. Ни днем раньше, хоть умри. Ты меня знаешь: я человек слова! А теперь ступай прочь. – И он одним глотком осушил свой стакан портвейна, а я в отчаянье выбежал из комнаты» [По 2015, С.296, 297].
Самодур с туго набитым кошельком и лукавый игрок в календарный покер, казалось, одержит уверенную победу. Но в игру вмешались… каравеллы Магеллана, ну, правда, не они сами, а кругосветные путешествия его последователей. Выход из отчаянной ситуации подсказали знакомые невесты морские капитаны Пратт и Смизертон. Оба они были в плавании вокруг света целый год, однако, один отправился в западном направлении, а другой в восточном. В связи с этим, на обеде у дядюшки Скупердэя, куда приглашены оба морских волка, выясняется… и тут не стоит искать припаркованную рядом машину времени, невероятное: одно воскресенье расщепляется сразу на три: «Пратт. Прошу у вас обоих прощения, но невозможно, чтобы я так ошибался. Я точно знаю, что завтра воскресенье, так как я… Смизертон (с изумлением). Позвольте, что вы такое говорите? Разве не вчера было воскресенье? Все. Вчера? Да вы в своем ли уме! Дядя. Да говорю вам, воскресенье сегодня! Мне ли не знать? [Там же, С.301].
Близкую к абсурду ситуацию пытается объяснить один из капитанов, делая упор на вращение Земли вокруг своей оси: «То есть, сэр, скорость его вращения – тысяча миль в час. Теперь, предположим, что я переместился отсюда на тысячу миль к востоку. Понятно, что для меня восход солнца произойдет ровно на час раньше, чем здесь, в Лондоне. Я обгоню ваше время на один час. Продвинувшись в том же направлении еще на тысячу миль, я опережу ваш восход уже на два часа; еще на тысячу миль – на три часа, и так далее, покуда не возвращусь в эту же точку, проделав путь в двадцать четыре тысячи миль к востоку и тем самым опередив лондонский восход солнца ровно на двадцать четыре часа. Иначе говоря, я на целые сутки обгоню ваше время. Вы понимаете?» [Там же, С.302]. Аналогичными рассуждениями Смизертон объяснил суточный сдвиг у второго мореплавателя: «Капитан же Пратт, напротив, отплыв на тысячу миль к западу, оказался на час позади, а проделав весь путь в двадцать четыре тысячи миль к западу, на сутки отстал от лондонского времени. Вот почему для меня воскресенье было вчера. Для вас оно сегодня, а для Пратта наступит завтра» [Там же, С.303] … Сумасбродный охотник за временными парадоксами расставил хитроумный капкан, но сам же в него и попался: «Дядя. Ах ты черт, действительно… Ну, Кейт, ну, Бобби, это в самом деле, как видно, перст судьбы. Я – человек слова, это каждому известно. И потому ты можешь назвать ее своею (со всем, что за ней дается), когда пожелаешь. Обошли меня, клянусь душою! Три воскресенья подряд, а?» [Там же, С.303].
Скупердэй Эдгара По пытается по-дилетантски играть с действительностью, Морис Кончис в романе Джона Фаулза «Волхв» профессионально, подобно демиургу, ее изменяет. Из диалога Лилии (Жюли) и Николаса о «маге» Кончисе: «Вы ведь понимаете, что попали в руки человека, который виртуозно кроит реальность так и сяк. – Мы достигли статуи. – Что должно случиться вечером? – спросил я. – Не бойтесь. Это будет… не совсем спектакль. Или, наоборот, самая суть спектакля. – Помолчала секунду, повернулась ко мне лицом. – Вам надо идти» [Фаулз 1977, С.238]. В этом фрагменте, на наш взгляд, два слова стержневых слова: «спектакль» и «идти». Представленные искушенным «кукловодом» фантасмагорические сценки последовательно ведут самовлюбленного эгоиста Николаса Эрфе по пути постижения истин Кончиса.
Сценка первая (о священнике из деревушки Стентон-Леси, совратившем малолетку и убившего родившегося от этой связи ребенка): «Он стоял в тени, в позе рембрандтовской модели, поразительно правдоподобный и абсолютно неуместный – полный, важный, краснолицый мужчина. Роберт Фулкс… И тут из-за рожкового дерева выступил еще один персонаж. Бледная девочка лет четырнадцати в темно-коричневом платье до пят. На макушке тесная пурпурная шапочка. Длинные локоны. Встав рядом с ним, она тоже повернулась ко мне лицом» [Там же, С.152, 153]. Сценка вторая (из античных времен): «Из темного прогала, где кончалась лесная дорога к вилле, выбежал слабо светящейся силуэт. Луч фонаря метнулся к ней – ибо то была девушка, тоже нагая, за исключением античных сандалий, обнимающих икры шнуровкой… Волосы в классическом стиле убраны назад, тело и лицо, как и у Аполлона, неестественно белые. Она бежала так быстро, что я не мог рассмотреть ее черт. Подбегая, оглянулась – ее преследовали» [Там же, С.197].
Психологические опыты владельца виллы «Бурани» продолжаются. И Николас, сам того не желая, из комфортного партера перемещается на неуютную сцену, где лицедеи режиссера Кончиса пугающе правдоподобно вживаются в свои роли. Сценка третья (1943 год, греческое Сопротивления во времена фашистской оккупации): «Его перебил чей-то вскрик, чье-то восклицание. Хлесткая команда полковника: „Нихт шиссен!“. Пальцы конвоиров тисками впились мне в плечи. Первый партизан высвободился, метнулся вбок, в заросли. Двое сопровождающих ринулись следом, за ними – трое или четверо солдат из тех, кто стоял у обочины. Он не пробежал и десяти ярдов. Крик, немецкая речь… выворачивающий внутренний вопль боли, потом еще. Удары ботинок по ребрам, уханье прикладов» [Там же, С.417]. Сценка четвертая (суд над Николасом, подиум «ряженых»): «Оглядел зал; надо зафиксировать все до мелочей. Сплошь каббалические знаки. На правой стене черный крест – не христианский, со вздувшейся, словно перевернутая груша, верхушкой; на левой, вровень с крестом – пунцовая роза, единственное цветное пятно в черно-белом убранстве зала… И тут сердце мое ушло в пятки. Что за кошмарная образина! Стремительно и бесшумно в дальних дверях вырос Хёрни-зверобой. Божок неолита, дух таежного сумрака, племенного строя, черный и студеный, как прикосновенье железки… В арке двери возник второй персонаж, замер, позируя, как будут позировать, являясь моему взору, и последующие. На сей раз женщина. Одета как рядовая английская ведьма; широкополая шляпа с черной остроконечной тульей, седые лохмы, красный фартук, черный плащ, змеиная накладная улыбочка, крючковатый нос… Новый персонаж кошмара: человек с головой крокодила – экзотическая гривастая маска с далеко выдающимися челюстями и неуловимыми чертами негроидной расы; белозубый оскал, глаза навыкате» [Там же, С.555, 556].
Устали от образин? —терпение… еще шестеро (и это не всё!): «Следом явился мужичок поприземистей; болезненно распухшая голова, зверская ухмылка от уха до уха обнажает белоснежные бульники зубов. Глазницы провалившиеся, темные, будто могильные ямы. С макушки свисает пышный игуаний гребешок… Еще женщина, Почти наверняла Лилия. Загримирована под крылатую вампиршу, ушастая чернявая морда нетопыря, губу оттопыривают белые клыкищи, ниже пояса – черная юбка, черные чулки, черные туфли… Очередной посетитель был родом из Африки, плебейский страшила в домодельной кукольной хламиде из черной ветоши, ступенчато ниспадающей до самых пят. Та же ветошь сгодилась на маску, пришлось добавить лишь три белых хохолка-перышка да две тарелки вместо глаз… За ним вкатился суккуб с босховской харей… Следующий гость, разнообразия ради, тешил взор своей белизной: меланхолический скелетик-Пьеро, двойник изображенного на стене камеры. Маской ему служил череп… Настал черед еще более нетривиальной личины. Это была женщина, и я засомневался: а точно ли вампирша – Лилия? Спереди ее юбку покрыли каким-то закрепителем и кое-как придали материи форму рыбьего хвоста; выше хвост раздавался в беременное чрево; а чрево на уровне груди стыковалось с птичьей, задранной кверху, головой» [Там же, С.556, 557]. Ну, хватит с «ряжеными»…
Однако лавры Станиславского – явно не та цель, к которой стремится «волхв» Кончис. Планка повыше. Об ее уровне поведал неизвестный (неизвестный ли?) автор брошюры «Как достичь иных миров». Отрывок из нее (автор сочинения – о себе в третьем лице): «Его интересы чисто научны. Он подчеркивает, что не верит в „сверхъестественное“, в розенкрейцерство, герметизм и подобные лжеучения. Он утверждает, что более развитые цивилизации уже пытаются с нами связаться; и что само понятие возвышенного и благотворного образа мыслей, проявляющееся в нашем обществе через здравый смысл, взаимовыручку, художественное вдохновение, научную одаренность, на деле есть следствие полуосознанных телепатических сообщений из иных миров. Он уверен, что античная легенда о музах – не поэтический вымысел, но интуитивное описание объективной реальности, которую нам, людям нового времени, предстоит исследовать» [Там же, С.208].
Николас прочитал брошюру и отнесся к ней с определенным скепсисом, особенно в части телепатических контактов. Впрочем, скоро его оксфордовский багаж был пополнен, причем существенно. Началось с гипнотических пассов Кончиса: «Приказываю: смотрите на звезду, приказываю: расслабьте все тело. Необходимо, чтобы вы расслабили все тело. Чуть-чуть напрягитесь. И расслабьтесь. Напрягитесь… расслабьтесь. Смотрите на звезду. Звезда называется альфа Лиры» [Там же, С.258]. Усилия «мага» не пропали даром: «Хорошо помню, какое изумление вызвал во мне этот доселе не ведомый облик звезды: белый световой шарик, питающий пустоту вокруг себя и питаемый ею; помню чувство подсознательной общности, эквивалентности нашего бытия в темной разреженной среде. Я смотрел на звезду, звезда смотрела на меня… Ни красоты, ни нравственности, ни бога, ни строгих пропорций; лишь инстинктивное, животное чувство контакта» [Там же, С.259]. Затем – космический ветер (вернее, как ни парадоксально, – ветер в космосе): «Пустота завладела всем. Помню два слова: „мерцать“ и „проницать“; наверное, их произнес Кончис. Мерцающая, проницательная пустота; мрак и ожидание. Потом в лицо мне ударил ветер: острое, земное ощущение. Я хотел было омыться его теплом и свежестью, но вдруг меня охватил упоительный ужас, ибо дул он, вопреки естеству, со всех сторон одновременно» [Там же, С.259, 260].
От галактических пассатов – к свету: «Но вот субстанция ветра начала меняться. Ветер превратился в свет. То было не зрительное впечатление, а твердая, заведомая уверенность: ветер превратился в свет (возможно, Кончис сказал мне, что ветер – это свет), в неимоверно ласковый свет, словно душа, пережив затяжную сумрачную зиму, очутилась на самом припеке; восхитительно отрадное чувство, что ты нежишься в лучах, и притягиваешь их» [Там же, С.260]. И далее – ощущения, выпадающие из пространства вербальности: «То, что я чувствовал, невыразимо на языках, которые содержат лишь имена отдельных вещей и низменных ощущений. По-моему, я уже тогда понял, что все происходящее со мной сверхсловесно. Понятия висели на мне как вериги; я шел вдоль них, точно вдоль испещренных дырами стен. Сквозь дыры хлестала действительность, но выбраться в ее царство я не мог» [Там же, С.260] … Что произошло с Николасом Эрфе? – каждый читатель, наверное, волен трактовать это по-своему.
Глава 2. «Познание – лишь тень иных теней, // Но твой удел – охотиться за знаньем…» (преодоление непреодолимого)
2.1. «Алые паруса». Туннельный эффект
Начнем с небольшого эксперимента. Вы скажете: тут филологическое исследование, а предлагаемый подход больше приемлем для физики – и будете правы. Но не спешите с выводами. Впереди – несколько непривычный микс словесности и естественных наук…
Итак, эксперимент. Угадайте, откуда этот фрагмент: «Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины и женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чем был; жители перекликались со двора во двор, наскакивали друг на друга и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль» [Грин 2014, С.80]. На наш взгляд, задача несложная, тем более подсказкой – всем знакомое имя главной героини произведения. Конечно, это «Алые паруса» – вершина романтической прозы Александра Грина.
Вот только откуда среди повествования о чистой мечте эта строгая фраза – «с невинностью факта, опровергающего все законы бытия»? Но, если задуматься, она здесь вполне уместна. Прибытие в залив у деревушки Каперна трехмачтового галиота «Секрет» в двести шестьдесят тонн для исполнения девичьих грез – событие не только чрезвычайное, но и вполне невероятное, даже фантастическое. Настолько невероятное, что его можно сравнить, и это наша гипотеза, с туннельным эффектом в физике, когда альфа-частица, согласно теории физика-теоретика Георгия Гамова, только после 10 в тридцать третьей степени попыток сможет преодолеть потенциальный барьер, мешающий ей покинуть ядро. С точки зрения классической механики положение этой пленницы, как бы заточенной в глубокой яме, практически безнадежно. Но в квантовом/и в реальном/ мире все иначе: одна из ранее упомянутого феерического числа попыток выбраться из «заточения» приводит к успеху. Ключевая трудность, впрочем, состоит в том, что никогда нельзя заранее предсказать, какое именно усилие окажется успешным.
Грин в 1923 году, конечно, не знал и не мог ничего знать о «туннельном эффекте», но, как нам думается, прекрасно понимал, что все «фантасмагории» и «чудеса», происходящие в его романах и рассказах, невозможны без исполинских усилий главных героев по преодолению казалось бы непреодолимого барьера повседневной рутины к своей мечте. Капитан «Секрета» Артур Грэй знал цену этим многочисленным упорным попыткам: «…тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, т.е. человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную – роль провидения, намечался в Грэе еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображающую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, т.е. попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра» [Там же, С.30]. Будущий создатель «алого корабля» с детства проявлял сочувствие не только к библейским героям: «Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около ста фунтов. Встав рано, когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл ее короткой запиской: «Бетси, это твое. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд» [Там же, С.35].