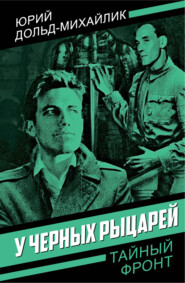По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Гроза на Шпрее
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не ожидая ответа, молодой присел на корточки у буфета, открыл дверцы и стал шарить рукой по полкам. Его устремленный в одну точку взгляд не видел предметов, которых касались пальцы, и он вздрогнул словно от укуса, прикоснувшись к чему-то металлическому. Синий, с никелированной крышкой кофейник глядел на него глазенками белых незатейливых цветочков, настойчиво о чем-то напоминая.
Да, кофе… Им обоим надо согреться… А потом лечь, как можно скорее лечь…
Выпрямившись, он направился к двери. Из кухни донесся звон, потом журчание тугой струи воды. Теперь только этот единственный звук нарушал мертвую тишину дома, и седой человек в кресле еще крепче вцепился в его подлокотники. Ему показалось, что звук этот нарастает, словно шум большой реки, которая мчится вдоль берегов, в неудержимом и вечном движении.
– Тебе плохо? – спросил молодой, вернувшись в комнату. – Приляг хоть здесь, на тахту, укройся пледом. Сейчас я принесу кофе.
– Нет, нет, потом… Лучше дай покурить. У тебя что-нибудь осталось?
– Вот. – Из протянутой мятой пачки посыпались крошки табака, сломанные сигареты.
Оба с сожалением глядели на измятую пачку, будто нарочно цеплялись за нее взглядом, чтобы отогнать другое видение, от которого все время старались избавиться.
– Поищи в… спальне… в тумбочке… – наконец произнес старик, запинаясь после каждого слова.
Молодой прикусил губу, которая жалобно, по-детски задрожала, но послушно пошел в спальню.
На этот раз он долго не возвращался, казалось, совсем ушел из дому. Лицо седого болезненно исказилось, и он всем корпусом подался вперед.
Шаги, которые он услышал, не изменили его застывшей позы. Они были слишком быстрыми, чтобы сразу уложиться в сознании, опередить появление молодого на пороге.
Впрочем, не это внезапное появление, а выражение до мельчайших подробностей знакомого лица подействовало на старика, как электрический ток.
– Прости! Я не должен был посылать тебя туда, – сказал он быстро. – В конце концов можно было…
– Все равно придется через это пройти. Сегодня или завтра. Бери, закуривай!
Кончики двух сигарет одновременно покраснели, и по комнате поплыли две ниточки голубоватого дыма, пересекая одна другую, они сливались в длинную прядь и таяли возле раскрытой форточки. Старший глубоко затягивался, как человек, испытывающий жажду, припав к стакану воды, выпивает его, не отрывая губ, глоток за глотком. Молодой затянулся два-три раза и прикусил край сигареты. Она теперь тихонько тлела, обрастая на конце столбиком пепла. Заметив это, юноша бросил сигарету в пепельницу и быстро поднялся.
– Вот, – сказал он, вынимая из кармана какой-то пакет.
Большой конверт, выпуклый с обеих сторон, упал на стол заклеенной стороной кверху.
– Что это?
– Был в тумбочке на сигаретах.
Толстый конверт все еще лежал на столе. Две пары глаз устремились к нему, словно стараясь сквозь толщу бумаги прочесть то, что находилось в середине.
– Ну, что же, открывай, – хрипло произнес старший.
Осторожно, будто делая сложную операцию, молодой булавкой, вынутой из отворота пиджака, надорвал конверт.
– Тут только…
Оранжевый круг выскользнул на скатерть, кончик туго свернутой ленты отскочил в сторону и теперь пружинисто вздрагивал на краю стола.
– Не понимаю… Лента? Почему лента?
Воцарилось молчание.
– Может..?
– Да.
Побледнев, они поглядели друг другу в глаза, взглядом договариваясь не высказывать догадку вслух.
Бобины магнитофона плавно закружились, и между ними побежала узенькая оранжевая ленточка. Двое мужчин не отрывали от нее взгляда, словно надеясь на зримое появление кого-то третьего. Но ленточка бежала, равнодушно-безмолвная, похожая на вспышку пламени в своем непрерывном мерцании.
– Ты не ошибся? Звук включен?
И как бы в подтверждение этих слов неожиданно зазвучал еще один голос, четко и звонко, словно в разговор вмешался кто-то третий.
Они ждали этого с лихорадочным нетерпением, хотели как можно скорее узнать, о чем им расскажет запись. Они думали только о содержании записи, а не о той живой речи, в которую это содержание воплотится. Но теперь, когда прозвучали первые обращенные к ним слова, в сознание вошло лишь их звучание, не содержание, а лишь голос, со всеми внезапными изменениями приглушенного тембра, с легкими придыханиями в конце фраз, предшествующих паузам.
Он звучал в комнате, словно далекое эхо, словно отголосок прошлого, каким-то чудом прорвавшийся сквозь проложенный смертью черный кордон.
– Прости, но я… пусти сначала! – Седоголовый так сжал губы, что они совсем побелели.
Движение руки, и ленточка тихо шелестя, завертелась в обратном направлении.
Перед тем, как снова включить звук, рука молодого замерла в воздухе.
– Ну же, ну!
Пальцы вытянулись и легли на клавиатуру настройки, потом безымянный нажал на белую пластмассовую клавишу.
Диски снова плавно закружились. Теперь в немом шорохе ленточки, предшествовавшем рождению слов, обоим слышалось не молчание, а сдержанный вздох, который вот-вот прорвется пафосом каких-то особенно значимых слов. Но первая фраза прозвучала по-будничному просто, в ее интонации все было знакомо до мелочей.
«Я представляю, как вы вернетесь домой, мои родные, вконец измученные, ошеломленные тем, что случилось, и мне захотелось хотя бы таким способом побыть с вами рядом, договорить хоть несколько минут. Это тот разговор, который так и не состоялся между нами, потому что вы всегда избегали его, руководствуясь неписаными законами фальшивого гуманизма, по которым даже приговоренного к смерти человека надо до последней минуты уговаривать и утешать. Знали бы вы, насколько это в действительности не гуманно. Мне кажется, что стены нашей квартиры, словно эхо, повторяют все те слова, которые я громко говорила, когда оставалась дома одна. Но хватит об этом. Ленточка бежит безостановочно, а у меня такое впечатление, будто я вся должна уместиться в ее узком ложе, в тех нескольких десятках метрах, которые отсчитывают короткое время моей с вами беседы. Как я жалею теперь, что не писала вам раньше, когда моя правая рука еще так страшно не болела, и я могла держать карандаш! Бег ленточки парализует мой разум, все заранее приготовленные, налитые, словно отборное зерно, слова рассыпаются, смешиваются с половой. Сейчас я должна остановить магнитофон, немного полежать спокойно и еще раз взвесить то, что должна вам доверить, то, в чем хочу вас переубедить… Ну вот, я немного собралась с мыслями. Вас, наверно, удивило слово „доверить“? Ведь вам обоим, тебе, мой любимый Себастьян, и тебе, мой маленький Эрнст, – не обижайся на меня, для матери даже взрослые дети всегда остаются маленькими, – так вот вам обоим казалось, что вы знаете меня, как знает человек пять пальцев на собственной руке. До определенного времени так и было. Но внутренний мир человека, к счастью, подчинен тем же законам, что и все живое. Без непрерывного обмена веществ живой организм погибает. Каждый миг он должен что-то отдавать и что-то вбирать в себя. Для меня, Себастьян, запертой в рамках семьи, такой питательной средой была твоя подпольная деятельность. Я волновалась о тебе, о хрупком нашем счастье, которое могло рухнуть всякий раз, как ты выходил из дома, тревожилась о каждом порученном тебе деле, гордилась тобой, одновременно проклиная черты характера, толкнувшие тебя на этот опасный путь. И я стремилась, изо всех сил стремилась хотя бы дома обеспечить тебе минимальный покой, позаботиться о тех мелочах, которые помогли бы тебе отдохнуть. Я взяла на себя все будничные хлопоты, скрывала смятение, охватывающее меня, старалась сохранить здоровый юмор, так не совместимый со всем, что творилось вокруг. Нет, нет, не думай, что я хвастаюсь этим. Я давала значительно меньше, чем брала от тебя.
Когда после нескольких провалов товарищей, изверившись в эффективности того, что делал, ты отошел от подполья, я даже обрадовалась: наконец-то постоянный признак неуверенности и страха исчез из моей жизни! Ты помнишь эти дни? Они были наполнены не событиями, а пустотой, которая вдруг заполнила мою и твою души. Мы скрывали это друг от друга, но пустота зияла как вечно свободное место близкого человека, который навсегда ушел от нас. Нам представилась возможность переехать в эту квартиру, к моим, тогда еще живым, старикам. Мы ухватились за это, как за спасательный круг. Хлопоты, связанные с переездом, новая работа, которую ты нашел при небольшой больнице, – это были перемены, заполнившие наши дни новизной. Почему же снова в моей душе стал нарастать страх?
Теперь я обращаюсь к тебе, Эрнст! Помнишь, ты как-то прибежал из кино, куда вы ходили всем классом, и взволнованно стал рассказывать мне о кадрах из только что виденной кинохроники. Ты вытянулся по-военному, как те солдаты, что маршировали перед тобой на экране, и в глазах твоих светилось подлинное преклонение перед несгибаемой мощью солдатских колонн, которые шли под знаменами рейха. Я тогда чуть не ударила тебя по лицу – ты испуганно отшатнулся и, обиженный, отошел от меня. А я осталась стоять, не в силах шагнуть, и у ног моих разверзлась пропасть…
Не упрекай своих друзей, Себастьян, они не сразу приняли меня в свой круг и не сразу дали первое поручение. Вот то, что я скрывала от вас и что теперь доверяю вам. Да, четыре долгих года я жила двойной жизнью. Говорю „четыре“, потому что и два послевоенных, пока меня не свалила болезнь, я работала в рядах коммунистической партии.
Пряча в своей хозяйственной сумке листовки или шрифт, появляясь на явке, – а она всякий раз могла провалиться, – я знала, что подвергаю смертельной опасности и вас, мои самые дорогие и родные! Но, как ни парадоксально это звучит, я делала это ради вас. Для тебя, Себастьян, чтобы ты снова поверил в силу сопротивления, в неизбежность поражения такого чудовища, как фашизм, ибо человек по самой своей природе жаждет жить, а фашизм – это смерть всего живого, глумление над всем, чего достигли люди на протяжении долгих веков борьбы во имя утверждения разума и правды.
Я вступила на этот путь для тебя, Эрнст, прежде всего защищая тебя. И не только от физической смерти, как мать, стремящаяся сберечь тебе жизнь, а и от растления духовного, которое могло убить в тебе человека. Этого я боялась больше всего, ибо беззащитную детскую душу легко прельстить лицемерным блеском и пышными лживыми словами о величии и каком-то особом призвании немецкой нации.
А теперь я снова вынуждена остановить магнитофон. Нет, я не устала, я очень взволнована, так взволнована, что даже боль притаилась за порогом моего восприятия. Даже она не мешает мне думать. А мне хочется обдумать каждое слово, чтобы оно стало весомым, вместило в себя как можно больше, омылось живой кровью моего сердца.
…Вот и близится к концу мой разговор с вами. То, что я хочу сказать вам, для меня очень значительно, но я так и не нашла равнозначных слов. Они испепеляются, как только возникают у меня в мозгу, и лишь одно говорит, словно неопалимая купина: МАТЕРИНСТВО. Теперь я вижу – в него укладывается все.
Я вся перед вами, родные мои! Молоденькая девушка, мечтая о счастье, доверчиво вложила свою руку в твою, Себастьян. Молодая мать, ошеломленная чудом возникновения новой жизни, лелеять и беречь которую так безмерно сладко и так безмерно страшно. Пожилая женщина, для которой понятие материнства постепенно расширялось и наполнялось новым смыслом. Все ступеньки моей жизни были устремлены к этой вершине. Именно отсюда я увидела мир таким, каков он, есть, именно здесь я поняла, как много вбирает в себя слово „мать“, поняла, что, защищая добро от зла, мы, матери, тем самым утверждаем саму идею бытия. Встаньте на минутку рядом со мной, внимательно приглядитесь к тому, что делается вокруг нас. Ведь фашизм снова поднимает голову! А не кажется ли тебе, Себастьян, что в этом есть и частичка твоей личной вины? Ты же знаешь, что будет, если не преградить ему путь!
Мой маленький Эрнст, ты химик и любишь четкие формулы. Загляни же в ту реторту, где недобитые гитлеровцы вместе с генералами Клеями и ему подобными варят ядовитое зелье, каждый глоток которого может стать смертельным для нашего народа, для всех людей всего земного шара. Произведи анализ заложенных в эту реторту веществ, напиши формулу, и ты увидишь – это так!
Да, кофе… Им обоим надо согреться… А потом лечь, как можно скорее лечь…
Выпрямившись, он направился к двери. Из кухни донесся звон, потом журчание тугой струи воды. Теперь только этот единственный звук нарушал мертвую тишину дома, и седой человек в кресле еще крепче вцепился в его подлокотники. Ему показалось, что звук этот нарастает, словно шум большой реки, которая мчится вдоль берегов, в неудержимом и вечном движении.
– Тебе плохо? – спросил молодой, вернувшись в комнату. – Приляг хоть здесь, на тахту, укройся пледом. Сейчас я принесу кофе.
– Нет, нет, потом… Лучше дай покурить. У тебя что-нибудь осталось?
– Вот. – Из протянутой мятой пачки посыпались крошки табака, сломанные сигареты.
Оба с сожалением глядели на измятую пачку, будто нарочно цеплялись за нее взглядом, чтобы отогнать другое видение, от которого все время старались избавиться.
– Поищи в… спальне… в тумбочке… – наконец произнес старик, запинаясь после каждого слова.
Молодой прикусил губу, которая жалобно, по-детски задрожала, но послушно пошел в спальню.
На этот раз он долго не возвращался, казалось, совсем ушел из дому. Лицо седого болезненно исказилось, и он всем корпусом подался вперед.
Шаги, которые он услышал, не изменили его застывшей позы. Они были слишком быстрыми, чтобы сразу уложиться в сознании, опередить появление молодого на пороге.
Впрочем, не это внезапное появление, а выражение до мельчайших подробностей знакомого лица подействовало на старика, как электрический ток.
– Прости! Я не должен был посылать тебя туда, – сказал он быстро. – В конце концов можно было…
– Все равно придется через это пройти. Сегодня или завтра. Бери, закуривай!
Кончики двух сигарет одновременно покраснели, и по комнате поплыли две ниточки голубоватого дыма, пересекая одна другую, они сливались в длинную прядь и таяли возле раскрытой форточки. Старший глубоко затягивался, как человек, испытывающий жажду, припав к стакану воды, выпивает его, не отрывая губ, глоток за глотком. Молодой затянулся два-три раза и прикусил край сигареты. Она теперь тихонько тлела, обрастая на конце столбиком пепла. Заметив это, юноша бросил сигарету в пепельницу и быстро поднялся.
– Вот, – сказал он, вынимая из кармана какой-то пакет.
Большой конверт, выпуклый с обеих сторон, упал на стол заклеенной стороной кверху.
– Что это?
– Был в тумбочке на сигаретах.
Толстый конверт все еще лежал на столе. Две пары глаз устремились к нему, словно стараясь сквозь толщу бумаги прочесть то, что находилось в середине.
– Ну, что же, открывай, – хрипло произнес старший.
Осторожно, будто делая сложную операцию, молодой булавкой, вынутой из отворота пиджака, надорвал конверт.
– Тут только…
Оранжевый круг выскользнул на скатерть, кончик туго свернутой ленты отскочил в сторону и теперь пружинисто вздрагивал на краю стола.
– Не понимаю… Лента? Почему лента?
Воцарилось молчание.
– Может..?
– Да.
Побледнев, они поглядели друг другу в глаза, взглядом договариваясь не высказывать догадку вслух.
Бобины магнитофона плавно закружились, и между ними побежала узенькая оранжевая ленточка. Двое мужчин не отрывали от нее взгляда, словно надеясь на зримое появление кого-то третьего. Но ленточка бежала, равнодушно-безмолвная, похожая на вспышку пламени в своем непрерывном мерцании.
– Ты не ошибся? Звук включен?
И как бы в подтверждение этих слов неожиданно зазвучал еще один голос, четко и звонко, словно в разговор вмешался кто-то третий.
Они ждали этого с лихорадочным нетерпением, хотели как можно скорее узнать, о чем им расскажет запись. Они думали только о содержании записи, а не о той живой речи, в которую это содержание воплотится. Но теперь, когда прозвучали первые обращенные к ним слова, в сознание вошло лишь их звучание, не содержание, а лишь голос, со всеми внезапными изменениями приглушенного тембра, с легкими придыханиями в конце фраз, предшествующих паузам.
Он звучал в комнате, словно далекое эхо, словно отголосок прошлого, каким-то чудом прорвавшийся сквозь проложенный смертью черный кордон.
– Прости, но я… пусти сначала! – Седоголовый так сжал губы, что они совсем побелели.
Движение руки, и ленточка тихо шелестя, завертелась в обратном направлении.
Перед тем, как снова включить звук, рука молодого замерла в воздухе.
– Ну же, ну!
Пальцы вытянулись и легли на клавиатуру настройки, потом безымянный нажал на белую пластмассовую клавишу.
Диски снова плавно закружились. Теперь в немом шорохе ленточки, предшествовавшем рождению слов, обоим слышалось не молчание, а сдержанный вздох, который вот-вот прорвется пафосом каких-то особенно значимых слов. Но первая фраза прозвучала по-будничному просто, в ее интонации все было знакомо до мелочей.
«Я представляю, как вы вернетесь домой, мои родные, вконец измученные, ошеломленные тем, что случилось, и мне захотелось хотя бы таким способом побыть с вами рядом, договорить хоть несколько минут. Это тот разговор, который так и не состоялся между нами, потому что вы всегда избегали его, руководствуясь неписаными законами фальшивого гуманизма, по которым даже приговоренного к смерти человека надо до последней минуты уговаривать и утешать. Знали бы вы, насколько это в действительности не гуманно. Мне кажется, что стены нашей квартиры, словно эхо, повторяют все те слова, которые я громко говорила, когда оставалась дома одна. Но хватит об этом. Ленточка бежит безостановочно, а у меня такое впечатление, будто я вся должна уместиться в ее узком ложе, в тех нескольких десятках метрах, которые отсчитывают короткое время моей с вами беседы. Как я жалею теперь, что не писала вам раньше, когда моя правая рука еще так страшно не болела, и я могла держать карандаш! Бег ленточки парализует мой разум, все заранее приготовленные, налитые, словно отборное зерно, слова рассыпаются, смешиваются с половой. Сейчас я должна остановить магнитофон, немного полежать спокойно и еще раз взвесить то, что должна вам доверить, то, в чем хочу вас переубедить… Ну вот, я немного собралась с мыслями. Вас, наверно, удивило слово „доверить“? Ведь вам обоим, тебе, мой любимый Себастьян, и тебе, мой маленький Эрнст, – не обижайся на меня, для матери даже взрослые дети всегда остаются маленькими, – так вот вам обоим казалось, что вы знаете меня, как знает человек пять пальцев на собственной руке. До определенного времени так и было. Но внутренний мир человека, к счастью, подчинен тем же законам, что и все живое. Без непрерывного обмена веществ живой организм погибает. Каждый миг он должен что-то отдавать и что-то вбирать в себя. Для меня, Себастьян, запертой в рамках семьи, такой питательной средой была твоя подпольная деятельность. Я волновалась о тебе, о хрупком нашем счастье, которое могло рухнуть всякий раз, как ты выходил из дома, тревожилась о каждом порученном тебе деле, гордилась тобой, одновременно проклиная черты характера, толкнувшие тебя на этот опасный путь. И я стремилась, изо всех сил стремилась хотя бы дома обеспечить тебе минимальный покой, позаботиться о тех мелочах, которые помогли бы тебе отдохнуть. Я взяла на себя все будничные хлопоты, скрывала смятение, охватывающее меня, старалась сохранить здоровый юмор, так не совместимый со всем, что творилось вокруг. Нет, нет, не думай, что я хвастаюсь этим. Я давала значительно меньше, чем брала от тебя.
Когда после нескольких провалов товарищей, изверившись в эффективности того, что делал, ты отошел от подполья, я даже обрадовалась: наконец-то постоянный признак неуверенности и страха исчез из моей жизни! Ты помнишь эти дни? Они были наполнены не событиями, а пустотой, которая вдруг заполнила мою и твою души. Мы скрывали это друг от друга, но пустота зияла как вечно свободное место близкого человека, который навсегда ушел от нас. Нам представилась возможность переехать в эту квартиру, к моим, тогда еще живым, старикам. Мы ухватились за это, как за спасательный круг. Хлопоты, связанные с переездом, новая работа, которую ты нашел при небольшой больнице, – это были перемены, заполнившие наши дни новизной. Почему же снова в моей душе стал нарастать страх?
Теперь я обращаюсь к тебе, Эрнст! Помнишь, ты как-то прибежал из кино, куда вы ходили всем классом, и взволнованно стал рассказывать мне о кадрах из только что виденной кинохроники. Ты вытянулся по-военному, как те солдаты, что маршировали перед тобой на экране, и в глазах твоих светилось подлинное преклонение перед несгибаемой мощью солдатских колонн, которые шли под знаменами рейха. Я тогда чуть не ударила тебя по лицу – ты испуганно отшатнулся и, обиженный, отошел от меня. А я осталась стоять, не в силах шагнуть, и у ног моих разверзлась пропасть…
Не упрекай своих друзей, Себастьян, они не сразу приняли меня в свой круг и не сразу дали первое поручение. Вот то, что я скрывала от вас и что теперь доверяю вам. Да, четыре долгих года я жила двойной жизнью. Говорю „четыре“, потому что и два послевоенных, пока меня не свалила болезнь, я работала в рядах коммунистической партии.
Пряча в своей хозяйственной сумке листовки или шрифт, появляясь на явке, – а она всякий раз могла провалиться, – я знала, что подвергаю смертельной опасности и вас, мои самые дорогие и родные! Но, как ни парадоксально это звучит, я делала это ради вас. Для тебя, Себастьян, чтобы ты снова поверил в силу сопротивления, в неизбежность поражения такого чудовища, как фашизм, ибо человек по самой своей природе жаждет жить, а фашизм – это смерть всего живого, глумление над всем, чего достигли люди на протяжении долгих веков борьбы во имя утверждения разума и правды.
Я вступила на этот путь для тебя, Эрнст, прежде всего защищая тебя. И не только от физической смерти, как мать, стремящаяся сберечь тебе жизнь, а и от растления духовного, которое могло убить в тебе человека. Этого я боялась больше всего, ибо беззащитную детскую душу легко прельстить лицемерным блеском и пышными лживыми словами о величии и каком-то особом призвании немецкой нации.
А теперь я снова вынуждена остановить магнитофон. Нет, я не устала, я очень взволнована, так взволнована, что даже боль притаилась за порогом моего восприятия. Даже она не мешает мне думать. А мне хочется обдумать каждое слово, чтобы оно стало весомым, вместило в себя как можно больше, омылось живой кровью моего сердца.
…Вот и близится к концу мой разговор с вами. То, что я хочу сказать вам, для меня очень значительно, но я так и не нашла равнозначных слов. Они испепеляются, как только возникают у меня в мозгу, и лишь одно говорит, словно неопалимая купина: МАТЕРИНСТВО. Теперь я вижу – в него укладывается все.
Я вся перед вами, родные мои! Молоденькая девушка, мечтая о счастье, доверчиво вложила свою руку в твою, Себастьян. Молодая мать, ошеломленная чудом возникновения новой жизни, лелеять и беречь которую так безмерно сладко и так безмерно страшно. Пожилая женщина, для которой понятие материнства постепенно расширялось и наполнялось новым смыслом. Все ступеньки моей жизни были устремлены к этой вершине. Именно отсюда я увидела мир таким, каков он, есть, именно здесь я поняла, как много вбирает в себя слово „мать“, поняла, что, защищая добро от зла, мы, матери, тем самым утверждаем саму идею бытия. Встаньте на минутку рядом со мной, внимательно приглядитесь к тому, что делается вокруг нас. Ведь фашизм снова поднимает голову! А не кажется ли тебе, Себастьян, что в этом есть и частичка твоей личной вины? Ты же знаешь, что будет, если не преградить ему путь!
Мой маленький Эрнст, ты химик и любишь четкие формулы. Загляни же в ту реторту, где недобитые гитлеровцы вместе с генералами Клеями и ему подобными варят ядовитое зелье, каждый глоток которого может стать смертельным для нашего народа, для всех людей всего земного шара. Произведи анализ заложенных в эту реторту веществ, напиши формулу, и ты увидишь – это так!