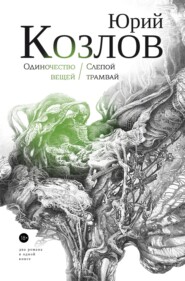По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белая вода
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Белая вода
Юрий Вильямович Козлов
Проза нового века
Юрий Козлов – известный российский писатель, лауреат многих литературных премий, автор целого ряда нашумевших произведений. Сборник написанных в последние годы повестей Юрия Козлова – это попытка осмысления жизни людей, впитавших реалии новой России. «Белая вода» – искромётный взгляд на российскую власть из глубины её «часового механизма», где любовь к Родине и одновременное её предательство – сообщающиеся сосуды. Чиновник, писатель, начинающий журналист, старый диссидент «советского разлива», молодая, обладающая эзотерическими способностями авантюристка – все они ищут выход из на первый взгляд безысходного круга проблем, «окольцевавших» современную Россию. Но выход есть! Ключ к нему – в достоверной, глубокой и удивительно проницательной прозе Юрия Козлова.
Юрий Вильянович Козлов
Белая вода
Роман
Белая буква
1
О литературном русском языке размышлял, сидя поздним вечером в кафе на двадцатом этаже гостиницы «Лида», приехавший в Белоруссию на международную научно-практическую конференцию писатель Василий Объёмов. Современному состоянию русского литературного языка, ещё недавно подобно парниковой плёнке покрывавшему необозримые просторы СССР, была посвящена международная конференция. После ликвидации парника плёнка расползлась по разделённому пространству лохмотьями. Из-под них воинственно вылезали острия, лезвия и пики других языков. Уже клубился над некогда ответственно сберегаемой общей речевой почвой отвратительный туман разно-, а в конечном итоге безъязычия, прорывались сквозь мутные клочья три отчётливых звука: грозное рычание, тупое мычание и трусливое блеяние. То были три источника, три составные части доречевого и – получалось – постречевого самовыражения человеческих особей.
Объёмова удручало то, что «великий и могучий» ветшал и грязнился, как истоптанный коврик, даже там, где у него, казалось, не было для этого причин, а именно в самой России, пока ещё не отказавшейся от родного языка. И здесь его, как кроткую домохозяйку в тёмном подъезде, настигали языки-мигранты. Хищный гортанный клёкот летел из дворов, со строек, из супермаркетов, поликлиник, общественного транспорта, не говоря об автосалонах, банках, кофе-хаусах и судебных присутствиях. Русский язык стелился под ним, как заяц под крестовой орлиной тенью, не обогащался тюркско-кавказско-таджикскими заимствованиями, а, напротив, обдирался как липка, как тот самый заяц, когда беркут вонзает в него кривые жёлтые когти.
Но не только мигранты, гастарбайтеры и трусливые природные носители уродовали великий и могучий. Его накрывала, душила, держала за жабры, если уподобить язык сказочной золотой рыбке, презревшая орфографию и грамматику Сеть. Косяки пользователей плотно застревали в виртуальных ячеях уже цифровой разновидности без-, точнее извращённоязычия. Там тоже рычали тролли, мычали, тупо разглядывая бесконечные водопады фотографий фейсбучные стада, испуганно блеял, чуя надвигающуюся беду, офисный планктон.
Компьютерная цифра чёрной змеёй жалила белую лебедь книжной буквы. Лебедь-буква рвалась в синее пушкинское небо, но не было неба в Сети, потому что Сеть сама определила себя небом. Даже в терминологии – «облака тегов», «облачный сервис», «облачный хостинг» – Сеть вызывающе и нагло копировала небо, совсем как (если верить священным книгам) грядущий Антихрист – Спасителя.
«Языки – как люди», – задумчиво смотрел в тёмное осеннее, напоминающее экран выключенного компьютера окно писатель Василий Объёмов. Когда человек (народ) полон сил и надежд, его речь расцветает, как весенний луг. На этот луг приходят священные коровы смыслов. Вот только где (мысль, как дурной солдатик на плацу, вдруг сбилась с ноги) скрываются эти самые смыслы, неужели… в вымени? Когда человек (народ) устаёт, изнашивается, вернул мысль в строй Объёмов, язык сохнет и колется, как сорняк. Священные коровы уходят с такого луга, брезгливо поджав вымя, пометив его навозными лепёшками.
С этого, решил он, я и начну своё выступление. Кажется, Горький, посмотрел в тёмное окно писатель Василий Объёмов, полагал мерилом цивилизации отношение к женщине. А вот мерилом адекватности государства – мысленно он уже стоял на трибуне, строго и в то же время доброжелательно (Объёмов был опытным лектором) вглядываясь в лица слушателей, – следует считать отношение власти к народу и языку.
Перед Объёмовым привычно обозначился неуничтожимый (и неупиваемый, если вспомнить дружеские посиделки после круглых столов, заседаний и обсуждений, посвящённых судьбе России) дискуссионный круг. С середины восьмидесятых, то есть уже большую часть жизни, он бегал по нему как цирковая лошадь. Когда-то – задорно вскидывая гривастую в султанах голову, сейчас – еле таская сбитые копыта.
Нечто тревожно-мистическое наличествовало в четвертьвековом (с момента распада СССР) дискурсе о судьбе России. За столько-то лет можно было бы прийти к чему-то конкретному. Своей (в смысле определения приемлемого сценария) обречённостью он напоминал дискурс о неотвратимости конца света.
Как будто некие просветлённые, но грустные исследователи наблюдали за развитием диковинного мутанта. В силу своего очевидного атавистического вырождения (а как ещё называть первоначальный, беспощадный к «малым сим», то есть к народу, капитализм?) и дьявольского уродства мутант, казалось, не имел шансов выжить. Но злобная тварь не просто выжила, а сама стала жизнью, присосалась к природным и трудовым (определение другого писателя – Глеба Успенского) богатствам тысячелетней России, выплюнув, как обглоданную кость, народ на голый берег. Более того, казалось, что тварь остановила само время, превратила его в клейкий – из костей народа – студень, слегка присыпанный кристаллами образованного сословия – солью земли русской. И жрала, жрала этот студень, не ведая насыщения, стыда и страха.
«Бытие определяет сознание, а деньги определяют бытие» – по такой формуле существовала страна. Но беда была в том, что у лишённого природных и трудовых богатств народа отсутствовали деньги, а потому не они, а ненависть к тем, кто их у него отнял, определяла бытие народа. Встречную ненависть мошенника к лоху, который почему-то не уходит, а топчется рядом, смотрит собачьим каким-то, ожидающим чего-то взглядом, испытывали к обобранному народу и новоявленные владельцы богатств. Но если они твёрдо определяли жизнь как деньги и, как могли (в основном уродливо и истерично), наслаждались ею, то народ всё ещё не был готов окончательно смириться с тем, что его, народа, жизнь – это безденежное ничто в мире, где за всё надо платить. Бытие, сознание и деньги в России, таким образом, определялись ненавистью. Правда, народная ненависть вынужденно охлаждалась, разбавлялась насущной необходимостью выживать, длить безденежное ничто. Кажущаяся пассивность, социальная обезволенность народа принималась властью за неисчерпаемую покорность. «Неужели и это стерпишь?» – изумлялась власть, вводя «санитарный» – на пользование унитазом – или «тротуарный» – на износ под ногами пешеходов уличной плитки – налог. «Стерплю!» – бодро, как солдат Швейк садисту-врачу на медкомиссии, отвечал народ.
Никто не знал, когда из куколки народного смирения выпростается огненная бабочка революции. Да и выпростается ли? Вдруг куколка невозвратно окаменела? Вдруг уже растворилась в клейком студне?
Марксистская историческая наука основывалась на поступательном в плане общественного и экономического прогресса движении цивилизации – от первобытно-общинного строя к рабовладению, феодализму, капитализму, социализму и, наконец, к коммунизму как к пределу мечтаний человечества. Как должно вести себя общество, двинувшееся в обратном направлении – из социализма в капитализм, марксистская историческая наука не знала. Как раб, вдруг оказавшийся среди неандертальцев в племенной пещере? Или как клерк, узнавший, что отныне он – собственность директора конторы и тот может безнаказанно убить его, допустим, за опоздание на работу?
Какой, к чёрту, народ, какой литературный язык, расстроился Объёмов, зачем я приехал на эту конференцию? Разве только, посмотрел по сторонам, узнать, как тут у них – в предполье (термин ещё одного писателя – создателя теории этногенеза Льва Гумилёва) Европы – обстоят дела с народом, литературным языком, деньгами и… революцией?
Объёмов был единственным посетителем кафе, где ему был заказан устроителями конференции ужин. В данный момент он ожидал, что принесёт из неосвещённых кухонных глубин шустрая черноволосая, южно-славянского обличья буфетчица. Она успела сообщить Объёмову, что на сегодня ему был заказан ещё и обед, но он его пропустил, поэтому, если он проголодался, ужин может быть усилен, она так и сказала: усилен. Прислушиваясь к звяканью тарелок и гудению СВЧ-печи, – буфетчица почему-то орудовала в кухне, не включая света, – Объёмов прикидывал, возможно ли усилить ужин (хорошо бы в счёт пропущенного обеда) двумя-тремя рюмками водки, а если нет, примет ли буфетчица российские деньги.
Дело в том, что писатель Объёмов приехал на конференцию в Лиду своим ходом – на машине – из соседней с Белоруссией деревни в Псковской области. Там он жил летом в оставшемся от родителей, неровно обложенном белым кирпичом бревенчатом доме. От деревни до границы с Белоруссией было двадцать семь километров.
Дом требовал ремонта, но Объёмов тянул, не зная, нужен ли ему вообще этот дом – с дощатым, продуваемым ветром сортиром во дворе, маловодным колодцем в крапивных зарослях, полуразвалившейся русской печью, непросыхающим, чавкающим глиной погребом? Каждый раз, вылезая из пасти погреба, Объёмов выносил на галошах (только в них или в сапогах можно было там перемещаться) по килограмму, не меньше, рыжей глины на каждой ноге. В эти мгновения ему вспоминались знаменитые слова отказавшегося эмигрировать и вскоре отправленного на гильотину деятеля Великой французской революции Дантона: «Нельзя унести Отечество на подошвах своих сапог!» Можно, мрачно возражал французскому революционеру русский писатель Василий Объёмов, ещё как можно. И ведь… сколько ещё… Отечества останется в погребе. На миллион сапог, не меньше.
На участке, помимо дома, имелась древняя покосившаяся – издали она напоминала чёрный параллелограмм – баня под серо-зелёным от наросшего мха и нападавших веток и елочных иголок шифером. Словно в надвинутой на лоб косматой папахе, угрюмо высилась она на пригорке. Самое удивительное, что баня до сих пор исправно функционировала, и Объёмов иногда парился в ней, предварительно натаскав вёдрами в бак над печью дождевой воды.
Другие участники конференции должны были сначала прибыть в Минск, а уже оттуда на автобусе переместиться в Лиду. Объёмову показалось как-то не с руки нестись из деревни в Москву, вместе с другими членами российской делегации выдвигаться в Минск, потом снова возвращаться в Москву, а из Москвы – в деревню. Он рассудил, что из деревни проще. Эта простота сказывалась и на внешнем виде Объёмова. Он не держал в деревенском доме приличествующей международной конференции одежды. А потому выглядел сейчас как писатель, не только победительно (или пораженчески, большой разницы тут не было) переживающий нищету, но ещё и стилистически застрявший в конце девяностых годов, когда простые граждане России ходили в необъятных, как свалившаяся на них свобода, штанах, тусклых футболках и куртках с покатыми плечами. Гадкая и совершенно неуместная надпись «Sexy boy» украшала футболку Объёмова. Он прикрывал её полой куртки, как если бы скрывал во внутреннем кармане пистолет. Буфетчицу, впрочем, это мало беспокоило. Должно быть, в гостиничный буфет заглядывали разные посетители.
Объёмов не любил суету, полагал естественным состоянием для писателя одиночество. Вынужденные – под чужую дудку – путешествия нарушали гармонию пусть убогого, но привычного и устоявшегося бытия. Добровольные, напротив, скрашивали и разнообразили прижизненное (и, вероятно, пожизненное) ничтожество и одиночество – удел большинства русских писателей в первой половине XXI века. Словно сам Господь Бог переворачивал для успокоившегося в ничтожестве, обретшего в нём самодостаточность путешественника страницы огромной, с картинками живой книги. Чужая дудка стесняла и раздражала. Своя – божественная? – навевала иллюзию, что мир не так уж и безнадёжен, что ещё не всё потеряно, есть порох в пороховницах и песня до конца не пропета. Собственно, это и было истинной и, по мнению великого реформатора Мартина Лютера, правильной верой в Бога, потому что больше человеку не во что было верить в его стремительно пролетающей жизни.
Объёмов с удовольствием и без спешки (потому и не успел на обед, о котором, впрочем, не подозревал) проехал через всю Белоруссию, глядя на желтеющие осенние леса, ухоженные городки и посёлки, пробивающееся сквозь облака, как сквозь тонкое рваное ватное одеяло, слабеющее солнце.
Он слышал, что у России и Белоруссии какое-то Союзное государство. Однако могуче оборудованная – в терминалах, развязках, пунктах досмотра и смотровых вышках, не хватало только собак и колючей проволоки – граница невольно наводила на мысли об исчисленных сроках этого государства. Пока что машины свободно сновали в обе стороны, а камуфляжные и фуражечные люди по обе стороны границы занимались какими-то своими делами. Никто не проявил ни малейшего интереса к семилетнему объёмовскому «доджу-калиберу», не потребовал предъявить паспорт или приобретённую за семьсот пятьдесят рублей в одной из многочисленных приграничных будок автомобильную страховку.
Объёмов сверял маршрут с картой, уточнял путь у знающих людей на заправках, думал, как и положено в путешествии, о чём-то не сильно серьёзном и необязательном. Даже внезапный вечерний, простучавший по крыше машины ледяными пальцами град на подъезде к Лиде не смутил Объёмова, не «смазал» благостную «карту будня». Он легко отыскал гостиницу – она находилась в центре города, на берегу озера, напротив тщательно отреставрированной, как будто вчера возведённой краснокирпичной крепости с башнями, – поставил машину на платную охраняемую стоянку, отметился на reception, отнёс сумку с вещами и книгами в незамысловатый, как честная жизнь, номер.
После чего отправился ужинать в кафе на двадцатый этаж, где его поджидала приветливая буфетчица в вязаной кофте и обтягивающих (не по возрасту!) коротких чёрных брючках. У неё был выпирающий утюжком живот, которым она, хлопоча вокруг стола, несколько раз как бы невзначай натыкалась на Объёмова. Это его не то чтобы смутило, но слегка озадачило. Он и в мыслях не держал разгладиться под этим утюжком. Ладно, выпьем водки, рассудил Объёмов, а там видно будет.
Он давно заметил, что зрелые, как они классифицируются в неисчерпаемых, как вещь в себе, порноглубинах интернета (а буфетчице точно было за пятьдесят), женщины часто становятся странно и на первый взгляд немотивированно экзальтированы даже в абсолютно ничего не обещающем, бытовом, можно сказать, внеполовом присутствии мужчин. На суровом и зачастую тоже внеполовом склоне лет женщины за пятьдесят лет фантазируют и мечтают, как девочки, только взбирающиеся на сияющую вершину этого опасного и скользкого склона.
Самый искренний, вдохновенный, можно сказать, поэтический, но при этом решительно никак не связанный с реальностью монолог о любви Объёмов (невольно) услышал много лет назад в… дощатом, разделённом на две секции – «М» и «Ж» – сортире в деревне Костино Дмитровского района Московской области. В этой нечерноземной глуши он трудился летом в строительном отряде. Была такая практика в СССР – в обязательном порядке отправлять студентов после первого курса на стройки пятилетки. Кому выпадал героический БАМ, железная дорога Тюмень – Сургут, газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, а вот юному Объёмову выпало мешать раствор в бетономешалке при возведении трансформаторной подстанции на краю полузаброшенного, с васильками и жаворонками поля.
Помнится, как-то ночью он задумчиво курил, устроившись на корточках над очком в секции «М», смотрел сквозь широкие просветы в досках на яркие звёзды в бессмертном небе. Но тут послышались девичьи голоса, в соседней секции «Ж» ударила дверь.
«Я его люблю, люблю! Ты не представляешь, Нинка, какое это счастье – просыпаться утром и знать, что он есть. Я сразу начинаю думать о нём, что он сейчас делает, с кем разговаривает. Вижу Славкино лицо, глаза, слышу голос. Понимаешь, он как будто всё время со мной! Весь мир – это он! А когда он идёт навстречу по коридору, мне хочется зажмуриться, чтобы не ослепнуть, знаешь, как бухает сердце? Я… не знаю, как раньше жила, когда не знала, что живёт на свете такой человек… Славка…» «Да, Мань… – неопределённо отозвалась подруга, – а сам-то он… как?» «Не знаю, Нин, он есть, и всё, больше мне ничего не надо!»
После чего отвлечённый от созерцания звёзд Объёмов услышал мощный фыркающий шум (видать, девушки хорошо напились за ужином чая), фразу: «Чёрт, надо же, трусы перекрутились», удар двери и рассыпчатый затихающий топот. Он, естественно, узнал влюблённую ночную посетительницу дощатого заведения – комсорга их группы. Знал Объёмов и «человека Славку» – мрачного, не по годам пьющего сутулого паренька в неснимаемых очках с выпуклыми стёклами. Он был удивительно молчалив и неулыбчив. Угреватое, словно посыпанное перцем, лицо его оживлялось, только когда в обеденный перерыв собирали деньги на портвейн, решали, кого послать в магазин. Славка, как пионер, был всегда готов, но его не посылали, потому что до магазина было километра три, а Славка ходил медленно и как-то бочком. Даже делая скидку на провинциальный (кажется, она была из Липецка) background Маши, Объёмов не представлял, как можно ослепнуть от созерцания Славки. Разве только если в солнечный день смотреть ему в очки как в увеличительные стёкла…
Неужели, он поискал взглядом юркнувшую, как мышь в нору, в кухонный сумрак буфетчицу, я сейчас… выступаю в роли Славки?
По части выпить – точно. А вот по части любви…
Объёмов давно превратил себя в объект собственного же насмешливого наблюдения, полагая, что таким образом спасается от маразма. Больше ему по причине неизбывного одиночества наблюдать было не за кем. Интересно, есть в кухне… туалет, подумал Объёмов.
Судя по тому, что он по-прежнему был в кафе один, а освещена была только стойка бара, Объёмов сделал вывод, что гостиница не переполнена постояльцами. Предполье Европы определённо не казалось привлекательным разного рода искателям лучшей жизни и западной толерантности.
Буфетчица вынырнула из кухонных глубин с приколотым к свитеру бейджем «Каролина». Объёмов сначала подумал, что так называется гостиница, но потом вспомнил, что гостиница называется «Лида». Каролиной, стало быть, звали буфетчицу. Она не возражала усилить ужин водкой, но за стойкой, выбирая, из какой бутылки налить в графинчик, вдруг как-то задумалась. Объёмов быстро подкрепил просьбу двумя российскими сотенными купюрами.
– Тогда я вам… от души налью, – обрадовалась буфетчица, ставя перед ним одну за другой тарелки сусиленным ужином.
– Я столько не съем, – предупредил Объёмов. Похоже, невостребованные едоками в гостиничном кафе ветчинные и сырные нарезки, щедро сдобренные неестественно белым майонезом салаты, запаянные в плёнку, как в прозрачные доспехи, сосиски приближались к исчерпанию срока годности.
А, собственно, что здесь такого, расправил плечи писатель Объёмов, каждый мужик хоть раз в своей жизни побывал Славкой, а некоторые, так… – он подумал про брачных аферистов, – много, много раз. Кто сказал, что зрелые женщины не могут влюбляться с первого взгляда? Перед глазами Объёмова замельтешили картинки из соответствующих разделов интернетовских порнохабов. При чём здесь это, ужаснулся он.
Вдруг я ей просто понравился? – оторвался от неуместных, абсолютно, как давние мечтания комсорга их группы в секции «Ж», не связанных с реальностью видений Объёмов, с отвращением посмотрел на свою дремучую – когда успела выгореть на солнце? – куртку. Предложение усилить ужин водочкой в счёт пропущенного обеда, даже с присовокуплением двухсот российских рублей вряд ли могло усилить симпатии шустрой буфетчицы к незнакомому посетителю в позорной, исключающей всякие романтические иллюзии куртке.
Но бесповоротно смириться с этой мыслью Объёмову не позволяли остатки мужского самолюбия.
Или она от меня чего-то хочет? Но чего? Я абсолютно неперспективен по всем направлениям. Разве только… включилось писательское воображение – оно почему-то неизменно работало у Объёмова в режиме изначального, на грани шизофрении недоверия к окружающим людям, от которых он ожидал любых, в том числе труднообъяснимых с точки зрения здравого смысла, мерзостей, – она… хочет меня отравить. Зачем? А… в экспериментальном порядке: возможно, ей надо кого-то отравить, а на мне проверит действие яда…
Писательское воображение было весьма изобретательно, как сталинских времён следователь в поисках доказательств несуществующего заговора. Но без него жизнь Объёмова превратилась бы в пустоту. Собственно, литература и была для него поисками доказательств несуществующего (не только заговора, а… чего угодно), точнее существующего исключительно в его сознании. Другое дело, что найденные им доказательства не убеждали массового читателя в существовании объёмовского несуществующего. Но это была персональная беда Объёмова, как, впрочем, и многих других писателей, чьи произведения отскакивали от сознания массового читателя, как мячики, и улетали неизвестно куда.
Бред!
Надо быть добрее и проще, вздохнул Объёмов, смутно припомнив строчки из Уолта Уитмена. Если ты увидел человека и тебе захотелось поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним? Примерно так. Но воображение не желало отключаться, зловеще мерцало, как вышедший из повиновения, не реагирующий на кнопки компьютер. А может, так? Если ты встретил буфетчицу и тебе показалось, что она хочет тебя отравить, где гарантия, что она не хочет тебя отравить?
Юрий Вильямович Козлов
Проза нового века
Юрий Козлов – известный российский писатель, лауреат многих литературных премий, автор целого ряда нашумевших произведений. Сборник написанных в последние годы повестей Юрия Козлова – это попытка осмысления жизни людей, впитавших реалии новой России. «Белая вода» – искромётный взгляд на российскую власть из глубины её «часового механизма», где любовь к Родине и одновременное её предательство – сообщающиеся сосуды. Чиновник, писатель, начинающий журналист, старый диссидент «советского разлива», молодая, обладающая эзотерическими способностями авантюристка – все они ищут выход из на первый взгляд безысходного круга проблем, «окольцевавших» современную Россию. Но выход есть! Ключ к нему – в достоверной, глубокой и удивительно проницательной прозе Юрия Козлова.
Юрий Вильянович Козлов
Белая вода
Роман
Белая буква
1
О литературном русском языке размышлял, сидя поздним вечером в кафе на двадцатом этаже гостиницы «Лида», приехавший в Белоруссию на международную научно-практическую конференцию писатель Василий Объёмов. Современному состоянию русского литературного языка, ещё недавно подобно парниковой плёнке покрывавшему необозримые просторы СССР, была посвящена международная конференция. После ликвидации парника плёнка расползлась по разделённому пространству лохмотьями. Из-под них воинственно вылезали острия, лезвия и пики других языков. Уже клубился над некогда ответственно сберегаемой общей речевой почвой отвратительный туман разно-, а в конечном итоге безъязычия, прорывались сквозь мутные клочья три отчётливых звука: грозное рычание, тупое мычание и трусливое блеяние. То были три источника, три составные части доречевого и – получалось – постречевого самовыражения человеческих особей.
Объёмова удручало то, что «великий и могучий» ветшал и грязнился, как истоптанный коврик, даже там, где у него, казалось, не было для этого причин, а именно в самой России, пока ещё не отказавшейся от родного языка. И здесь его, как кроткую домохозяйку в тёмном подъезде, настигали языки-мигранты. Хищный гортанный клёкот летел из дворов, со строек, из супермаркетов, поликлиник, общественного транспорта, не говоря об автосалонах, банках, кофе-хаусах и судебных присутствиях. Русский язык стелился под ним, как заяц под крестовой орлиной тенью, не обогащался тюркско-кавказско-таджикскими заимствованиями, а, напротив, обдирался как липка, как тот самый заяц, когда беркут вонзает в него кривые жёлтые когти.
Но не только мигранты, гастарбайтеры и трусливые природные носители уродовали великий и могучий. Его накрывала, душила, держала за жабры, если уподобить язык сказочной золотой рыбке, презревшая орфографию и грамматику Сеть. Косяки пользователей плотно застревали в виртуальных ячеях уже цифровой разновидности без-, точнее извращённоязычия. Там тоже рычали тролли, мычали, тупо разглядывая бесконечные водопады фотографий фейсбучные стада, испуганно блеял, чуя надвигающуюся беду, офисный планктон.
Компьютерная цифра чёрной змеёй жалила белую лебедь книжной буквы. Лебедь-буква рвалась в синее пушкинское небо, но не было неба в Сети, потому что Сеть сама определила себя небом. Даже в терминологии – «облака тегов», «облачный сервис», «облачный хостинг» – Сеть вызывающе и нагло копировала небо, совсем как (если верить священным книгам) грядущий Антихрист – Спасителя.
«Языки – как люди», – задумчиво смотрел в тёмное осеннее, напоминающее экран выключенного компьютера окно писатель Василий Объёмов. Когда человек (народ) полон сил и надежд, его речь расцветает, как весенний луг. На этот луг приходят священные коровы смыслов. Вот только где (мысль, как дурной солдатик на плацу, вдруг сбилась с ноги) скрываются эти самые смыслы, неужели… в вымени? Когда человек (народ) устаёт, изнашивается, вернул мысль в строй Объёмов, язык сохнет и колется, как сорняк. Священные коровы уходят с такого луга, брезгливо поджав вымя, пометив его навозными лепёшками.
С этого, решил он, я и начну своё выступление. Кажется, Горький, посмотрел в тёмное окно писатель Василий Объёмов, полагал мерилом цивилизации отношение к женщине. А вот мерилом адекватности государства – мысленно он уже стоял на трибуне, строго и в то же время доброжелательно (Объёмов был опытным лектором) вглядываясь в лица слушателей, – следует считать отношение власти к народу и языку.
Перед Объёмовым привычно обозначился неуничтожимый (и неупиваемый, если вспомнить дружеские посиделки после круглых столов, заседаний и обсуждений, посвящённых судьбе России) дискуссионный круг. С середины восьмидесятых, то есть уже большую часть жизни, он бегал по нему как цирковая лошадь. Когда-то – задорно вскидывая гривастую в султанах голову, сейчас – еле таская сбитые копыта.
Нечто тревожно-мистическое наличествовало в четвертьвековом (с момента распада СССР) дискурсе о судьбе России. За столько-то лет можно было бы прийти к чему-то конкретному. Своей (в смысле определения приемлемого сценария) обречённостью он напоминал дискурс о неотвратимости конца света.
Как будто некие просветлённые, но грустные исследователи наблюдали за развитием диковинного мутанта. В силу своего очевидного атавистического вырождения (а как ещё называть первоначальный, беспощадный к «малым сим», то есть к народу, капитализм?) и дьявольского уродства мутант, казалось, не имел шансов выжить. Но злобная тварь не просто выжила, а сама стала жизнью, присосалась к природным и трудовым (определение другого писателя – Глеба Успенского) богатствам тысячелетней России, выплюнув, как обглоданную кость, народ на голый берег. Более того, казалось, что тварь остановила само время, превратила его в клейкий – из костей народа – студень, слегка присыпанный кристаллами образованного сословия – солью земли русской. И жрала, жрала этот студень, не ведая насыщения, стыда и страха.
«Бытие определяет сознание, а деньги определяют бытие» – по такой формуле существовала страна. Но беда была в том, что у лишённого природных и трудовых богатств народа отсутствовали деньги, а потому не они, а ненависть к тем, кто их у него отнял, определяла бытие народа. Встречную ненависть мошенника к лоху, который почему-то не уходит, а топчется рядом, смотрит собачьим каким-то, ожидающим чего-то взглядом, испытывали к обобранному народу и новоявленные владельцы богатств. Но если они твёрдо определяли жизнь как деньги и, как могли (в основном уродливо и истерично), наслаждались ею, то народ всё ещё не был готов окончательно смириться с тем, что его, народа, жизнь – это безденежное ничто в мире, где за всё надо платить. Бытие, сознание и деньги в России, таким образом, определялись ненавистью. Правда, народная ненависть вынужденно охлаждалась, разбавлялась насущной необходимостью выживать, длить безденежное ничто. Кажущаяся пассивность, социальная обезволенность народа принималась властью за неисчерпаемую покорность. «Неужели и это стерпишь?» – изумлялась власть, вводя «санитарный» – на пользование унитазом – или «тротуарный» – на износ под ногами пешеходов уличной плитки – налог. «Стерплю!» – бодро, как солдат Швейк садисту-врачу на медкомиссии, отвечал народ.
Никто не знал, когда из куколки народного смирения выпростается огненная бабочка революции. Да и выпростается ли? Вдруг куколка невозвратно окаменела? Вдруг уже растворилась в клейком студне?
Марксистская историческая наука основывалась на поступательном в плане общественного и экономического прогресса движении цивилизации – от первобытно-общинного строя к рабовладению, феодализму, капитализму, социализму и, наконец, к коммунизму как к пределу мечтаний человечества. Как должно вести себя общество, двинувшееся в обратном направлении – из социализма в капитализм, марксистская историческая наука не знала. Как раб, вдруг оказавшийся среди неандертальцев в племенной пещере? Или как клерк, узнавший, что отныне он – собственность директора конторы и тот может безнаказанно убить его, допустим, за опоздание на работу?
Какой, к чёрту, народ, какой литературный язык, расстроился Объёмов, зачем я приехал на эту конференцию? Разве только, посмотрел по сторонам, узнать, как тут у них – в предполье (термин ещё одного писателя – создателя теории этногенеза Льва Гумилёва) Европы – обстоят дела с народом, литературным языком, деньгами и… революцией?
Объёмов был единственным посетителем кафе, где ему был заказан устроителями конференции ужин. В данный момент он ожидал, что принесёт из неосвещённых кухонных глубин шустрая черноволосая, южно-славянского обличья буфетчица. Она успела сообщить Объёмову, что на сегодня ему был заказан ещё и обед, но он его пропустил, поэтому, если он проголодался, ужин может быть усилен, она так и сказала: усилен. Прислушиваясь к звяканью тарелок и гудению СВЧ-печи, – буфетчица почему-то орудовала в кухне, не включая света, – Объёмов прикидывал, возможно ли усилить ужин (хорошо бы в счёт пропущенного обеда) двумя-тремя рюмками водки, а если нет, примет ли буфетчица российские деньги.
Дело в том, что писатель Объёмов приехал на конференцию в Лиду своим ходом – на машине – из соседней с Белоруссией деревни в Псковской области. Там он жил летом в оставшемся от родителей, неровно обложенном белым кирпичом бревенчатом доме. От деревни до границы с Белоруссией было двадцать семь километров.
Дом требовал ремонта, но Объёмов тянул, не зная, нужен ли ему вообще этот дом – с дощатым, продуваемым ветром сортиром во дворе, маловодным колодцем в крапивных зарослях, полуразвалившейся русской печью, непросыхающим, чавкающим глиной погребом? Каждый раз, вылезая из пасти погреба, Объёмов выносил на галошах (только в них или в сапогах можно было там перемещаться) по килограмму, не меньше, рыжей глины на каждой ноге. В эти мгновения ему вспоминались знаменитые слова отказавшегося эмигрировать и вскоре отправленного на гильотину деятеля Великой французской революции Дантона: «Нельзя унести Отечество на подошвах своих сапог!» Можно, мрачно возражал французскому революционеру русский писатель Василий Объёмов, ещё как можно. И ведь… сколько ещё… Отечества останется в погребе. На миллион сапог, не меньше.
На участке, помимо дома, имелась древняя покосившаяся – издали она напоминала чёрный параллелограмм – баня под серо-зелёным от наросшего мха и нападавших веток и елочных иголок шифером. Словно в надвинутой на лоб косматой папахе, угрюмо высилась она на пригорке. Самое удивительное, что баня до сих пор исправно функционировала, и Объёмов иногда парился в ней, предварительно натаскав вёдрами в бак над печью дождевой воды.
Другие участники конференции должны были сначала прибыть в Минск, а уже оттуда на автобусе переместиться в Лиду. Объёмову показалось как-то не с руки нестись из деревни в Москву, вместе с другими членами российской делегации выдвигаться в Минск, потом снова возвращаться в Москву, а из Москвы – в деревню. Он рассудил, что из деревни проще. Эта простота сказывалась и на внешнем виде Объёмова. Он не держал в деревенском доме приличествующей международной конференции одежды. А потому выглядел сейчас как писатель, не только победительно (или пораженчески, большой разницы тут не было) переживающий нищету, но ещё и стилистически застрявший в конце девяностых годов, когда простые граждане России ходили в необъятных, как свалившаяся на них свобода, штанах, тусклых футболках и куртках с покатыми плечами. Гадкая и совершенно неуместная надпись «Sexy boy» украшала футболку Объёмова. Он прикрывал её полой куртки, как если бы скрывал во внутреннем кармане пистолет. Буфетчицу, впрочем, это мало беспокоило. Должно быть, в гостиничный буфет заглядывали разные посетители.
Объёмов не любил суету, полагал естественным состоянием для писателя одиночество. Вынужденные – под чужую дудку – путешествия нарушали гармонию пусть убогого, но привычного и устоявшегося бытия. Добровольные, напротив, скрашивали и разнообразили прижизненное (и, вероятно, пожизненное) ничтожество и одиночество – удел большинства русских писателей в первой половине XXI века. Словно сам Господь Бог переворачивал для успокоившегося в ничтожестве, обретшего в нём самодостаточность путешественника страницы огромной, с картинками живой книги. Чужая дудка стесняла и раздражала. Своя – божественная? – навевала иллюзию, что мир не так уж и безнадёжен, что ещё не всё потеряно, есть порох в пороховницах и песня до конца не пропета. Собственно, это и было истинной и, по мнению великого реформатора Мартина Лютера, правильной верой в Бога, потому что больше человеку не во что было верить в его стремительно пролетающей жизни.
Объёмов с удовольствием и без спешки (потому и не успел на обед, о котором, впрочем, не подозревал) проехал через всю Белоруссию, глядя на желтеющие осенние леса, ухоженные городки и посёлки, пробивающееся сквозь облака, как сквозь тонкое рваное ватное одеяло, слабеющее солнце.
Он слышал, что у России и Белоруссии какое-то Союзное государство. Однако могуче оборудованная – в терминалах, развязках, пунктах досмотра и смотровых вышках, не хватало только собак и колючей проволоки – граница невольно наводила на мысли об исчисленных сроках этого государства. Пока что машины свободно сновали в обе стороны, а камуфляжные и фуражечные люди по обе стороны границы занимались какими-то своими делами. Никто не проявил ни малейшего интереса к семилетнему объёмовскому «доджу-калиберу», не потребовал предъявить паспорт или приобретённую за семьсот пятьдесят рублей в одной из многочисленных приграничных будок автомобильную страховку.
Объёмов сверял маршрут с картой, уточнял путь у знающих людей на заправках, думал, как и положено в путешествии, о чём-то не сильно серьёзном и необязательном. Даже внезапный вечерний, простучавший по крыше машины ледяными пальцами град на подъезде к Лиде не смутил Объёмова, не «смазал» благостную «карту будня». Он легко отыскал гостиницу – она находилась в центре города, на берегу озера, напротив тщательно отреставрированной, как будто вчера возведённой краснокирпичной крепости с башнями, – поставил машину на платную охраняемую стоянку, отметился на reception, отнёс сумку с вещами и книгами в незамысловатый, как честная жизнь, номер.
После чего отправился ужинать в кафе на двадцатый этаж, где его поджидала приветливая буфетчица в вязаной кофте и обтягивающих (не по возрасту!) коротких чёрных брючках. У неё был выпирающий утюжком живот, которым она, хлопоча вокруг стола, несколько раз как бы невзначай натыкалась на Объёмова. Это его не то чтобы смутило, но слегка озадачило. Он и в мыслях не держал разгладиться под этим утюжком. Ладно, выпьем водки, рассудил Объёмов, а там видно будет.
Он давно заметил, что зрелые, как они классифицируются в неисчерпаемых, как вещь в себе, порноглубинах интернета (а буфетчице точно было за пятьдесят), женщины часто становятся странно и на первый взгляд немотивированно экзальтированы даже в абсолютно ничего не обещающем, бытовом, можно сказать, внеполовом присутствии мужчин. На суровом и зачастую тоже внеполовом склоне лет женщины за пятьдесят лет фантазируют и мечтают, как девочки, только взбирающиеся на сияющую вершину этого опасного и скользкого склона.
Самый искренний, вдохновенный, можно сказать, поэтический, но при этом решительно никак не связанный с реальностью монолог о любви Объёмов (невольно) услышал много лет назад в… дощатом, разделённом на две секции – «М» и «Ж» – сортире в деревне Костино Дмитровского района Московской области. В этой нечерноземной глуши он трудился летом в строительном отряде. Была такая практика в СССР – в обязательном порядке отправлять студентов после первого курса на стройки пятилетки. Кому выпадал героический БАМ, железная дорога Тюмень – Сургут, газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, а вот юному Объёмову выпало мешать раствор в бетономешалке при возведении трансформаторной подстанции на краю полузаброшенного, с васильками и жаворонками поля.
Помнится, как-то ночью он задумчиво курил, устроившись на корточках над очком в секции «М», смотрел сквозь широкие просветы в досках на яркие звёзды в бессмертном небе. Но тут послышались девичьи голоса, в соседней секции «Ж» ударила дверь.
«Я его люблю, люблю! Ты не представляешь, Нинка, какое это счастье – просыпаться утром и знать, что он есть. Я сразу начинаю думать о нём, что он сейчас делает, с кем разговаривает. Вижу Славкино лицо, глаза, слышу голос. Понимаешь, он как будто всё время со мной! Весь мир – это он! А когда он идёт навстречу по коридору, мне хочется зажмуриться, чтобы не ослепнуть, знаешь, как бухает сердце? Я… не знаю, как раньше жила, когда не знала, что живёт на свете такой человек… Славка…» «Да, Мань… – неопределённо отозвалась подруга, – а сам-то он… как?» «Не знаю, Нин, он есть, и всё, больше мне ничего не надо!»
После чего отвлечённый от созерцания звёзд Объёмов услышал мощный фыркающий шум (видать, девушки хорошо напились за ужином чая), фразу: «Чёрт, надо же, трусы перекрутились», удар двери и рассыпчатый затихающий топот. Он, естественно, узнал влюблённую ночную посетительницу дощатого заведения – комсорга их группы. Знал Объёмов и «человека Славку» – мрачного, не по годам пьющего сутулого паренька в неснимаемых очках с выпуклыми стёклами. Он был удивительно молчалив и неулыбчив. Угреватое, словно посыпанное перцем, лицо его оживлялось, только когда в обеденный перерыв собирали деньги на портвейн, решали, кого послать в магазин. Славка, как пионер, был всегда готов, но его не посылали, потому что до магазина было километра три, а Славка ходил медленно и как-то бочком. Даже делая скидку на провинциальный (кажется, она была из Липецка) background Маши, Объёмов не представлял, как можно ослепнуть от созерцания Славки. Разве только если в солнечный день смотреть ему в очки как в увеличительные стёкла…
Неужели, он поискал взглядом юркнувшую, как мышь в нору, в кухонный сумрак буфетчицу, я сейчас… выступаю в роли Славки?
По части выпить – точно. А вот по части любви…
Объёмов давно превратил себя в объект собственного же насмешливого наблюдения, полагая, что таким образом спасается от маразма. Больше ему по причине неизбывного одиночества наблюдать было не за кем. Интересно, есть в кухне… туалет, подумал Объёмов.
Судя по тому, что он по-прежнему был в кафе один, а освещена была только стойка бара, Объёмов сделал вывод, что гостиница не переполнена постояльцами. Предполье Европы определённо не казалось привлекательным разного рода искателям лучшей жизни и западной толерантности.
Буфетчица вынырнула из кухонных глубин с приколотым к свитеру бейджем «Каролина». Объёмов сначала подумал, что так называется гостиница, но потом вспомнил, что гостиница называется «Лида». Каролиной, стало быть, звали буфетчицу. Она не возражала усилить ужин водкой, но за стойкой, выбирая, из какой бутылки налить в графинчик, вдруг как-то задумалась. Объёмов быстро подкрепил просьбу двумя российскими сотенными купюрами.
– Тогда я вам… от души налью, – обрадовалась буфетчица, ставя перед ним одну за другой тарелки сусиленным ужином.
– Я столько не съем, – предупредил Объёмов. Похоже, невостребованные едоками в гостиничном кафе ветчинные и сырные нарезки, щедро сдобренные неестественно белым майонезом салаты, запаянные в плёнку, как в прозрачные доспехи, сосиски приближались к исчерпанию срока годности.
А, собственно, что здесь такого, расправил плечи писатель Объёмов, каждый мужик хоть раз в своей жизни побывал Славкой, а некоторые, так… – он подумал про брачных аферистов, – много, много раз. Кто сказал, что зрелые женщины не могут влюбляться с первого взгляда? Перед глазами Объёмова замельтешили картинки из соответствующих разделов интернетовских порнохабов. При чём здесь это, ужаснулся он.
Вдруг я ей просто понравился? – оторвался от неуместных, абсолютно, как давние мечтания комсорга их группы в секции «Ж», не связанных с реальностью видений Объёмов, с отвращением посмотрел на свою дремучую – когда успела выгореть на солнце? – куртку. Предложение усилить ужин водочкой в счёт пропущенного обеда, даже с присовокуплением двухсот российских рублей вряд ли могло усилить симпатии шустрой буфетчицы к незнакомому посетителю в позорной, исключающей всякие романтические иллюзии куртке.
Но бесповоротно смириться с этой мыслью Объёмову не позволяли остатки мужского самолюбия.
Или она от меня чего-то хочет? Но чего? Я абсолютно неперспективен по всем направлениям. Разве только… включилось писательское воображение – оно почему-то неизменно работало у Объёмова в режиме изначального, на грани шизофрении недоверия к окружающим людям, от которых он ожидал любых, в том числе труднообъяснимых с точки зрения здравого смысла, мерзостей, – она… хочет меня отравить. Зачем? А… в экспериментальном порядке: возможно, ей надо кого-то отравить, а на мне проверит действие яда…
Писательское воображение было весьма изобретательно, как сталинских времён следователь в поисках доказательств несуществующего заговора. Но без него жизнь Объёмова превратилась бы в пустоту. Собственно, литература и была для него поисками доказательств несуществующего (не только заговора, а… чего угодно), точнее существующего исключительно в его сознании. Другое дело, что найденные им доказательства не убеждали массового читателя в существовании объёмовского несуществующего. Но это была персональная беда Объёмова, как, впрочем, и многих других писателей, чьи произведения отскакивали от сознания массового читателя, как мячики, и улетали неизвестно куда.
Бред!
Надо быть добрее и проще, вздохнул Объёмов, смутно припомнив строчки из Уолта Уитмена. Если ты увидел человека и тебе захотелось поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним? Примерно так. Но воображение не желало отключаться, зловеще мерцало, как вышедший из повиновения, не реагирующий на кнопки компьютер. А может, так? Если ты встретил буфетчицу и тебе показалось, что она хочет тебя отравить, где гарантия, что она не хочет тебя отравить?