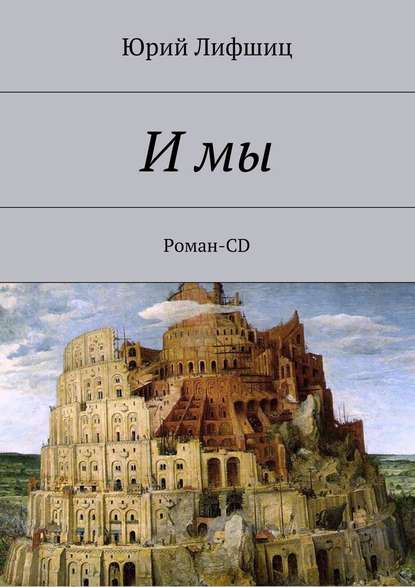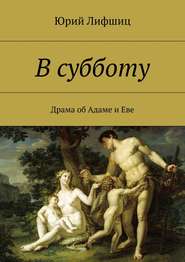По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
И мы. Роман-CD
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сапожник?
– Его сын.
– Вот дура! На кой тебе он сдался, – глухой, немой, слепой?
– Безрукий и безногий, – вздохнула Поулина и спохватилась: – Сам дурак! – Она машинально паковала вещи. – Я заберу холодильник и телевизор. Ты все равно не смотришь.
– И обхожусь без манны колбасной, – согласился Лившиц, отстукивая на клавиатуре текущий текст. – А как у него с корнеплодом?
– Свинья!
– Как у свиньи?!
– Скотина!
– Свинья или скотина? Либо то, либо другое.
– Либо ты!
– Я? – изумился Лившиц. – Не уходи, Поулина! Восклицательный знак. Мы с тобой еще не исчерпали всех моих ресурсов.
– Я ему нужна.
– Ты нужна всем. Во-первых, мне, твоему родному извергу, во-вторых, а в-третьих…
– Ему нужнее.
– Ну да, он тебя бить будет.
– Я его люблю, – не подумав, возразила Поулина.
И ушла, прихватив холодильник.
Пару недель спустя Лившиц встретил ее на панели: вся в синяках, под глазами круги, она потемнела, осунулась лицом, раздобрела корпусом, зрачки помутневших глаз ширились от счастья.
«Чем это он ее? – завистливо подумал Лившиц. – Какая она красивая стала, вся такая беременная!»
В его редкие сновидения все чаще стал просачиваться сын сапожника. Оседлав корнеплод, он нетопырем порхал над Йорском и сыпал матерными пророчествами.
Сеансы полуночной магии стали достопримечательностью. Йорчане и гости города сходились на Костоломской площади, бесперебойно лузгали подсолнухи и с ностальгическим восторгом комментировали экспрессивные проповеди. Время от времени сборище топорщилось от мегафонного чавканья матострелковой милиции.
Глухонемой обкладывал пространство мозаичными проклятиями. На стену многоэтажной мэрии карабкались альпинисты с электрогитарами. У памятника Тленину цыганские дети среднеазиатских народов оптом и в розницу услаждали слух интернациональной попсой. Городской поэт и голова Маклай Саратов в четыре руки затачивал под рифму речи летучего экстрасенса. Местечковый партайгеноссе Яша Бейжидов с братанами-нибелунгами по союзу «Бурёж» рыскал среди себе подобных, разыскивая ненаших. Подруги Тапочка и Т.М.Катерпиллер, любимые друг другом, пробирались на панель. Древний грек Шоколадзе, почетный житель Йорска, прямой потомок Герострата по материнской линии, бродил в толпе с походным мангалом наизготовку, торгуя третьеводнишними кот-догами. Так он зарабатывал себе на хлеб.
– Побойтесь Бога! – ярился новый йорский Контрацептус. – Вот я вас!
Но его никто не боялся.
Лившиц остался совсем один. Если не считать кошки Мошки. Но ее, набравшись храбрости, можно было единым духом сбросить со счетов. Тем более что она, отсидев свое на сухой диете из вермишели, вскорости сама покончила с собой через форточку. Но неудачно: поскучневшую великопостницу сняла с асфальта все та же Поулина.
Они нашли общий язык на почве йорской тушенки и общеполовой солидарности. Мошка тоже была не той, за кого ее принимали, не той, за кого она себя выдавала и какой казалась самой себе. Она умела летать. Вдоль времени, поперек пространства и обратно. Сверху вниз и наоборот. Во всех мыслимых и немыслимых измерениях сразу и попеременно. Разрывая земное притяжение и сплющивая неземное. Что удается далеко не каждой кошке. Тем более не каждой женщине. А Мошка была истинной женщиной (в подреберном понимании этого слова), как и Поулина – подлинной кошкой.
Идеальная женщина долго не давалась Лившицу. Она была стройной, но не мощеобразной; красавицей, но не фарфоровой; раскованной, но не развязной; общительной, но не болтливой; веселой, но не пустосмешкой; умницей, но по-женски; все понимающей (прежде всего – самое себя), но незаметно для мужчин; отличной хозяйкой, но не идиоткой от стерильности; пикантной, но не страдающей врожденными мигренями; знающей толк в сексе, но не озабоченной сексуально; мягкой, но не периной; ослепительной, но не сучкой; настоящей, но не мегерой; еще той, но не стервой.
Эксперимента ради Лившиц поместил в «Хроникальном Йорске», радикально умеренной газетке для пожилых цыплят, личную версию матримониальной иллюзии. Изложив на бумаге необходимые плюсы предполагаемой подруги по объявлению, он присовокупил пару слов и о себе. Безработный, бесхозный, безалаберный, беспробудный, безразмерный, бесконвойный, беззаботный, бессловесный, бездомный, беспорточный, безобразный, бескозырный мужчина прустовского возраста домогается исключительно брачного контракта и готов от избытка генитальной мощи возложить бремя на кого Бог пошлет.
После чего Лившицу пришлось бегать по чердакам, подвалам, катакомбам, конурам, дачам, канализациям, вокзалам, антресолям и травмпунктам. Женщины, девушки и бабушки забросали его фотографиями, пирожками и нижним бельем без крылышек; атаковали поротно, повзводно и поодиночке; рвали на части, частицы и античастицы. Лягались за право первой и последней ночи, за право приодеть и подбросить деньжат всех цветов радуги, хранить верность и наставлять законные рога. В заметке были четко проставлены – от и до – возрастные размеры, но йорские леди школьно-пенсионного диапазона опирались на исторический опыт сопланетчиц и могли перебить кости всякому ограничителю (половому – в том числе). Так случилось и на этот раз. Так Лившиц впервые сошел с ума. Так он познакомился с Поулиной.
Она явилась, сгребла его в охапку и отнесла к себе домой, после чего – с первой попытки – пинками отшила многоразовых претенденток на его исхудавшую руку и изможденное тело. До сердца дело обычно не доходило.
Поулина оказалась классической подругой жизни, хотя относительно лившицких представлений ее формы отличались в одну сторону, содержимое – в другую. Это ему понравилось. В этом ощущался известный субстанциональный смак. Формальный, допустим, избыток, перетекая в содержательный, предположим, недостаток, рассуждал Лившиц, генерирует оптимальное напряжение, необходимое для немордобойного союза разнополой пары. Тогда как наружно-нутряной абсолют супруги взмучивает в супруге отнюдь не гармонические грезы, а метафизические угрызения по поводу собственного несовершенства и разгильдяйства. Он же, разгильдяйничая духом и телом, нипочем не желал угрызаться. Как ни странно, Лившиц оказался совершенным – ровно настолько, насколько таковыми казались его прародители.
Он был профессиональным читателем и работал по специальности. Он прочитывал книги быстрее, чем опорожнял стопку. Всасывал их в себя, как аэротруба. Глотал, как шпаги – глотатель. По корешку догадывался о содержании; по титульному листу постигал суть; наскоро перелистав, запоминал наизусть, навечно и неизвестно на кой. Его норма – 200 книг в день – постоянно вы- и перевыполнялась. Если под рукой оказывалась книга, Лившиц уже не мог. Книги были для него ахилловым щитом, полетом валькирий, платоновой пещерой, магеллановым проливом, электронной почтой. Он читал даже газеты, даже «Хроникальный Йорск» (главный редактор – Неолид Хазаров), даже «Йорский Известняк» (главный редактор – Лярусса М), в натуре, честное слово, век воли не видать, есть свидетели, зуб дам. И не был похож ни на энциклопедическую передвижку, ни на сборный цитатник, ни на картезианскую впадину мудрости.
Единственный и неповторимый талант Лившица пришелся ко двору одного-двух его йорских современников, охочих до интеллектуального медку, отцеженного из разноплеменных сот. То да се, преломить бы культурную пайку, а жевать не с кем да и недосуг, особенно, когда кругом сплошная дамская и – тем более – вандамская суета. А ты, тебе, с тобой плюс конкретные бабсы, хотя бы и в рублевом исполнении.
И Лившиц пал на дно библиотек. Когда естественное и потому любимое ничегонеделание сопровождается реальным соцобеспечением, уже не стоит глотать жизнь большими кусками, а, нарезав на дольки, следует употреблять с чувством ежесекундного удовлетворения, с толковой партнершей, с расстановкой сервиза, если о нем кто-нибудь предварительно озаботился. У Поулины сервиз имелся, и сердце книжного червя, обожавшего фарфоровую хрупкость, млело от предвкушения, вкушения и послевкусия.
О коньячном нектаре, водочной амброзии и этиловом эликсире можно и не упоминать. А раз уж упомянуто… В доме было налито во все: от громокипящих кубков до тазиков из-под варенья. Отворились спиртовые шлюзы, разверзлись старковые хляби, забили ромовые ручьи, растеклись озера виски, заскворчали фонтаны бренди и текиловые водопады. Если же дело доходило до пива, к женатому отшельнику съезжались Очаков, Бадаевский, Невский, Толстяк, Афанасий, Шихан, Бочкарев, Медведев-Белый, Мельников-старший и прочая шпана. Вобла текла и вялилась рекой. Вино Лившиц не уважал.
Лившиц читал и предоставлял работодателям эксклюзивные сводки о прочитанном в текстовом, дискетном либо лекционном виде, когда к нему вламывались с нижайшими просьбами предстать, не усугубляя рукотворными градусами свои природные 36,6. Скрепя сердце и внутренности каким-нибудь неместным зельем, Лившиц представал. В смокинге, манишке и бабочке на босу ногу он выглядел фешенебельно по сравнению с самим собою диванным, библиотечным и нересторанным. Это ему шло, но и не шло тоже. Он наскоро одухотворял элиту жмыхом своего умозрительного времяпрепровождения, многократно опрокидывал и в совершенно нереспектабельном виде препровождался домой в какой-нибудь «беэмвошке», заблаговременно подставленной хозяйскими мордохранителями и теловоротами под его интеллигентные, но размягченные сугубым употреблением члены.
Пытка счастьем длилась бы, наверное, до сих пор, если бы Лившиц не нарвался на дуэль. Сладкая жизнь завершилась ударом шпаги. И рана-то оказалась невсамделишная, так себе царапина, не о чем говорить, а вот поди ж ты…
«Глянул я на него, – рассказывал потом Лившиц, – а он так ехидно смотрит: дескать, иди, ждут тебя, не задерживай! или слабо? Разозлился я, была не была, где наша не пропадала, прорвемся! Шагнул – и как там и был: в правой руке – шпага, в левой – кинжал, а сам я – легкий, почти невесомый, веселый, злой, я таким и не был отродясь. Глядь, а передо мной – другой, и тоже со шпагой и кинжалом. Ну, я прошу его заняться делом, атаковать всерьез. Подозреваю, вы, как с мальчишкой, возитесь со мной. И замешкался-то на мгновение. Только шпагу поудобнее перехватил, а тот как полоснет по руке. Я и не почувствовал ничего, а на рукаве – кровь. Если б не кровь, я бы так не распсиховался. Изловчился, выбил у него шпагу, так и есть: заточена. А ведь уговор был, честь по чести, бой-то тренировочный. Вижу, смутился он и уже не так резво железкой машет. Поднапер я и аккурат в самую грудь ему шпагу и всадил. Чуть ли не по рукоять. Он так и рухнул.
Все меня обступили, что-то говорят, я что-то отвечаю, а сам ничего понять не могу, словно мне кто-то дыхание перекрывает, хватает за горло, все сильнее, сильнее, задыхаюсь, ноги-руки ватные, голова тяжелеет, сознание теряю. Так и отошел, не приходя в себя…»
Трек 02
Если бы я был Лившицем,
говаривал Гегельян за кружкой пива, я бы написал такой рассказ.
Представьте себе абсолютный мрак. Космическую полночь. Вселенское отсутствие света. Никакой определенности, никакого намека на дискретность. Совершенное ничто. Бытие, взятое со знаком минус. Инобытие. Нежизнь. Не жизнь… но и не смерть. Ибо кое-какое различение все же намечается. Точнее – зарождается. Здесь, продолжал Гегельян прихлебывая, необъяснимая, потому труднопонимаемая часть рассказа. Каким образом в абсолютном ничто возникает нечто? Однако оно возникает. И это надо принять, постараться усвоить, постигнуть или поверить на слово, хотя в этом месте повествования не было и не могло быть никаких слов. Произносимых сию секунду – тоже. Вам придется поверить, говорил Гегельян, иначе не будет никакого рассказа, а значит, и самого Лившица. А без него, сами понимаете…
Итак, в бесконечном отсутствии чего бы то ни было появляется точка, не имеющая, как сказано в геометрии, никаких размеров, следовательно – безразмерная, следовательно – зародыш всего на свете, в том числе и света как такового. Точка уже есть, но вместе с тем – еще нет, раз она не сознает самое себя, не ощущает ни времени, ни пространства. Причем, втолковывал Гегельян, ни времени, ни пространства тоже нет. Пока нет.
И вдруг (это слово будет выбегать в исторически значимые моменты повествования, первое время – довольно часто), и вдруг мрак начинает сгущаться – вокруг точки и благодаря ее возникновению. Абсолютная ночь в течение, скажем, нескольких миллиардов лет уплотняется, пока в конце концов (в нашем случае это эквивалент слова «вдруг») не вспыхивает свет. Свет – как следствие внутренней работы этой точки, как способ воздействия на точку, испытавшую безотчетное, но сверхъестественное потрясение при переходе из одного состояния в другое. В дальнейшем потрясение мало-помалу уляжется, ибо смена света и тьмы обретет известную цикличность (день – ночь), но созидательный импульс – мгновенный и сверхмощный – уже получен, и нечто в виде точки теперь можно смело начинать с прописной буквы. Что я и сделаю, продолжал Гегельян.
В Нечто завязывается росток жизни. Начинается бессознательное постижение только что произведенного на свет пространственно-временного конгломерата, постижение в виде ощущений, принципиально отличающихся от человеческих чувств. Первичные ощущения Нечто следовало бы назвать категориальными: переход из одного качества в другое, накопление количественной / временной информации, смена состояний (ночь – покой, день – импульс, побуждающий к действию) и пр. Нечто пока не чувствует ограничений ни внутри, ни снаружи. Но через какие-то, условно говоря, миллионы лет количество измерений / ощущений Нечто возрастет беспредельно. Между тем в поле его существования – внутреннем или внешнем, пока неясно и неважно – формируется настоящий космос, во всем своем макро- и микро- многообразии. Образуются сонмы галактик, планетных систем, звезд, пульсаров, черных дыр и т.п., состоящих из молекул, атомов, ядер, частиц, античастиц и т. д.
Но главное – в Нечто постепенно пробуждается сознание, поначалу довольно примитивное, затем более тонкое и даже изощренное. Нечто учится усваивать и постигать как внешний / внутренний мир, так и самое себя. Оно учится видеть / чувствовать и спустя сотни тысяч лет неожиданно для себя и весьма отчетливо видит одну из планет, сразу же начиная ощущать неразрывную с нею связь – прочную, непосредственную и в то же время опосредованную не совсем явной и до конца не реализованной своею возможностью творить все из ничего. Планета независимо от него – будто что-то может не зависеть от Нечто! – то приближается, то отдаляется, и оно долго не может понять, в чем дело, пока не научается осуществлять свои внутренние либо внешние приближения к данному объекту.
В каждое из таких приближений (кстати говоря, их вполне можно считать посещениями), в каждое такое посещение на планете что-то происходит. Взвихривается атмосфера, взбухают океаны, вздымаются горы, возникают флора и фауна, – все это очень напоминает Землю во всем ее ветхозаветном великолепии, благополучии и безгрешности. Будем, наконец, называть вещи своими именами, как-то неожиданно громко возопил Гегельян (видимо, уже под влиянием пивных паров) и, пригубив свеженького, перешел к следующей части рассказа: наша планета и есть Земля, и она готова ко всему.
Острейший интерес испытывает Нечто к необычным существам, впрочем, их можно сразу назвать людьми и нечего наводить тень на плетень. Люди пашут землю, возделывают сады, выращивают овощи, разводят скот, готовят нехитрую еду, едят, пьют, спят, поют песни, веселятся, печалятся, ссорятся, но быстро забывают о своих ссорах, ибо не могут долго сердиться друг на друга. Порою у них появляются дети, и это очень занимает Нечто. Иногда люди молятся, чаще всего – женщины, и тогда Нечто обволакивается испариной самых противоречивых желаний. Оно пока не умеет их разбирать, не понимает их смысла, и, может быть, оттого в нем зарождается сострадание к людям – а это уже совсем, совсем по-человечески.
Когда в одной семье между двумя родными братьями вспыхивает очередная ссора, Нечто поначалу не очень обращает на них внимание: люди вечно о чем-то спорят. Старший брат, земледелец, прежде чем принести на алтарь плоды дела рук своих, долго постился, молился, отскребал от себя духовную скверну, наконец тщательно мылся, умащивался благовониями и облекался в чистые одежды. Только после этого, захватив заблаговременно испеченный хлеб, собственноручно вымытые овощи и фрукты и полный кувшин виноградного вина, чистый, свежий и благоуханный, отправился к алтарю. Младший же брат, пастырь овец, приперся к святилищу как есть, прямо с поля, в засаленном овчинном кожушке, грязный, потный, нечесаный, небритый, и старым зазубренным ножом со следами запекшейся крови прямо на алтаре, с пошлыми шутками-прибаутками, принялся пилить горло вонючему барану, обрекая животину на бессмысленные страдания. Стреноженная скотина жутко взблеивает, захлебывается предсмертным хрипом, а бедный старший брат едва успевает уберечь свои чистые приношения от неосвященной идоложертвенной крови.
– Его сын.
– Вот дура! На кой тебе он сдался, – глухой, немой, слепой?
– Безрукий и безногий, – вздохнула Поулина и спохватилась: – Сам дурак! – Она машинально паковала вещи. – Я заберу холодильник и телевизор. Ты все равно не смотришь.
– И обхожусь без манны колбасной, – согласился Лившиц, отстукивая на клавиатуре текущий текст. – А как у него с корнеплодом?
– Свинья!
– Как у свиньи?!
– Скотина!
– Свинья или скотина? Либо то, либо другое.
– Либо ты!
– Я? – изумился Лившиц. – Не уходи, Поулина! Восклицательный знак. Мы с тобой еще не исчерпали всех моих ресурсов.
– Я ему нужна.
– Ты нужна всем. Во-первых, мне, твоему родному извергу, во-вторых, а в-третьих…
– Ему нужнее.
– Ну да, он тебя бить будет.
– Я его люблю, – не подумав, возразила Поулина.
И ушла, прихватив холодильник.
Пару недель спустя Лившиц встретил ее на панели: вся в синяках, под глазами круги, она потемнела, осунулась лицом, раздобрела корпусом, зрачки помутневших глаз ширились от счастья.
«Чем это он ее? – завистливо подумал Лившиц. – Какая она красивая стала, вся такая беременная!»
В его редкие сновидения все чаще стал просачиваться сын сапожника. Оседлав корнеплод, он нетопырем порхал над Йорском и сыпал матерными пророчествами.
Сеансы полуночной магии стали достопримечательностью. Йорчане и гости города сходились на Костоломской площади, бесперебойно лузгали подсолнухи и с ностальгическим восторгом комментировали экспрессивные проповеди. Время от времени сборище топорщилось от мегафонного чавканья матострелковой милиции.
Глухонемой обкладывал пространство мозаичными проклятиями. На стену многоэтажной мэрии карабкались альпинисты с электрогитарами. У памятника Тленину цыганские дети среднеазиатских народов оптом и в розницу услаждали слух интернациональной попсой. Городской поэт и голова Маклай Саратов в четыре руки затачивал под рифму речи летучего экстрасенса. Местечковый партайгеноссе Яша Бейжидов с братанами-нибелунгами по союзу «Бурёж» рыскал среди себе подобных, разыскивая ненаших. Подруги Тапочка и Т.М.Катерпиллер, любимые друг другом, пробирались на панель. Древний грек Шоколадзе, почетный житель Йорска, прямой потомок Герострата по материнской линии, бродил в толпе с походным мангалом наизготовку, торгуя третьеводнишними кот-догами. Так он зарабатывал себе на хлеб.
– Побойтесь Бога! – ярился новый йорский Контрацептус. – Вот я вас!
Но его никто не боялся.
Лившиц остался совсем один. Если не считать кошки Мошки. Но ее, набравшись храбрости, можно было единым духом сбросить со счетов. Тем более что она, отсидев свое на сухой диете из вермишели, вскорости сама покончила с собой через форточку. Но неудачно: поскучневшую великопостницу сняла с асфальта все та же Поулина.
Они нашли общий язык на почве йорской тушенки и общеполовой солидарности. Мошка тоже была не той, за кого ее принимали, не той, за кого она себя выдавала и какой казалась самой себе. Она умела летать. Вдоль времени, поперек пространства и обратно. Сверху вниз и наоборот. Во всех мыслимых и немыслимых измерениях сразу и попеременно. Разрывая земное притяжение и сплющивая неземное. Что удается далеко не каждой кошке. Тем более не каждой женщине. А Мошка была истинной женщиной (в подреберном понимании этого слова), как и Поулина – подлинной кошкой.
Идеальная женщина долго не давалась Лившицу. Она была стройной, но не мощеобразной; красавицей, но не фарфоровой; раскованной, но не развязной; общительной, но не болтливой; веселой, но не пустосмешкой; умницей, но по-женски; все понимающей (прежде всего – самое себя), но незаметно для мужчин; отличной хозяйкой, но не идиоткой от стерильности; пикантной, но не страдающей врожденными мигренями; знающей толк в сексе, но не озабоченной сексуально; мягкой, но не периной; ослепительной, но не сучкой; настоящей, но не мегерой; еще той, но не стервой.
Эксперимента ради Лившиц поместил в «Хроникальном Йорске», радикально умеренной газетке для пожилых цыплят, личную версию матримониальной иллюзии. Изложив на бумаге необходимые плюсы предполагаемой подруги по объявлению, он присовокупил пару слов и о себе. Безработный, бесхозный, безалаберный, беспробудный, безразмерный, бесконвойный, беззаботный, бессловесный, бездомный, беспорточный, безобразный, бескозырный мужчина прустовского возраста домогается исключительно брачного контракта и готов от избытка генитальной мощи возложить бремя на кого Бог пошлет.
После чего Лившицу пришлось бегать по чердакам, подвалам, катакомбам, конурам, дачам, канализациям, вокзалам, антресолям и травмпунктам. Женщины, девушки и бабушки забросали его фотографиями, пирожками и нижним бельем без крылышек; атаковали поротно, повзводно и поодиночке; рвали на части, частицы и античастицы. Лягались за право первой и последней ночи, за право приодеть и подбросить деньжат всех цветов радуги, хранить верность и наставлять законные рога. В заметке были четко проставлены – от и до – возрастные размеры, но йорские леди школьно-пенсионного диапазона опирались на исторический опыт сопланетчиц и могли перебить кости всякому ограничителю (половому – в том числе). Так случилось и на этот раз. Так Лившиц впервые сошел с ума. Так он познакомился с Поулиной.
Она явилась, сгребла его в охапку и отнесла к себе домой, после чего – с первой попытки – пинками отшила многоразовых претенденток на его исхудавшую руку и изможденное тело. До сердца дело обычно не доходило.
Поулина оказалась классической подругой жизни, хотя относительно лившицких представлений ее формы отличались в одну сторону, содержимое – в другую. Это ему понравилось. В этом ощущался известный субстанциональный смак. Формальный, допустим, избыток, перетекая в содержательный, предположим, недостаток, рассуждал Лившиц, генерирует оптимальное напряжение, необходимое для немордобойного союза разнополой пары. Тогда как наружно-нутряной абсолют супруги взмучивает в супруге отнюдь не гармонические грезы, а метафизические угрызения по поводу собственного несовершенства и разгильдяйства. Он же, разгильдяйничая духом и телом, нипочем не желал угрызаться. Как ни странно, Лившиц оказался совершенным – ровно настолько, насколько таковыми казались его прародители.
Он был профессиональным читателем и работал по специальности. Он прочитывал книги быстрее, чем опорожнял стопку. Всасывал их в себя, как аэротруба. Глотал, как шпаги – глотатель. По корешку догадывался о содержании; по титульному листу постигал суть; наскоро перелистав, запоминал наизусть, навечно и неизвестно на кой. Его норма – 200 книг в день – постоянно вы- и перевыполнялась. Если под рукой оказывалась книга, Лившиц уже не мог. Книги были для него ахилловым щитом, полетом валькирий, платоновой пещерой, магеллановым проливом, электронной почтой. Он читал даже газеты, даже «Хроникальный Йорск» (главный редактор – Неолид Хазаров), даже «Йорский Известняк» (главный редактор – Лярусса М), в натуре, честное слово, век воли не видать, есть свидетели, зуб дам. И не был похож ни на энциклопедическую передвижку, ни на сборный цитатник, ни на картезианскую впадину мудрости.
Единственный и неповторимый талант Лившица пришелся ко двору одного-двух его йорских современников, охочих до интеллектуального медку, отцеженного из разноплеменных сот. То да се, преломить бы культурную пайку, а жевать не с кем да и недосуг, особенно, когда кругом сплошная дамская и – тем более – вандамская суета. А ты, тебе, с тобой плюс конкретные бабсы, хотя бы и в рублевом исполнении.
И Лившиц пал на дно библиотек. Когда естественное и потому любимое ничегонеделание сопровождается реальным соцобеспечением, уже не стоит глотать жизнь большими кусками, а, нарезав на дольки, следует употреблять с чувством ежесекундного удовлетворения, с толковой партнершей, с расстановкой сервиза, если о нем кто-нибудь предварительно озаботился. У Поулины сервиз имелся, и сердце книжного червя, обожавшего фарфоровую хрупкость, млело от предвкушения, вкушения и послевкусия.
О коньячном нектаре, водочной амброзии и этиловом эликсире можно и не упоминать. А раз уж упомянуто… В доме было налито во все: от громокипящих кубков до тазиков из-под варенья. Отворились спиртовые шлюзы, разверзлись старковые хляби, забили ромовые ручьи, растеклись озера виски, заскворчали фонтаны бренди и текиловые водопады. Если же дело доходило до пива, к женатому отшельнику съезжались Очаков, Бадаевский, Невский, Толстяк, Афанасий, Шихан, Бочкарев, Медведев-Белый, Мельников-старший и прочая шпана. Вобла текла и вялилась рекой. Вино Лившиц не уважал.
Лившиц читал и предоставлял работодателям эксклюзивные сводки о прочитанном в текстовом, дискетном либо лекционном виде, когда к нему вламывались с нижайшими просьбами предстать, не усугубляя рукотворными градусами свои природные 36,6. Скрепя сердце и внутренности каким-нибудь неместным зельем, Лившиц представал. В смокинге, манишке и бабочке на босу ногу он выглядел фешенебельно по сравнению с самим собою диванным, библиотечным и нересторанным. Это ему шло, но и не шло тоже. Он наскоро одухотворял элиту жмыхом своего умозрительного времяпрепровождения, многократно опрокидывал и в совершенно нереспектабельном виде препровождался домой в какой-нибудь «беэмвошке», заблаговременно подставленной хозяйскими мордохранителями и теловоротами под его интеллигентные, но размягченные сугубым употреблением члены.
Пытка счастьем длилась бы, наверное, до сих пор, если бы Лившиц не нарвался на дуэль. Сладкая жизнь завершилась ударом шпаги. И рана-то оказалась невсамделишная, так себе царапина, не о чем говорить, а вот поди ж ты…
«Глянул я на него, – рассказывал потом Лившиц, – а он так ехидно смотрит: дескать, иди, ждут тебя, не задерживай! или слабо? Разозлился я, была не была, где наша не пропадала, прорвемся! Шагнул – и как там и был: в правой руке – шпага, в левой – кинжал, а сам я – легкий, почти невесомый, веселый, злой, я таким и не был отродясь. Глядь, а передо мной – другой, и тоже со шпагой и кинжалом. Ну, я прошу его заняться делом, атаковать всерьез. Подозреваю, вы, как с мальчишкой, возитесь со мной. И замешкался-то на мгновение. Только шпагу поудобнее перехватил, а тот как полоснет по руке. Я и не почувствовал ничего, а на рукаве – кровь. Если б не кровь, я бы так не распсиховался. Изловчился, выбил у него шпагу, так и есть: заточена. А ведь уговор был, честь по чести, бой-то тренировочный. Вижу, смутился он и уже не так резво железкой машет. Поднапер я и аккурат в самую грудь ему шпагу и всадил. Чуть ли не по рукоять. Он так и рухнул.
Все меня обступили, что-то говорят, я что-то отвечаю, а сам ничего понять не могу, словно мне кто-то дыхание перекрывает, хватает за горло, все сильнее, сильнее, задыхаюсь, ноги-руки ватные, голова тяжелеет, сознание теряю. Так и отошел, не приходя в себя…»
Трек 02
Если бы я был Лившицем,
говаривал Гегельян за кружкой пива, я бы написал такой рассказ.
Представьте себе абсолютный мрак. Космическую полночь. Вселенское отсутствие света. Никакой определенности, никакого намека на дискретность. Совершенное ничто. Бытие, взятое со знаком минус. Инобытие. Нежизнь. Не жизнь… но и не смерть. Ибо кое-какое различение все же намечается. Точнее – зарождается. Здесь, продолжал Гегельян прихлебывая, необъяснимая, потому труднопонимаемая часть рассказа. Каким образом в абсолютном ничто возникает нечто? Однако оно возникает. И это надо принять, постараться усвоить, постигнуть или поверить на слово, хотя в этом месте повествования не было и не могло быть никаких слов. Произносимых сию секунду – тоже. Вам придется поверить, говорил Гегельян, иначе не будет никакого рассказа, а значит, и самого Лившица. А без него, сами понимаете…
Итак, в бесконечном отсутствии чего бы то ни было появляется точка, не имеющая, как сказано в геометрии, никаких размеров, следовательно – безразмерная, следовательно – зародыш всего на свете, в том числе и света как такового. Точка уже есть, но вместе с тем – еще нет, раз она не сознает самое себя, не ощущает ни времени, ни пространства. Причем, втолковывал Гегельян, ни времени, ни пространства тоже нет. Пока нет.
И вдруг (это слово будет выбегать в исторически значимые моменты повествования, первое время – довольно часто), и вдруг мрак начинает сгущаться – вокруг точки и благодаря ее возникновению. Абсолютная ночь в течение, скажем, нескольких миллиардов лет уплотняется, пока в конце концов (в нашем случае это эквивалент слова «вдруг») не вспыхивает свет. Свет – как следствие внутренней работы этой точки, как способ воздействия на точку, испытавшую безотчетное, но сверхъестественное потрясение при переходе из одного состояния в другое. В дальнейшем потрясение мало-помалу уляжется, ибо смена света и тьмы обретет известную цикличность (день – ночь), но созидательный импульс – мгновенный и сверхмощный – уже получен, и нечто в виде точки теперь можно смело начинать с прописной буквы. Что я и сделаю, продолжал Гегельян.
В Нечто завязывается росток жизни. Начинается бессознательное постижение только что произведенного на свет пространственно-временного конгломерата, постижение в виде ощущений, принципиально отличающихся от человеческих чувств. Первичные ощущения Нечто следовало бы назвать категориальными: переход из одного качества в другое, накопление количественной / временной информации, смена состояний (ночь – покой, день – импульс, побуждающий к действию) и пр. Нечто пока не чувствует ограничений ни внутри, ни снаружи. Но через какие-то, условно говоря, миллионы лет количество измерений / ощущений Нечто возрастет беспредельно. Между тем в поле его существования – внутреннем или внешнем, пока неясно и неважно – формируется настоящий космос, во всем своем макро- и микро- многообразии. Образуются сонмы галактик, планетных систем, звезд, пульсаров, черных дыр и т.п., состоящих из молекул, атомов, ядер, частиц, античастиц и т. д.
Но главное – в Нечто постепенно пробуждается сознание, поначалу довольно примитивное, затем более тонкое и даже изощренное. Нечто учится усваивать и постигать как внешний / внутренний мир, так и самое себя. Оно учится видеть / чувствовать и спустя сотни тысяч лет неожиданно для себя и весьма отчетливо видит одну из планет, сразу же начиная ощущать неразрывную с нею связь – прочную, непосредственную и в то же время опосредованную не совсем явной и до конца не реализованной своею возможностью творить все из ничего. Планета независимо от него – будто что-то может не зависеть от Нечто! – то приближается, то отдаляется, и оно долго не может понять, в чем дело, пока не научается осуществлять свои внутренние либо внешние приближения к данному объекту.
В каждое из таких приближений (кстати говоря, их вполне можно считать посещениями), в каждое такое посещение на планете что-то происходит. Взвихривается атмосфера, взбухают океаны, вздымаются горы, возникают флора и фауна, – все это очень напоминает Землю во всем ее ветхозаветном великолепии, благополучии и безгрешности. Будем, наконец, называть вещи своими именами, как-то неожиданно громко возопил Гегельян (видимо, уже под влиянием пивных паров) и, пригубив свеженького, перешел к следующей части рассказа: наша планета и есть Земля, и она готова ко всему.
Острейший интерес испытывает Нечто к необычным существам, впрочем, их можно сразу назвать людьми и нечего наводить тень на плетень. Люди пашут землю, возделывают сады, выращивают овощи, разводят скот, готовят нехитрую еду, едят, пьют, спят, поют песни, веселятся, печалятся, ссорятся, но быстро забывают о своих ссорах, ибо не могут долго сердиться друг на друга. Порою у них появляются дети, и это очень занимает Нечто. Иногда люди молятся, чаще всего – женщины, и тогда Нечто обволакивается испариной самых противоречивых желаний. Оно пока не умеет их разбирать, не понимает их смысла, и, может быть, оттого в нем зарождается сострадание к людям – а это уже совсем, совсем по-человечески.
Когда в одной семье между двумя родными братьями вспыхивает очередная ссора, Нечто поначалу не очень обращает на них внимание: люди вечно о чем-то спорят. Старший брат, земледелец, прежде чем принести на алтарь плоды дела рук своих, долго постился, молился, отскребал от себя духовную скверну, наконец тщательно мылся, умащивался благовониями и облекался в чистые одежды. Только после этого, захватив заблаговременно испеченный хлеб, собственноручно вымытые овощи и фрукты и полный кувшин виноградного вина, чистый, свежий и благоуханный, отправился к алтарю. Младший же брат, пастырь овец, приперся к святилищу как есть, прямо с поля, в засаленном овчинном кожушке, грязный, потный, нечесаный, небритый, и старым зазубренным ножом со следами запекшейся крови прямо на алтаре, с пошлыми шутками-прибаутками, принялся пилить горло вонючему барану, обрекая животину на бессмысленные страдания. Стреноженная скотина жутко взблеивает, захлебывается предсмертным хрипом, а бедный старший брат едва успевает уберечь свои чистые приношения от неосвященной идоложертвенной крови.