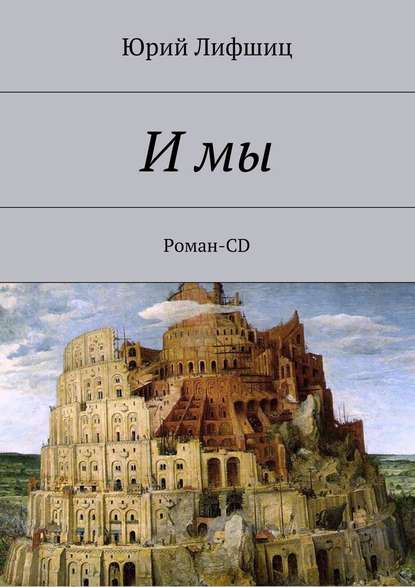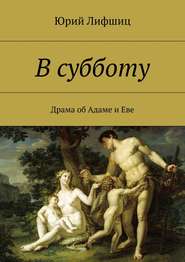По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
И мы. Роман-CD
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дай вина! – требует младший, кое-как прикончив барана, и, не дождавшись разрешения, не отерев рук, хватает кувшин и присасывается к узкой глиняной горловине.
Пьет он жадно, неряшливо, чистое вино нового урожая стекает по его бороде, по вонючей овчине прямо на алтарь, смешивается с черной бараньей кровью. Старший не выдерживает.
– Отдай, свинья! – говорит он, выхватывая у брата кувшин.
Младший мутно глядит на брата тупыми до отвращения глазами. Когда же до него доходит сказанное, он свирепеет и ловким ударом посоха разбивает кувшин. Старший отшатывается. Остатки вина заплескивают хлеб, овощи и фрукты. Теперь они непригодны для обряда.
– Недоносок! – старший с омерзением смотрит на брата, бросает прочь ручку от кувшина и резко поворачивается, чтобы уйти.
Младший набрасывается на него сзади, сбивает с ног, грузно наваливается, крепко прижимает к земле, изрыгая грязные проклятия. Старший пытается вывернуться из-под жирной туши, шарит руками по земле, нащупывает нечто бесформенное, с острыми краями…
Опомнившись, он долго смотрит на окровавленную голову мертвеца, на свои руки, перепачканные кровью брата, на потемневшую от крови ослиную челюсть…
Нет, считать Нечто Богом пока рано, останавливает Гегельян преждевременные догадки пьющих, завороженных пивом и повествованием, и, похоже, догадавшихся, о ком идет речь. И хотя оно, сострадая как убитому, так и братоубийце, глубоко переживает по поводу безвинно пролитой крови, отвлеченные боль и жалость еще никого не делают Сущностью всего. В полной мере Бог проявится в этой истории только через десятки столетий. А пока… братоубийство и бесконечные войны, развязанные потомками старшего брата, побуждают Нечто всерьез заняться изучением самого себя, созданного им мира и своих взаимоотношений с этим миром. Время от времени Нечто удается каким-то образом прекратить текущее кровопролитие. А порой буквально на ровном месте, из ничего, завязывается многолетняя вражда между самыми близкими друзьями, семьями, даже странами, и Нечто ничего не может с этим поделать. Оно уже ясно понимает свою причастность ко всему на свете, свою творческую первопричинность, но механизм воздействия на Землю и на события, там происходящие, ускользает от осмысления. Нечто вполне сознательно берет на себя ответственность за все им сотворенное и намеревается во что бы то ни стало обезвредить свое непрерывное, бесконечное и, как показывает история, разворачивающаяся перед ним, не всегда позитивное влияние.
Увы, это легче подумать, чем осуществить. Впервые Нечто сознает свое бессилие, невозможность выразить себя целиком и полностью, поведать кому бы то ни было о себе и своих замыслах. Оно сознает… сознает… запинается явно косеющий от не своего рассказа Гегельян… собственное несовершенство, собравшись с силами, выпи… выпаливает он. Что же тогда требовать от людей? Их надо принимать такими, каковы они есть, какими они сотворены. Их не переделаешь, не пересоздашь. Эта мысль, подкрепленная внезапно проступившим и очень неуютным ощущением небеспредельности сотворенного универсума, погружает Нечто в бесконечную тоску. Скорбь и безысходность надолго, если не навсегда, овладевают им. Тоска стала бы совсем непереносимой, если бы…
Если бы оно, то есть он, нет, все-таки оно… Гегельян сбивается, наливает, пьет, снова наливает – через край льешь! – спохватывается и, опомнившись, то есть выпив, продолжает: если бы Он внезапно не увидел… Себя, неуверенно бредущего по Земле. Подлинность, натуральность, а с другой стороны, какая-то сверхъестественность происходящего завораживают Его. Он – Тот же Самый и в то же время Другой – оживший, живой, из плоти и крови, в здравом уме и трезвой памяти. Но это не раздвоение, нет, это целокупность бытия, полнота осуществления, еще одно, может быть, самое важное, самое необходимое измерение…
Под ногами пыль, над головою солнце, жарко, но Он не чувствует жары. Он внимательно смотрит на горы, на реку, сверкающую вдали, на солнце, словно… вглядывается в Себя… и не узнает. Потому что Он… человек. Он – человек.
Он подходит к группе полуобнаженных людей, совершающих ритуальное омовение. Один из них, похожий на бесноватого, преклоняет пред Ним колена, и… что-то вроде недостоин развязать сандалии на ногах Твоих, Господи. Точно, бесноватый, думает Он, ведь Мои ноги босы, а Я всего лишь человек. Он тоже снимает одежды и входит в воду…
Происходит необъяснимое, потому неизбежное. Везде, где бы Он ни проходил, Его приветствуют, славят, поют осанну, называют Спасителем, Сыном Божьим. У Него появляются друзья, сторонники, последователи. У Него даже отыскивается Мать, седая старушка, и Он испытывает непередаваемое волнение от слов «Сын мой! Вернулся!» Все словно чего-то ждут от Него, ожидание концентрируется в коротком, емком и маловразумительном слове – чудо. Однажды Он, задумавшись, прошелся по воде, и толпа в благоговейном страхе пала перед Ним ниц. Ему стало стыдно. Совестно творить чудеса на глазах у тех, кому это не дано. Более того. Совестно быть Богом среди людей. Гораздо благородней, будучи Богом во плоти, все-таки оставаться человеком и, оставаясь им, отказаться от права на всяческие чудеса. Чудо как средство убеждения, как предикат веры – запрещенный прием. Уверуй – и это будет самое настоящее чудо. Но бедные люди страстно желали иных чудес, нетерпение толпы принимало самые болезненные, порой самоубийственные формы. Толпа хотела чуда, и Он подарил ей чудо. Он… заговорил:
– Благословенны слепые, ибо они прозреют.
– Благословенны нагие, ибо они облекутся в одежды.
– Благословенны заключенные, ибо они освободятся от оков.
– Благословенны согбенные, ибо они распрямят спину.
– Благословенны усталые, ибо они обретут силы.
– Благословенны бодрствующие, ибо они уснут сладким сном.
– Благословенны смертные, ибо для них создан этот мир…
Больше для людей Он ничего сделать не мог.
Многие потрясены Его речами, сотни людей ходят за Ним по пятам, кое-кто называет себя Его учеником. Но в целом толпа испытывает разочарование: если мертвые не оживают – какое же это чудо? И так было везде, куда бы Он ни направлял стопы Свои. Как раскрыть людям глаза, не прибегая к чуду, Он не знает. Впрочем, от чудес тоже не много проку. Значит, Его миссия на Земле обречена на провал. Значит, обречен и Он Сам.
Вскоре Его действительно предают, и Он принимает это как должное. Он не промолвил ни слова, когда солдаты вели Его сквозь беснующуюся толпу. Он добровольно, даже не помышляя спастись, отдал Себя в руки врагов Своих. Для Него Самого, пришедшего указать людям спасительный путь, спасения не было, и Он это знал. Своим явлением Он Сам отрезал пути к нему. Иначе и быть не могло. На Земле Он был человеком и обязан был поступать по-человечески. Когда Ему в руку забивали первый гвоздь, Он понял, каково это – быть человеком, состоять из плоти и крови, испытывать не метафизическую, а настоящую боль. Он закричал и на какое-то время лишился сознания.
Когда Он пришел в Себя, то, кроме нечеловеческой боли, почувствовал еще кое-что. Он сначала не понял, что именно почудилось, привиделось или, быть может, приснилось Ему на кресте, ибо невозможно, будучи Распятым, заниматься Самопознанием, исследовать пределы Собственного Я. Но некоторое время спустя Он (в своем новом – крестном – состоянии) ясно ощутил… Собственные границы. Какая-то невидимая и довольно упругая пленка окружала Его и созданный Им мир. Мысленно и – кто знает? – может быть, не только мысленно Он натыкался на нее, и это причиняло Ему дополнительные страдания. Что это за пленка, Он не знал, а сумбурные предположения на этот счет, тлевшие в Его воспаленном мозгу, не освещались даже искрой вероятности. Постепенно в Нем созрело едва ли осуществимое в Его положении намерение выйти на свободу из этой пространственной или, быть может, внепространственной тюрьмы. И чем больше Он этого хотел, тем больнее, как Ему казалось, впивались гвозди в Его ноги и руки. Если бы Ему удалось найти выход, то, вполне возможно, и крестные муки сошли бы на нет. Или же их не было бы вовсе, не окажись Он в одиночной камере… Своего духа?
Несколько часов ждал Он смерти. Он не мог ускорить ее прихода, не мог Своевольно прекратить Своих страданий, ибо, вернувшись туда, откуда пришел, Он был бы не вправе считать Себя чьим бы то ни было отцом, тем более Отцом небесным. Настоящий Отец должен знать, на что Он обрекает своих детей. Но более всего угнетало Его замкнутое пространство, очень похожее на своеобразный орех с упругой оболочкой, где Он, по всей видимости, оказался с самого начала. Ранее, по Своей беспомощности и слепоте, Он не замечал никаких ограничений, а теперь просто физически – благодаря тем, кто пригвоздил Его к кресту (как ни чудовищно это звучит!) – физически ощущал не имеющую ни конца, ни начала скорлупу, неизвестно кем (неужели Им Самим?) воздвигнутую вокруг Него и Его мира. Он чувствовал беззащитность, неуверенность, безысходность, страх.
С Землей тоже творилось невообразимое. Сначала разодралась посредине завеса в ближайшем храме. Потом покосился и рухнул сам храм. Солнце исчезло, небо заволоклось клубящейся чернотой, хищные клювы молний впивались в землю, громобойная канонада крошила пространство и время, черные тучи налились оловянной жидкостью, заходили ходуном безумные смерчи, вспухли океанские волны – Он Сам и Его Вселенная, два полюса, две точки или, вернее, две взаимопроникающие сферы Его существования находились на грани катастрофы, и Ему было до слез жаль навсегда утратить Себя Самого и Свой мир. Но более всего Ему до смерти захотелось воссоединиться со Своим Отцом – стать наконец Самим Собою, то есть… Богом, Кем Он, собственно говоря, и был изначально.
И вот, когда томление достигло предела; когда непреходящая тоска заставила Его биться на кресте в бессознательных попытках прорвать треклятую и удивительно гибкую оболочку; когда в то же самое время гигантские массы дождевой и океанской воды разом обрушились на сушу; когда вспучилась и полопалась земная кора островов и материков; когда в чудовищные земляные разломы стали проваливаться целые селения и даже города, а люди – гибнуть десятками, сотнями, тысячами тысяч, – только тогда Он прозрел. Он наконец понял, каким образом следовало устраивать земные дела, как можно было сохранить Землю в первозданном виде, сделать жизнь людей безоблачной и счастливой. Но было уже поздно. Он не мог, не должен был, не имел права остановить светопреставление, тем более – отменить Распятие.
– Отче! – из последних сил воскликнул Он. – В руки Твои предаю дух Мой!
И дух Его, навсегда покидая человеческое тело и сотворенный мир, точнее – телесную оболочку этого мира, – рванулся навстречу Отцу… на встречу – с Отцом…
Раздался немыслимый в земных условиях взрыв. Земля раскололась на миллионы кусков разной величины – и в ту же секунду пленка, окутывавшая Его, разверзлась, и Его буквально ослепил пронзительный свет, по своей глубине и мощи сравнимый разве что со светом, некогда потрясшим точку, зародыш Его погибшей Вселенной. Он рванулся к пролому, напрягся, выскользнул на свободу и… едва не задохнулся от собственного крика…
– Какой крикун, – удовлетворенно пробасил акушер, принимая младенца. – Килограмма на четыре потянет…
Последнюю фразу произнес уже не рассказчик, а сам Лившиц, под утро забредший к Гегельяну на огонек и заставший компанию в антирефлекторном состоянии. Все спали мертвецки, и только Гегельян, засыпая, все еще продолжал по инерции ворочать отяжелевшим языком…
– Так я и родился, – тихо сказал Лившиц, только чтобы как-то закончить затянувшийся рассказ, много лет назад начатый трезвым Гегельяном, и, стараясь никого не разбудить, вышел из дома спящих наружу.
Трек 03
– Что это значит —
бытие, взятое со знаком минус?
– Вас что интересует: минус или взятое, то есть то, что берет?
– Гм, пожалуй, минус. С теми, кто берет, знаете ли, хлопот не оберешься.
– Хорошо. Есть несколько вариантов. А именно: антибытие; небытие; не бытие, а что-то другое; далее – инобытие, то есть бытие иного рода; наконец, просто отрицательное или, как говорил один мой знакомый, отрижительное бытие. Вспомните Стагирита, у него это хорошо прописано.
– Не знаю, не слыхал. А нельзя ли как-нибудь попроще?
– Можно. Возьмем, к примеру…
– Возьмем?! И вы туда же!
– Какой же вы, право… Хорошо. Есть фраза… Так пойдет?
– Вполне.
– Есть фраза: «Я хочу спать». В свете нашей беседы ее можно видоизменить, как минимум, трояко. «Не я хочу спать». «Я не хочу спать». «Я хочу не спать». Каждое из этих утверждений имеет особый смысл, а по отношению к первоначальному является отрицанием. Это азбука логики.
– Понятно. Значит, мы с вами рассуждаем о бытии этой фразы?
– Мы с вами… М-да… Безусловно. Бытие наличествует у всех и у всего. Говоря точнее, оно дано. Людям, животным, неодушевленным предметам, ну, я не знаю, произведениям искусства… А! Вот вам любопытный пример. Возьмем… простите великодушно, всем известную «Антигону».
– Эсхила? Знаю.
– Софокла. Но это неважно. Как можно словесно оформить отрицательное бытие «Антигоны»?
– Ну, и вопросик! Так… если есть Антигона… значит, есть Анти, а это отрицание. Так?
Пьет он жадно, неряшливо, чистое вино нового урожая стекает по его бороде, по вонючей овчине прямо на алтарь, смешивается с черной бараньей кровью. Старший не выдерживает.
– Отдай, свинья! – говорит он, выхватывая у брата кувшин.
Младший мутно глядит на брата тупыми до отвращения глазами. Когда же до него доходит сказанное, он свирепеет и ловким ударом посоха разбивает кувшин. Старший отшатывается. Остатки вина заплескивают хлеб, овощи и фрукты. Теперь они непригодны для обряда.
– Недоносок! – старший с омерзением смотрит на брата, бросает прочь ручку от кувшина и резко поворачивается, чтобы уйти.
Младший набрасывается на него сзади, сбивает с ног, грузно наваливается, крепко прижимает к земле, изрыгая грязные проклятия. Старший пытается вывернуться из-под жирной туши, шарит руками по земле, нащупывает нечто бесформенное, с острыми краями…
Опомнившись, он долго смотрит на окровавленную голову мертвеца, на свои руки, перепачканные кровью брата, на потемневшую от крови ослиную челюсть…
Нет, считать Нечто Богом пока рано, останавливает Гегельян преждевременные догадки пьющих, завороженных пивом и повествованием, и, похоже, догадавшихся, о ком идет речь. И хотя оно, сострадая как убитому, так и братоубийце, глубоко переживает по поводу безвинно пролитой крови, отвлеченные боль и жалость еще никого не делают Сущностью всего. В полной мере Бог проявится в этой истории только через десятки столетий. А пока… братоубийство и бесконечные войны, развязанные потомками старшего брата, побуждают Нечто всерьез заняться изучением самого себя, созданного им мира и своих взаимоотношений с этим миром. Время от времени Нечто удается каким-то образом прекратить текущее кровопролитие. А порой буквально на ровном месте, из ничего, завязывается многолетняя вражда между самыми близкими друзьями, семьями, даже странами, и Нечто ничего не может с этим поделать. Оно уже ясно понимает свою причастность ко всему на свете, свою творческую первопричинность, но механизм воздействия на Землю и на события, там происходящие, ускользает от осмысления. Нечто вполне сознательно берет на себя ответственность за все им сотворенное и намеревается во что бы то ни стало обезвредить свое непрерывное, бесконечное и, как показывает история, разворачивающаяся перед ним, не всегда позитивное влияние.
Увы, это легче подумать, чем осуществить. Впервые Нечто сознает свое бессилие, невозможность выразить себя целиком и полностью, поведать кому бы то ни было о себе и своих замыслах. Оно сознает… сознает… запинается явно косеющий от не своего рассказа Гегельян… собственное несовершенство, собравшись с силами, выпи… выпаливает он. Что же тогда требовать от людей? Их надо принимать такими, каковы они есть, какими они сотворены. Их не переделаешь, не пересоздашь. Эта мысль, подкрепленная внезапно проступившим и очень неуютным ощущением небеспредельности сотворенного универсума, погружает Нечто в бесконечную тоску. Скорбь и безысходность надолго, если не навсегда, овладевают им. Тоска стала бы совсем непереносимой, если бы…
Если бы оно, то есть он, нет, все-таки оно… Гегельян сбивается, наливает, пьет, снова наливает – через край льешь! – спохватывается и, опомнившись, то есть выпив, продолжает: если бы Он внезапно не увидел… Себя, неуверенно бредущего по Земле. Подлинность, натуральность, а с другой стороны, какая-то сверхъестественность происходящего завораживают Его. Он – Тот же Самый и в то же время Другой – оживший, живой, из плоти и крови, в здравом уме и трезвой памяти. Но это не раздвоение, нет, это целокупность бытия, полнота осуществления, еще одно, может быть, самое важное, самое необходимое измерение…
Под ногами пыль, над головою солнце, жарко, но Он не чувствует жары. Он внимательно смотрит на горы, на реку, сверкающую вдали, на солнце, словно… вглядывается в Себя… и не узнает. Потому что Он… человек. Он – человек.
Он подходит к группе полуобнаженных людей, совершающих ритуальное омовение. Один из них, похожий на бесноватого, преклоняет пред Ним колена, и… что-то вроде недостоин развязать сандалии на ногах Твоих, Господи. Точно, бесноватый, думает Он, ведь Мои ноги босы, а Я всего лишь человек. Он тоже снимает одежды и входит в воду…
Происходит необъяснимое, потому неизбежное. Везде, где бы Он ни проходил, Его приветствуют, славят, поют осанну, называют Спасителем, Сыном Божьим. У Него появляются друзья, сторонники, последователи. У Него даже отыскивается Мать, седая старушка, и Он испытывает непередаваемое волнение от слов «Сын мой! Вернулся!» Все словно чего-то ждут от Него, ожидание концентрируется в коротком, емком и маловразумительном слове – чудо. Однажды Он, задумавшись, прошелся по воде, и толпа в благоговейном страхе пала перед Ним ниц. Ему стало стыдно. Совестно творить чудеса на глазах у тех, кому это не дано. Более того. Совестно быть Богом среди людей. Гораздо благородней, будучи Богом во плоти, все-таки оставаться человеком и, оставаясь им, отказаться от права на всяческие чудеса. Чудо как средство убеждения, как предикат веры – запрещенный прием. Уверуй – и это будет самое настоящее чудо. Но бедные люди страстно желали иных чудес, нетерпение толпы принимало самые болезненные, порой самоубийственные формы. Толпа хотела чуда, и Он подарил ей чудо. Он… заговорил:
– Благословенны слепые, ибо они прозреют.
– Благословенны нагие, ибо они облекутся в одежды.
– Благословенны заключенные, ибо они освободятся от оков.
– Благословенны согбенные, ибо они распрямят спину.
– Благословенны усталые, ибо они обретут силы.
– Благословенны бодрствующие, ибо они уснут сладким сном.
– Благословенны смертные, ибо для них создан этот мир…
Больше для людей Он ничего сделать не мог.
Многие потрясены Его речами, сотни людей ходят за Ним по пятам, кое-кто называет себя Его учеником. Но в целом толпа испытывает разочарование: если мертвые не оживают – какое же это чудо? И так было везде, куда бы Он ни направлял стопы Свои. Как раскрыть людям глаза, не прибегая к чуду, Он не знает. Впрочем, от чудес тоже не много проку. Значит, Его миссия на Земле обречена на провал. Значит, обречен и Он Сам.
Вскоре Его действительно предают, и Он принимает это как должное. Он не промолвил ни слова, когда солдаты вели Его сквозь беснующуюся толпу. Он добровольно, даже не помышляя спастись, отдал Себя в руки врагов Своих. Для Него Самого, пришедшего указать людям спасительный путь, спасения не было, и Он это знал. Своим явлением Он Сам отрезал пути к нему. Иначе и быть не могло. На Земле Он был человеком и обязан был поступать по-человечески. Когда Ему в руку забивали первый гвоздь, Он понял, каково это – быть человеком, состоять из плоти и крови, испытывать не метафизическую, а настоящую боль. Он закричал и на какое-то время лишился сознания.
Когда Он пришел в Себя, то, кроме нечеловеческой боли, почувствовал еще кое-что. Он сначала не понял, что именно почудилось, привиделось или, быть может, приснилось Ему на кресте, ибо невозможно, будучи Распятым, заниматься Самопознанием, исследовать пределы Собственного Я. Но некоторое время спустя Он (в своем новом – крестном – состоянии) ясно ощутил… Собственные границы. Какая-то невидимая и довольно упругая пленка окружала Его и созданный Им мир. Мысленно и – кто знает? – может быть, не только мысленно Он натыкался на нее, и это причиняло Ему дополнительные страдания. Что это за пленка, Он не знал, а сумбурные предположения на этот счет, тлевшие в Его воспаленном мозгу, не освещались даже искрой вероятности. Постепенно в Нем созрело едва ли осуществимое в Его положении намерение выйти на свободу из этой пространственной или, быть может, внепространственной тюрьмы. И чем больше Он этого хотел, тем больнее, как Ему казалось, впивались гвозди в Его ноги и руки. Если бы Ему удалось найти выход, то, вполне возможно, и крестные муки сошли бы на нет. Или же их не было бы вовсе, не окажись Он в одиночной камере… Своего духа?
Несколько часов ждал Он смерти. Он не мог ускорить ее прихода, не мог Своевольно прекратить Своих страданий, ибо, вернувшись туда, откуда пришел, Он был бы не вправе считать Себя чьим бы то ни было отцом, тем более Отцом небесным. Настоящий Отец должен знать, на что Он обрекает своих детей. Но более всего угнетало Его замкнутое пространство, очень похожее на своеобразный орех с упругой оболочкой, где Он, по всей видимости, оказался с самого начала. Ранее, по Своей беспомощности и слепоте, Он не замечал никаких ограничений, а теперь просто физически – благодаря тем, кто пригвоздил Его к кресту (как ни чудовищно это звучит!) – физически ощущал не имеющую ни конца, ни начала скорлупу, неизвестно кем (неужели Им Самим?) воздвигнутую вокруг Него и Его мира. Он чувствовал беззащитность, неуверенность, безысходность, страх.
С Землей тоже творилось невообразимое. Сначала разодралась посредине завеса в ближайшем храме. Потом покосился и рухнул сам храм. Солнце исчезло, небо заволоклось клубящейся чернотой, хищные клювы молний впивались в землю, громобойная канонада крошила пространство и время, черные тучи налились оловянной жидкостью, заходили ходуном безумные смерчи, вспухли океанские волны – Он Сам и Его Вселенная, два полюса, две точки или, вернее, две взаимопроникающие сферы Его существования находились на грани катастрофы, и Ему было до слез жаль навсегда утратить Себя Самого и Свой мир. Но более всего Ему до смерти захотелось воссоединиться со Своим Отцом – стать наконец Самим Собою, то есть… Богом, Кем Он, собственно говоря, и был изначально.
И вот, когда томление достигло предела; когда непреходящая тоска заставила Его биться на кресте в бессознательных попытках прорвать треклятую и удивительно гибкую оболочку; когда в то же самое время гигантские массы дождевой и океанской воды разом обрушились на сушу; когда вспучилась и полопалась земная кора островов и материков; когда в чудовищные земляные разломы стали проваливаться целые селения и даже города, а люди – гибнуть десятками, сотнями, тысячами тысяч, – только тогда Он прозрел. Он наконец понял, каким образом следовало устраивать земные дела, как можно было сохранить Землю в первозданном виде, сделать жизнь людей безоблачной и счастливой. Но было уже поздно. Он не мог, не должен был, не имел права остановить светопреставление, тем более – отменить Распятие.
– Отче! – из последних сил воскликнул Он. – В руки Твои предаю дух Мой!
И дух Его, навсегда покидая человеческое тело и сотворенный мир, точнее – телесную оболочку этого мира, – рванулся навстречу Отцу… на встречу – с Отцом…
Раздался немыслимый в земных условиях взрыв. Земля раскололась на миллионы кусков разной величины – и в ту же секунду пленка, окутывавшая Его, разверзлась, и Его буквально ослепил пронзительный свет, по своей глубине и мощи сравнимый разве что со светом, некогда потрясшим точку, зародыш Его погибшей Вселенной. Он рванулся к пролому, напрягся, выскользнул на свободу и… едва не задохнулся от собственного крика…
– Какой крикун, – удовлетворенно пробасил акушер, принимая младенца. – Килограмма на четыре потянет…
Последнюю фразу произнес уже не рассказчик, а сам Лившиц, под утро забредший к Гегельяну на огонек и заставший компанию в антирефлекторном состоянии. Все спали мертвецки, и только Гегельян, засыпая, все еще продолжал по инерции ворочать отяжелевшим языком…
– Так я и родился, – тихо сказал Лившиц, только чтобы как-то закончить затянувшийся рассказ, много лет назад начатый трезвым Гегельяном, и, стараясь никого не разбудить, вышел из дома спящих наружу.
Трек 03
– Что это значит —
бытие, взятое со знаком минус?
– Вас что интересует: минус или взятое, то есть то, что берет?
– Гм, пожалуй, минус. С теми, кто берет, знаете ли, хлопот не оберешься.
– Хорошо. Есть несколько вариантов. А именно: антибытие; небытие; не бытие, а что-то другое; далее – инобытие, то есть бытие иного рода; наконец, просто отрицательное или, как говорил один мой знакомый, отрижительное бытие. Вспомните Стагирита, у него это хорошо прописано.
– Не знаю, не слыхал. А нельзя ли как-нибудь попроще?
– Можно. Возьмем, к примеру…
– Возьмем?! И вы туда же!
– Какой же вы, право… Хорошо. Есть фраза… Так пойдет?
– Вполне.
– Есть фраза: «Я хочу спать». В свете нашей беседы ее можно видоизменить, как минимум, трояко. «Не я хочу спать». «Я не хочу спать». «Я хочу не спать». Каждое из этих утверждений имеет особый смысл, а по отношению к первоначальному является отрицанием. Это азбука логики.
– Понятно. Значит, мы с вами рассуждаем о бытии этой фразы?
– Мы с вами… М-да… Безусловно. Бытие наличествует у всех и у всего. Говоря точнее, оно дано. Людям, животным, неодушевленным предметам, ну, я не знаю, произведениям искусства… А! Вот вам любопытный пример. Возьмем… простите великодушно, всем известную «Антигону».
– Эсхила? Знаю.
– Софокла. Но это неважно. Как можно словесно оформить отрицательное бытие «Антигоны»?
– Ну, и вопросик! Так… если есть Антигона… значит, есть Анти, а это отрицание. Так?