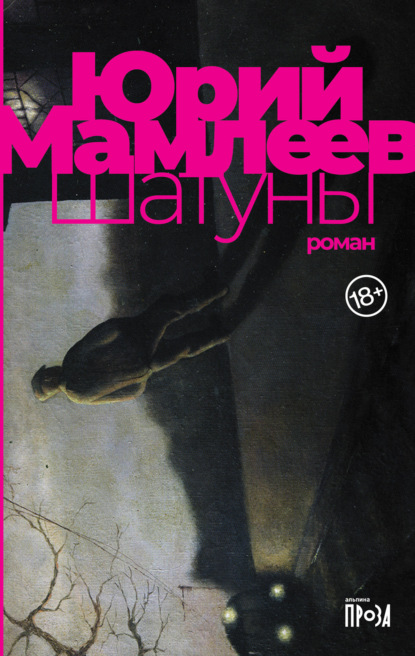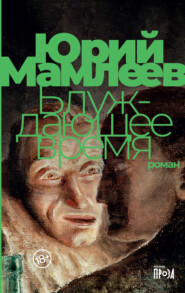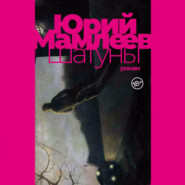По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шатуны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пел он надрывно-животно, выхаркивая слова промеж гнилых зубов. Песня была бессмысленно-уголовная. Наконец, Фёдор, подтянув штаны, встал и, похлопав себя по заднице, как бы пошёл вперёд, точно в мозгу его родилась мысль.
Идти было видимо-невидимо. Наконец, свернул он в глухой лес. Деревья уже давно здесь росли без прежней стихии, одухотворённые: не то что они были обгажены блевотиной или бумагой, а просто изнутри светились мутным человеческим разложением и скорбию. Не травы уже это были, а обрезанные человеческие души.
Фёдор пошёл стороной, не по тропке. И вдруг через час навстречу ему издалека показался тёмный человеческий силуэт. Потом он превратился в угловатую фигуру парня лет двадцати шести. Соннов сначала не реагировал на него, но потом вдруг проявил какую-то резкую, мёртвую заинтересованность.
– Нет ли закурить? – угрюмо спросил он у парня.
Тот, с весёлой оживлённой мордочкой, пошарил в карманах, как в собственном члене.
И в этот момент Фёдор, судорожно крякнув, как будто опрокидывая в себя стакан водки, всадил в живот парня огромный кухонный нож. Таким ножом обычно убивают крупное кровяное животное.
Прижав парня к дереву, Фёдор пошуровал у него в животе ножом, как будто хотел найти и убить там ещё что-то живое, но неизвестное. Потом спокойно положил убиенного на Божию травку и оттащил чуть в сторону, к полянке.
В это время высоко в чёрном небе обнажилась луна. Мертвенно-золотой свет облил поляну, шевелящиеся травы и пни.
Фёдор, лицо которого приняло благостное выражение, присел на пенёк, снял шапку перед покойным и полез ему в карман, чтобы найти пачпорт. Деньги не тронул, а в пачпорт посмотрел, чтобы узнать имя.
– Приезжий, издалека, Григорий, – умилился Соннов. – Небось домой ехал.
Движения его были уверенные, покойные, чуть ласковые; видимо, он совершал хорошо ему знакомое дело.
Вынул из кармана свёрток с бутербродами и, разложив их на газетке, у головы покойного, с аппетитом, не спеша стал ужинать. Ел сочно, не гнушаясь крошками. Наконец, покойно собрал остатки еды в узелок.
– Ну вот, Гриша, – обтирая рот, промолвил Соннов, – теперь и поговорить можно… А?! – и он ласково потрепал Григория по мёртвой щеке.
Потом крякнул и расселся поудобней, закурив.
– Расскажу-ка я тебе, Григорий, о своём житье-бытье, – продолжал Соннов, на лице которого погружённость в себя вдруг сменилась чуть самодовольным доброжелательством. – Но сначала о детстве, о том, кто я такой и откудава я взялся. То есть о радетелях. Папаня мой всю поднаготную о себе мне рассказал, так что я её тебе переговорю. Отец мой был простой человек, юрковатый, но по сердцу суровай. Без топора на людях минуты не проводил. Так-то… И если б окружало его столько же мякоти, сколько супротивления… О бабах он печалился, не с брёвнами же весь век проводить. И всё не мог найти. И наконец нашёл тую, которая пришлась ему по вкусу, а мне матерью… Долго он её испытывал. Но самое последнее испытание папаня любил вспоминать. Было, значит, Григорий, у отца деньжат тьма-тьмущая. И поехал он раз с матерью моей, с Ириной, значит, в глухой лес, в одинокую избу. А сам дал ей понять, что у него там деньжищ припрятано и никто об этом не знает. То-то… И так обставил, что матерь решила, про поездку эту никто не знает, а все думают, что папаня уехал один на работы, на целый год… Всё так подвёл, чтоб мамашу в безукоризненный соблазн ввести, и если б она задумала его убить, чтоб деньги присвоить, то она могла б это безопасно для себя обставить. Понял, Григорий? – Соннов чуть замешкался.
Трудно было подумать раньше, что он может быть так разговорчив.
Он продолжал:
– Ну вот сидит папаня вечерком в глухой избушке с матерью моей, с Ириной. И прикидывается эдаким простачком. И видит: Ирина волнуется, а скрыть хочет. Но грудь белая так ходуном и ходит. Настала ночь. Папаня прилёг на отдельную кровать и прикинулся спящим. Храпит. А сам всё чует. Тьма настала. Вдруг слышит: тихонько, тихонько встаёт матерь, дыханье еле дрожит. Встаёт и идёт в угол – к топору. А топор у папани был огромадный – медведя пополам расколоть можно. Взяла Ирина топор в руки, подняла и еле слышно идёт к отцовской кровати. Совсем близко подошла. Только замахнулась, папаня ей рраз – ногой в живот. Вскочил и подмял под себя. Тут же её и поимел. От этого зачатия я и родился… А отец Ирину из-за этого случая очень полюбил. Сразу же на следующий день – под венец, в церкву… Век не разлучался. «Понимающая, – говорил про неё. – Не рохля. Если б она на меня с топором не пошла – никогда бы не женился на ей. А так сразу увидал – баба крепкая… Без слезы». И с этими словами он обычно похлопывал её по заднице. А матерь не смущалась: только скалила сердитую морду, а отца уважала… Вот от такого зачатия с почти убийством я и произошёл… Ну что молчишь, Григорий, – вдруг тень пробежала по лицу Фёдора. – Иль не ладно рассказываю, дурак?!
Видно, непривычное многословие ввергло Фёдора в некоторую истерику. Не любил он говорить.
Наконец Соннов встал. Подтянул штаны. Наклонился к мёртвому лицу.
– Ну где ты, Григорий, где ты? – вдруг запричитал он. Его зверское лицо чуть обабилось. – Где ты? Ответь?! Куда спрятался, сукин кот?! Под пень, под пень спрятался?! Думаешь, сдох, так от меня схоронился?! А?! Знаю, знаю, где ты!!! Не уйдёшь!!! Под пень спрятался!
И Соннов вдруг подошёл к близстоящему пню и в ярости стал пинать его ногой. Пень был гнилой и стал мелко крошиться под его ударами.
– Куда спрятался, сукин кот?! – завопил Фёдор. Вдруг остановился. – Где ты, Григорий?! Где ты?! С тобою ли говорю?! А может, ты ухмыляесси? Отвечай!
«Отвечай… ай!» – отозвалось эхо.
Луна вдруг скрылась. Тьма охватила лес, и деревья слились с темнотой.
Соннов глухо урча, ломая невидимые ветви, скрылся в лесу…
Поутру, когда поднялось солнце, поляна словно изнутри пронзилась теплом и жизнью: засветились деревья и травы, булькала вода глубоко в земле…
Под деревом, как сгнившее, выброшенное бревно, лежал труп. Никто не видел и не тревожил его. Вдруг из-за кустов показался человек; похрюкивая, он равнодушно оглядывался по сторонам. Это был Фёдор. Тот же потёртый пиджак висел на нём помятым мешком.
Он не смог уйти куда-нибудь далеко и заночевал в лесу, у поваленного дерева, с какой-то тупой уверенностью, что всё обойдётся для него благополучно.
Теперь он, видимо, решил проститься с Григорием.
На лице его не было и следа прежней ночной истерики: оно было втянуто во внутрь себя и на внешний мир смотрело ошалело-недоумевающе. Наконец Фёдор нашёл, как обычно находят грибы, труп Григория.
Свойски присел рядом.
Его идиотская привычка жевать около умершего сказывалась и сейчас. Фёдор развернул сверток и позавтракал.
– Ну, Григорий, не ты первый, не ты последний, – вдруг неожиданно пробормотал он после долгого и безразличного молчания. И уставился не столько на лоб покойного, сколько на пустое пространство вокруг него.
– Недоговорил я многого, – вдруг сказал Соннов. – Темно стало. Сейчас скажу, – было непонятно, к кому он теперь обращался: на труп Фёдор уже совсем не глядел. – Ребятишек нас у матери было двое: я и сестра Клавдия. Но мать моя меня пужалась из-за моей глупости. В кровь я её бил, втихаря, из-за того, что не знал, кто я есть и откудава я появился. Она на живот указывает, а я ей говорю: «Не то отвечаешь, стерва… Не про то спрашиваю…» Долго ли мало ли, уж молодым парнем поступил я на спасательную станцию. Парень я был тогда кудрявый. Но молчаливый. Меня боялись, но знали: всегда – смолчу. Ребята – спасатели – были простые, весёлые… И дело у них шло большое, широкое. Они людей топили. Нырнут и из воды утопят. Дело своё знали ловко, без задоринки. Когда родные спохватывались – ребята будто б искали утопших и труп вытаскивали. Премия им за это полагалась. Деньжата пропивали или на баб тратили; кое-кто портки покупал… Из уважения они и меня в свою компанию приняли. Топил я ловко, просто, без размышления. Долю свою папане отсылал, в дом… И привычка меня потом взяла: хоронить, кого я топил. И родные ихние меня чествовали; думали, переживающий такой спасатель; а я от угощения не отказывался. Тем более водки… Любил выпить… Но потом вот что меня заедать стало: гляжу на покойника и думаю: куда ж человек-то делся, а?.. Куда ж человек-то делся?! И стало казаться мне, что он в пустоте вокруг покойника витает… А иногда просто ничего не казалось… Но смотреть я стал на покойников этих всегда, словно в пустоту хотел доглядеться… Однажды утопил я мальчика, цыплёнка такого; он так уверенно, без боязни, пошёл на дно… А в этот же день во сне мне явился: язык кажет и хохочет. Дескать, ты меня, дурак, сивый мерин, утопил, а мне на том свете ещё слаще… И таперя ты меня не достанешь… В поту я вскочил, как холерный. Чуть утро было в деревне, и я в лес ушёл. Что ж, думаю, я не сурьёзным делом занимаюсь, одними шуточками. Словно козла забиваю. Они-то – на тот свет – прыг, и как ни в чём не бывало… А я думаю: «Убил»… А может, только сон это?!
…Попалась мне по дороге девчонка… Удушил её со зла и думаю: так приятнее, так приятнее, на глазах видать, как человек в пустоту уходит… Чудом мне повезло: не раскрыли убийство. Потом стал осторожней… От спасателей ушёл, наглядно хотел убивать. И так меня всё тянуло, тянуло, словно с каждым убийством загадку я разгадываю: кого убиваю, кого?.. Что видать, что не видать?! Может, я сказку убиваю, а суть ускользает?! Ну вот и стал я бродить по свету. Да так и не знаю, что делаю, до кого дотрагиваюсь, с кем говорю… Совсем отупел… Григорий, Григорий… Ау?.. Ты это? – успокоенно-благодушно, вдруг сникнув, пробормотал в пустоту.
Наконец встал. С его лица не сходило выражение какого-то странного довольства.
Механически, но как-то опытно, со знанием, прибирал все следы. И пошёл вглубь…
Узкая, извилистая тропинка вывела его в конце концов из леса. Вдали виднелась маленькая, уединённая станция.
Зашёл в кусты – пошалить. «Что говорить о Григории, – думал он спустя, – когда я сам не знаю – есть ли я».
И поднял морду вверх, сквозь кусты, к виднеющимся просторам. Мыслей то не было, то они скакали супротив существования природы.
В теплоте добрёл до станции. И присел у буфетного столика, с пивом.
Ощущение пива казалось ему теперь единственной реальностью, существующей на земле. Он погрузил в это ощущение свои мысли, и они исчезли. В духе он целовал внутренности своего живота и застывал.
Издалека подходил поезд. Фёдор вдруг оживился: «В гнездо надо, в гнездо!»
И грузно юркнул в открывшуюся дверь электрички.
Глава 2
Местечко Лебединое, под Москвой, куда в полдень добрался Фёдор, было уединённо даже в своей деятельности.
Эта деятельность носила характер «в себя». Работы, которые велись в этом уголке, были настолько внутренне опустошённы, как будто они были продолжением личности обывателей.
После «дел» кто копался в грядках, точно роя себе могилку, кто стругал палки, кто чинил себе ноги…
Деревянные, в зелени, одноэтажные домишки, несмотря на их выверченность и несхожесть, хватали за сердце своей одинокостью… Иногда там и сям из земли торчали палки.