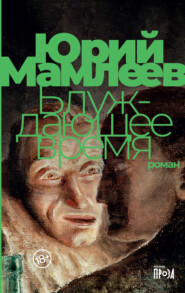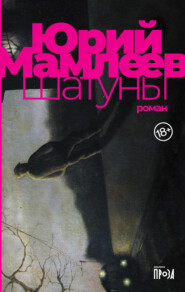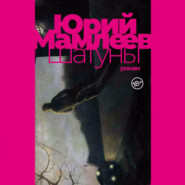По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений. Том 2. Последняя комедия. Блуждающее время. Рассказы
Автор
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, нелюбимая старушка выла дурным голосом около трупа, друзья пугливо хмурились, предчувствуя своё будущее, звучала торжественная, мрачная, доводящая до абсурда своей безнадёжностью музыка, труп мелко и невидимо хохотал, мяукал кот, принесённый кем-то в авоське, а сам Мироедов мучился от нетерпения и ждал, когда всё это кончится – и он очутится один в могиле, вместе со своим трупом. На этот раз навсегда. Когда на крышку гроба тяжело и грубо стали бросать комья чёрной и влажной земли весёлые и неповоротливые могильщики, на Мироедова нашло временное затмение. Возможно, он ещё не успел отучиться от земных ассоциаций. Но когда всё опустело, и над могилой покойника чирикали только птички, Мироедов, осознав, что земля и гроб для него теперь не препятствие, радостно завыл и злобно, но мысленно харкнув по адресу удаляющейся нелюбимой старушки, быстро юркнул в могилу. И тут случилось нечто совсем несусветное. Труп тоже завыл – разумеется, по-загробному – и как бы простёр к Мироедову свои непонятные пустеющие руки. Мироедову даже показалось, что труп по-настоящему оживает; что щёчки его порозовели и глаза наполнились слезами, что животик колышется; потом ему почудилось, что труп, ринувшись навстречу, стал поедать его, Мироедова, поедать без остатка, содрогаясь и стараясь вобрать его – своего бывшего владельца – целиком в себя. Только впоследствии, уже очнувшись в собственном трупе, Мироедов понял суть того, что с ним происходило. Труп подмигивал и хохотал, пока его несли, а потом и пожирал собственную душу, именно потому, что и сам Мироедов, из любви к своему трупу, фактически присутствовал в нём частью своего сознания, хотя в основном был уже отделёный от него. И, таким образом, он хохотал и перемигивался сам с собою. Поэтому живущие на земле и не могли слышать хохот хоронимого ими трупа, так как в физической сфере труп был мёртв, а хохот раздавался в сознании Мироедова, частично спроецированном в собственный труп. Который он тем самым оживлял, однако же, главным образом, для своего восприятия или уж для восприятия нечеловеческих существ.
И, наконец, очнувшись в трупе, Мироедов понял, что он не воскресил этим своё тело, а просто душа его присутствует в нём как во внешнем для неё месте, как, скажем, человек присутствует в лесу, и, с точки зрения земного мира, труп его по-прежнему мёртв и недвижим.
Но это нисколько не разочаровало его. Пожалуй, наоборот. Возможность ощущать свой труп как объект или, во всяком случае, как полу-объект (потому что некоторые мутные и непонятные, но живые и потусторонние связи между душой и разлагающимся телом всё-таки возникали) позволила Мироедову и привычней, и адекватней выразить свои любовные чувства к трупу. Он даже захохотал от восторга, и его хохот, распугав гномов, отдался странным эхом в его мёртвом мозгу. И началась восхитительная любовная поэма. Мироедов, находясь в собственном трупе и никем не встревоженный, обнаглел и стремился до конца обнажить свою страсть. Какие-то странные токи связали его с трупом, и вместе с тем он, находясь там, был отделён от него.
Небо – бездонное небо ада – открылось ему. Где были души других людей? Может быть, он опять общался только с самим собой? Или они превратились для него в символы? Он чувствовал это небо краем своего сознания и, страшась потонуть в нём, ещё судорожней впивался в своего разлагающегося любовника. Он испытывал нечто похожее на земной оргазм, но только в холоде и в духе. Труп, оживлённый его присутствием, подобно Лауре, воссозданной воображением Петрарки, очаровывал его. Воспоминания, как змеи, влекли старичка в каждый уголок его тела. Вот член, мёртвый, бессильный, с мухой внутри, но какой же он, голубчик, с того света! Вот брови, которые столько раз изгибались от страха перед смертью; вот глаза, которые с ужасом смотрели на мир; а вот кровь, кровь, запёкшаяся во рту, который когда-то пожирал живое, содрогаясь в вампирической страсти; рот, который был орудием убийства и пожирания – для себя, для себя! – но ведь и теперь, мёртвый, холодный, он также достоин нечеловеческой ласки, хотя бы за то, что там, на земле, он был одним из самых совершенных кругов наслаждения – наслаждения для себя. Старичок силою духа пытался внести жизнь в пустующий рот своего трупа; чтобы хоть на мгновение увидеть его сладострастное шевеление в гробу – чтобы проглотить, проглотить хотя бы формально, хоть толстого червя, ползающего по родному личику. Личику, которое так любило нежиться в пуховой постельке! Ах, ему самому в своём гниющем трупе было так хорошо и уютно, как в постельке!
Но мёртвые токи будили трагические ощущения. Иногда он добивался еле чувствуемого содрогания мёртвой задницы – содрогания, которое вводило его в потусторонний оргазм. И это подрагивание заменяло ему музыку сфер – музыку, ставшую столь чуждой его изломанному и ставшему на дыбы сознанию. Мёртвый зад распухал, заслоняя собой Бога. Он не мог не наслаждаться им – наслаждаться со всем неистовством потустороннего. Ему казалось, что он ощущает даже трупный пот, как будто бы выделяющийся на заднице, и этот пот был ему сладок, как слёзы Абсолюта. И он выл, выл из родимого трупа, заслоняя своим вознесённым существованием исчезающий мир.
Между тем в трупе оживали картины его прошлого. Вся его жизнь, как во сне, проходила мимо него. Но он впивался в каждую клеточку своего трупа – точно в ней, в этой разлагающейся клетке, было заложено бессмертие. Разговаривал с ней, выжимал слюну, и каждое ощущение, каждый мысленный акт был погружён в вечность. «Ха-ха! Люблю! Ха-ха! Люблю!» – кричал старичок, брыкаясь в самом себе (иногда на него находили шизофренические капризы!).
Иногда труп для него принимал форму девы – девы с его чертами лица (точно он сам раньше был девой), но с некоторой идеальностью, идеальностью небесной эротики, незримо присутствующей на её сизом трупном лице. «Мой труп – дева! Мой труп – дева!» – орал Мироедов из своего гроба. Но даже птички не слышали его. Но и ему было не до этих галлюцинативных птичек.
Впрочем, он уже не мог отличить свой труп как труп и свой труп как деву. Его бесчисленные поцелуи – поцелуи в чёрный рот собственного трупа – убаюкивали его, как верующего самой древней и странной религии. Этот нарциссизм небытия, тем не менее, был причастен Абсолюту. Почему труп не разлагался до конца? Несомненно, страстные поцелуи его бывшего обладателя сохраняли его на физическом плане. Старичку даже показалось, что труп приоткрыл глаз и этим чёрным, точно провалившимся в бездну глазом смотрел на то, что абсолютно непонятно. Мёртвый зад выделял духовные испарения, испарения, в которых было столько теплоты, нежности и секса и вместе с тем потустороннего ужаса, что старичок, постанывая, прямо-таки купал свой дух в этих испарениях. Он плыл в них, как в облаках, окружающих мысль Бога. И вместе с тем сознание, что эти испарения исходят из его собственной, пусть мёртвой, но всё-таки его задницы, придавало душе Мироедова дьявольское, бесконечное умиление. Старичок даже облизывался в духе. Созерцая свой мёртвый зад с небесной высоты, он лил сладострастные слёзы, и ему казалось, что его задница оживает, пламенеет и, как вечерняя звезда, восходит над пустым миром – восходит из земли, из могилы, из мрака! – подобно сокровенному спасению. Иногда он даже впадал в квази-слабоумие от нечеловеческого восторга. «Господи, какая она стала розовенькая, как поросёночек! – хихикал он, извиваясь. – В ней столько же самосознания, как и в духе… Это только с виду она телесна! Я вижу в ней бесконечность и свои лики, свои бесчисленные, родные лики! И потом, эти изгибы, эти линии, которыми я так упивался при жизни! От неё шло столько токов! Больше, чем от сердца! Даже когда я садился на стульчак!»
Он помнил, как раз – при жизни – задница спасла его от гибели. Потому что именно ею он, один, в поле, почувствовал за пять вёрст присутствие убийцы и побежал, стремительно побежал, спасая свою жизнь. «Даже обычная интуиция тут бы не помогла», – говорил он потом друзьям.
«Не поминай имя Властителя всуе!» – покрикивал он на себя, когда слишком часто вспоминал о своей заднице.
И тогда успокаивался. Мёртвый мир окружал его. Он не знал, что уже не принадлежит теперь к человеческому роду, что он вошёл в новую, странную форму бытия; а он всё наслаждался и наслаждался своим трупом и, казалось, этому наслаждению не будет конца, как не будет конца самому Богу. Только небо – чёрное, бездонное небо ада с его прозреваемыми в высоте провалами, провалами, которые уходили в высшую тьму и втягивали даже богов – простёрлось над ним.
Это было небо над адом – над вечным, непостижимым адом, терзающим всё живое, и божественная чернота этого неба, которая поглощала все страдания, исходящие из адской тверди, была непроницаема, как улыбка Бога.
Глава II. Шиши
Объявилось лето. Марья Ивановна Доилкина со своей подругой Катюшей шла по глухому парку. Марья Ивановна представляла себя толстой бочкой, наполненной веселием. Но отчего только дрожат листья на деревьях? Доилкина объясняла это тем, что за веселием скрывалась пустота, о которой она всегда боялась думать. Катюша была тоже раздута, как арбуз, но с дурцой во взгляде и даже в некотором роде в лице; лоб и правда нависал на глаза твердокаменной задницей, а подбородок выделялся жирно-острым углом, так что промежду лба и подбородка была впадина, в которой и произрастало само лицо с бегающими, затуманенными небесной грязью глазками. Соблазняла также лохматость всей головы в целом. Зад напоминал отвислую, непомерно большую физиономию, прикрытую, однако ж, платочками.
Воздух был напоён невидимым мраком. Солнце так нежило похотливые тела женщин, что они готовы были броситься сквозь это невидимое. Марья Ивановна вслух учила геометрию. «Хо-хо-хо!» – кричала иной раз Катюша. Всё было поразительно нормально.
Подруги подошли к огромному деревянному клозету, стоявшему у пыльной дороги наподобие дворца. Он был разделён на две половины, мужскую и женскую, и был так грязен и в полутьме, что как только подруги вошли, им показалось, что на них что-то опустилось. Катюша тоскливо осматривалась, пока Марья Ивановна гадила. Стояла угрюмая тишина.
– Бумажки вот, жаль, нету, – вздохнула Марья Ивановна на толчке.
В это время в дыру, которая светилась между досок, отделяющих мужскую половину от женской, просунулась огромная мужичья рука с ворохом бумаг в кулаке. Кулак был сер, самодовлеющ и в чёрных, гривистых, как у хорошего льва, волосах. Человечьего голоса, однако, не раздалось. Рука же, точно оторванная от её обладателя, застыла с комком листов. Впрочем, чувствовалось дыхание чьей-то мёртвой любезности – там, за перегородкой.
Марья Ивановна вскочила с толчка. В глазах её выражался непомерный ужас. Путаясь в белье, одёргиваясь на ходу, она побежала по дороге. Быстро, быстро, не оглядываясь и покрикивая в кошмаре. Катюша трусила за ней.
Из мужского клозета, однако, никто не выходил, и дверь в него была до мертвенности неподвижна.
Марья Ивановна бежала и вопила; потом начала бежать молча, но в этом было уже что-то угрюмое и бесповоротное, точно нарушилось равновесие в мире и вылезло нечто ужасное, тёмное и липкое.
– Да погоди же ты, трусоватая, – задыхаясь от быстрого бега, останавливала её Катюша, дёргая за руку. – Давай вернёмся… Может, мужик-то хороший… Ну, чего ты испугалась? Давай вернёмся и познакомимся.
Марья Ивановна остановилась. Неподалёку были уже дома, и уборной за лесом не было видно. Но лицо Марьи Ивановны было скошено в какой-то беспричинной бесповоротности.
– Катя, никогда, понимаешь, никогда не говори мне об этом случае, – сурово, по-мужски, оборвала она.
– Тьфу ты! Да может, я счастье своё там потеряла, твоему страху поддамшись, – скуксилась Катюша и топнула слоновьей ножкой.
Лицо её сдвинулось в том смысле, что лоб ещё больше округлился и лицо провалилось под него. Только глазки по-лохматому блистали из телесной бездны.
– Ох, какая ты недотрога, – вздохнула она. – Я вот иная птаха.
До дому шли молча. Молча открывали дверь, ведущую в узкий проходной коридор. Домик был одноэтажен, деревянно-старенький, с оконцами-глазками, и делился на две половины: в одной, как всё равно две сестры, жили подруги. На подокошках стояли цветочки, прикрытые от внешних взоров уютными занавесками.
Марья Ивановна начала драить комоды. Сама по себе – внутренне – она ещё больше пыталась раздуться, словно хотела допрыгнуть до солнца. Только боялась тихого шелеста занавесок за своей спиной. Катюша же совсем сморщилась: глазки глядели внутрь себя, а голос – словно из души – говорил:
– Недоглядели мы чего-то, недоглядели… Ох, озорницы…
Она бродила по комнате, как вслепую, швыряла ногой попадающееся и всё бормотала. Что потеряла своё счастье. При слове «счастье» она улыбалась так, что становилось жутко.
Кириллов между тем одиноко сидел – во тьме, у клозета. Когда дамы ушли, он не понял. Спустя вышел на свет, в лес. Потянулся и сделал вокруг себя гимнастическое упражнение. Был он приземист, весь в чёрном, словно и тело его было чёрное, но лицо, однако ж, выглядело бледным, как обычно; правда, само оно было маловыразительно: как будто что-то в нём было чересчур и потому спряталось. Когда прыгал он вокруг себя, порой головой вниз, то был похож на прыгающую чёрную точку. Опростившись и как-то съёжившись, пошёл вниз по дороге. Шёл медленно, где-то застревая. Когда же вышел к городу, где дома, оживился. Бойким и точным глазом, как говорят, интуитивно, нашёл дом, где прятались подруги. Крякнув, пошёл туда…
Марья Ивановна и Катюша пили чай вприкуску. Тихо мурлыкал кот, сквозь сон видевший демонов. Горела древняя, притемнённая лампа: для уюта. Манила к себе пухлая, большая кровать с пятью подушками: подруги были духовными лесбиянками (правда, на сие время разведёнными).
Вдруг раздался стук в дверь. Марья Ивановна выглянула в окно: солнце уже садилось. «Кого это несёт», – подумала она.
– Кто? – спросила она у двери.
– Из Госстраху, – раздался надтреснутый, словно его разрубили топором, голос.
«И вправду, кругом пожары, – подумала Марья Ивановна. – Как бы совсем не сгореть».
И открыла дверь.
Перед ней стоял улыбающийся, весь в чёрном, приземистый человек в полувозрасте. Руку он поднял вверх, как бы приветствуя Марью Ивановну.
– Проходите, – сказала она.
Человечек увёртливо проскочил вперёд. Оказавшись перед Катюшей, он даже руки расставил от радостного изумления.
«Из Госстраха, – подумала Марья Ивановна. – То-то мне дети снились; значит, и взаправду к диву».
Пришлось зажигать верхний свет. Кот, недовольный, поплёлся в другую комнату.
«Господи, до чего же оне грязны, словно у меня в заднице, – неприязненно прошипела про себя Марья Ивановна, оглядев незнакомца. – Как это я сразу не заметила. И ширинка не застёгнута, тоже мне агент. Впрочем, всё бывает».
Катюша же, присмотревшись к неизвестному, глядела на него волком.
Кириллов вёл себя тихо, словно летел. Чёрный макинтош его распахнулся, и он чего-то деловито вертелся, ничего не делая.
– Ну? – тупо спросила Марья Ивановна, прислонившись животом к обеденному столу.
Бледное, протяжённое лицо незнакомца поворачивалось из стороны в сторону.
– Вещички осмотреть бы надо, – пробормотал он.
И, не дожидаясь согласия, подошёл к шкапу, в котором хранилось обычно что-то неопределённое. Подошёл и вдруг стал обнюхивать его, обнюхивать каждую щель, поводя своим, вдруг оказавшимся длинным и пропито-безжизненным, носом. Нос на глазах у подруг стал всё больше и больше синеть. Глаза Катюши смягчились; только поглядывали чуть вкось, на какие-то паутинки.
И, наконец, очнувшись в трупе, Мироедов понял, что он не воскресил этим своё тело, а просто душа его присутствует в нём как во внешнем для неё месте, как, скажем, человек присутствует в лесу, и, с точки зрения земного мира, труп его по-прежнему мёртв и недвижим.
Но это нисколько не разочаровало его. Пожалуй, наоборот. Возможность ощущать свой труп как объект или, во всяком случае, как полу-объект (потому что некоторые мутные и непонятные, но живые и потусторонние связи между душой и разлагающимся телом всё-таки возникали) позволила Мироедову и привычней, и адекватней выразить свои любовные чувства к трупу. Он даже захохотал от восторга, и его хохот, распугав гномов, отдался странным эхом в его мёртвом мозгу. И началась восхитительная любовная поэма. Мироедов, находясь в собственном трупе и никем не встревоженный, обнаглел и стремился до конца обнажить свою страсть. Какие-то странные токи связали его с трупом, и вместе с тем он, находясь там, был отделён от него.
Небо – бездонное небо ада – открылось ему. Где были души других людей? Может быть, он опять общался только с самим собой? Или они превратились для него в символы? Он чувствовал это небо краем своего сознания и, страшась потонуть в нём, ещё судорожней впивался в своего разлагающегося любовника. Он испытывал нечто похожее на земной оргазм, но только в холоде и в духе. Труп, оживлённый его присутствием, подобно Лауре, воссозданной воображением Петрарки, очаровывал его. Воспоминания, как змеи, влекли старичка в каждый уголок его тела. Вот член, мёртвый, бессильный, с мухой внутри, но какой же он, голубчик, с того света! Вот брови, которые столько раз изгибались от страха перед смертью; вот глаза, которые с ужасом смотрели на мир; а вот кровь, кровь, запёкшаяся во рту, который когда-то пожирал живое, содрогаясь в вампирической страсти; рот, который был орудием убийства и пожирания – для себя, для себя! – но ведь и теперь, мёртвый, холодный, он также достоин нечеловеческой ласки, хотя бы за то, что там, на земле, он был одним из самых совершенных кругов наслаждения – наслаждения для себя. Старичок силою духа пытался внести жизнь в пустующий рот своего трупа; чтобы хоть на мгновение увидеть его сладострастное шевеление в гробу – чтобы проглотить, проглотить хотя бы формально, хоть толстого червя, ползающего по родному личику. Личику, которое так любило нежиться в пуховой постельке! Ах, ему самому в своём гниющем трупе было так хорошо и уютно, как в постельке!
Но мёртвые токи будили трагические ощущения. Иногда он добивался еле чувствуемого содрогания мёртвой задницы – содрогания, которое вводило его в потусторонний оргазм. И это подрагивание заменяло ему музыку сфер – музыку, ставшую столь чуждой его изломанному и ставшему на дыбы сознанию. Мёртвый зад распухал, заслоняя собой Бога. Он не мог не наслаждаться им – наслаждаться со всем неистовством потустороннего. Ему казалось, что он ощущает даже трупный пот, как будто бы выделяющийся на заднице, и этот пот был ему сладок, как слёзы Абсолюта. И он выл, выл из родимого трупа, заслоняя своим вознесённым существованием исчезающий мир.
Между тем в трупе оживали картины его прошлого. Вся его жизнь, как во сне, проходила мимо него. Но он впивался в каждую клеточку своего трупа – точно в ней, в этой разлагающейся клетке, было заложено бессмертие. Разговаривал с ней, выжимал слюну, и каждое ощущение, каждый мысленный акт был погружён в вечность. «Ха-ха! Люблю! Ха-ха! Люблю!» – кричал старичок, брыкаясь в самом себе (иногда на него находили шизофренические капризы!).
Иногда труп для него принимал форму девы – девы с его чертами лица (точно он сам раньше был девой), но с некоторой идеальностью, идеальностью небесной эротики, незримо присутствующей на её сизом трупном лице. «Мой труп – дева! Мой труп – дева!» – орал Мироедов из своего гроба. Но даже птички не слышали его. Но и ему было не до этих галлюцинативных птичек.
Впрочем, он уже не мог отличить свой труп как труп и свой труп как деву. Его бесчисленные поцелуи – поцелуи в чёрный рот собственного трупа – убаюкивали его, как верующего самой древней и странной религии. Этот нарциссизм небытия, тем не менее, был причастен Абсолюту. Почему труп не разлагался до конца? Несомненно, страстные поцелуи его бывшего обладателя сохраняли его на физическом плане. Старичку даже показалось, что труп приоткрыл глаз и этим чёрным, точно провалившимся в бездну глазом смотрел на то, что абсолютно непонятно. Мёртвый зад выделял духовные испарения, испарения, в которых было столько теплоты, нежности и секса и вместе с тем потустороннего ужаса, что старичок, постанывая, прямо-таки купал свой дух в этих испарениях. Он плыл в них, как в облаках, окружающих мысль Бога. И вместе с тем сознание, что эти испарения исходят из его собственной, пусть мёртвой, но всё-таки его задницы, придавало душе Мироедова дьявольское, бесконечное умиление. Старичок даже облизывался в духе. Созерцая свой мёртвый зад с небесной высоты, он лил сладострастные слёзы, и ему казалось, что его задница оживает, пламенеет и, как вечерняя звезда, восходит над пустым миром – восходит из земли, из могилы, из мрака! – подобно сокровенному спасению. Иногда он даже впадал в квази-слабоумие от нечеловеческого восторга. «Господи, какая она стала розовенькая, как поросёночек! – хихикал он, извиваясь. – В ней столько же самосознания, как и в духе… Это только с виду она телесна! Я вижу в ней бесконечность и свои лики, свои бесчисленные, родные лики! И потом, эти изгибы, эти линии, которыми я так упивался при жизни! От неё шло столько токов! Больше, чем от сердца! Даже когда я садился на стульчак!»
Он помнил, как раз – при жизни – задница спасла его от гибели. Потому что именно ею он, один, в поле, почувствовал за пять вёрст присутствие убийцы и побежал, стремительно побежал, спасая свою жизнь. «Даже обычная интуиция тут бы не помогла», – говорил он потом друзьям.
«Не поминай имя Властителя всуе!» – покрикивал он на себя, когда слишком часто вспоминал о своей заднице.
И тогда успокаивался. Мёртвый мир окружал его. Он не знал, что уже не принадлежит теперь к человеческому роду, что он вошёл в новую, странную форму бытия; а он всё наслаждался и наслаждался своим трупом и, казалось, этому наслаждению не будет конца, как не будет конца самому Богу. Только небо – чёрное, бездонное небо ада с его прозреваемыми в высоте провалами, провалами, которые уходили в высшую тьму и втягивали даже богов – простёрлось над ним.
Это было небо над адом – над вечным, непостижимым адом, терзающим всё живое, и божественная чернота этого неба, которая поглощала все страдания, исходящие из адской тверди, была непроницаема, как улыбка Бога.
Глава II. Шиши
Объявилось лето. Марья Ивановна Доилкина со своей подругой Катюшей шла по глухому парку. Марья Ивановна представляла себя толстой бочкой, наполненной веселием. Но отчего только дрожат листья на деревьях? Доилкина объясняла это тем, что за веселием скрывалась пустота, о которой она всегда боялась думать. Катюша была тоже раздута, как арбуз, но с дурцой во взгляде и даже в некотором роде в лице; лоб и правда нависал на глаза твердокаменной задницей, а подбородок выделялся жирно-острым углом, так что промежду лба и подбородка была впадина, в которой и произрастало само лицо с бегающими, затуманенными небесной грязью глазками. Соблазняла также лохматость всей головы в целом. Зад напоминал отвислую, непомерно большую физиономию, прикрытую, однако ж, платочками.
Воздух был напоён невидимым мраком. Солнце так нежило похотливые тела женщин, что они готовы были броситься сквозь это невидимое. Марья Ивановна вслух учила геометрию. «Хо-хо-хо!» – кричала иной раз Катюша. Всё было поразительно нормально.
Подруги подошли к огромному деревянному клозету, стоявшему у пыльной дороги наподобие дворца. Он был разделён на две половины, мужскую и женскую, и был так грязен и в полутьме, что как только подруги вошли, им показалось, что на них что-то опустилось. Катюша тоскливо осматривалась, пока Марья Ивановна гадила. Стояла угрюмая тишина.
– Бумажки вот, жаль, нету, – вздохнула Марья Ивановна на толчке.
В это время в дыру, которая светилась между досок, отделяющих мужскую половину от женской, просунулась огромная мужичья рука с ворохом бумаг в кулаке. Кулак был сер, самодовлеющ и в чёрных, гривистых, как у хорошего льва, волосах. Человечьего голоса, однако, не раздалось. Рука же, точно оторванная от её обладателя, застыла с комком листов. Впрочем, чувствовалось дыхание чьей-то мёртвой любезности – там, за перегородкой.
Марья Ивановна вскочила с толчка. В глазах её выражался непомерный ужас. Путаясь в белье, одёргиваясь на ходу, она побежала по дороге. Быстро, быстро, не оглядываясь и покрикивая в кошмаре. Катюша трусила за ней.
Из мужского клозета, однако, никто не выходил, и дверь в него была до мертвенности неподвижна.
Марья Ивановна бежала и вопила; потом начала бежать молча, но в этом было уже что-то угрюмое и бесповоротное, точно нарушилось равновесие в мире и вылезло нечто ужасное, тёмное и липкое.
– Да погоди же ты, трусоватая, – задыхаясь от быстрого бега, останавливала её Катюша, дёргая за руку. – Давай вернёмся… Может, мужик-то хороший… Ну, чего ты испугалась? Давай вернёмся и познакомимся.
Марья Ивановна остановилась. Неподалёку были уже дома, и уборной за лесом не было видно. Но лицо Марьи Ивановны было скошено в какой-то беспричинной бесповоротности.
– Катя, никогда, понимаешь, никогда не говори мне об этом случае, – сурово, по-мужски, оборвала она.
– Тьфу ты! Да может, я счастье своё там потеряла, твоему страху поддамшись, – скуксилась Катюша и топнула слоновьей ножкой.
Лицо её сдвинулось в том смысле, что лоб ещё больше округлился и лицо провалилось под него. Только глазки по-лохматому блистали из телесной бездны.
– Ох, какая ты недотрога, – вздохнула она. – Я вот иная птаха.
До дому шли молча. Молча открывали дверь, ведущую в узкий проходной коридор. Домик был одноэтажен, деревянно-старенький, с оконцами-глазками, и делился на две половины: в одной, как всё равно две сестры, жили подруги. На подокошках стояли цветочки, прикрытые от внешних взоров уютными занавесками.
Марья Ивановна начала драить комоды. Сама по себе – внутренне – она ещё больше пыталась раздуться, словно хотела допрыгнуть до солнца. Только боялась тихого шелеста занавесок за своей спиной. Катюша же совсем сморщилась: глазки глядели внутрь себя, а голос – словно из души – говорил:
– Недоглядели мы чего-то, недоглядели… Ох, озорницы…
Она бродила по комнате, как вслепую, швыряла ногой попадающееся и всё бормотала. Что потеряла своё счастье. При слове «счастье» она улыбалась так, что становилось жутко.
Кириллов между тем одиноко сидел – во тьме, у клозета. Когда дамы ушли, он не понял. Спустя вышел на свет, в лес. Потянулся и сделал вокруг себя гимнастическое упражнение. Был он приземист, весь в чёрном, словно и тело его было чёрное, но лицо, однако ж, выглядело бледным, как обычно; правда, само оно было маловыразительно: как будто что-то в нём было чересчур и потому спряталось. Когда прыгал он вокруг себя, порой головой вниз, то был похож на прыгающую чёрную точку. Опростившись и как-то съёжившись, пошёл вниз по дороге. Шёл медленно, где-то застревая. Когда же вышел к городу, где дома, оживился. Бойким и точным глазом, как говорят, интуитивно, нашёл дом, где прятались подруги. Крякнув, пошёл туда…
Марья Ивановна и Катюша пили чай вприкуску. Тихо мурлыкал кот, сквозь сон видевший демонов. Горела древняя, притемнённая лампа: для уюта. Манила к себе пухлая, большая кровать с пятью подушками: подруги были духовными лесбиянками (правда, на сие время разведёнными).
Вдруг раздался стук в дверь. Марья Ивановна выглянула в окно: солнце уже садилось. «Кого это несёт», – подумала она.
– Кто? – спросила она у двери.
– Из Госстраху, – раздался надтреснутый, словно его разрубили топором, голос.
«И вправду, кругом пожары, – подумала Марья Ивановна. – Как бы совсем не сгореть».
И открыла дверь.
Перед ней стоял улыбающийся, весь в чёрном, приземистый человек в полувозрасте. Руку он поднял вверх, как бы приветствуя Марью Ивановну.
– Проходите, – сказала она.
Человечек увёртливо проскочил вперёд. Оказавшись перед Катюшей, он даже руки расставил от радостного изумления.
«Из Госстраха, – подумала Марья Ивановна. – То-то мне дети снились; значит, и взаправду к диву».
Пришлось зажигать верхний свет. Кот, недовольный, поплёлся в другую комнату.
«Господи, до чего же оне грязны, словно у меня в заднице, – неприязненно прошипела про себя Марья Ивановна, оглядев незнакомца. – Как это я сразу не заметила. И ширинка не застёгнута, тоже мне агент. Впрочем, всё бывает».
Катюша же, присмотревшись к неизвестному, глядела на него волком.
Кириллов вёл себя тихо, словно летел. Чёрный макинтош его распахнулся, и он чего-то деловито вертелся, ничего не делая.
– Ну? – тупо спросила Марья Ивановна, прислонившись животом к обеденному столу.
Бледное, протяжённое лицо незнакомца поворачивалось из стороны в сторону.
– Вещички осмотреть бы надо, – пробормотал он.
И, не дожидаясь согласия, подошёл к шкапу, в котором хранилось обычно что-то неопределённое. Подошёл и вдруг стал обнюхивать его, обнюхивать каждую щель, поводя своим, вдруг оказавшимся длинным и пропито-безжизненным, носом. Нос на глазах у подруг стал всё больше и больше синеть. Глаза Катюши смягчились; только поглядывали чуть вкось, на какие-то паутинки.