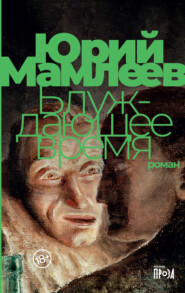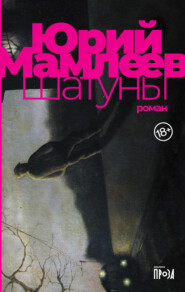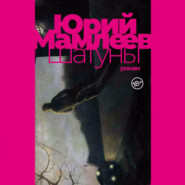По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений. Том 2. Последняя комедия. Блуждающее время. Рассказы
Автор
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
При упоминании о коте Лизу бросило в жар.
– Но прежде всего не называй его Господь; это вредит нашим отношениям, – проговорил Костя. – …Подумай о том, что на самом деле он более прост.
Рано утром в коридоре опять раздался истерический крик. Кричал сосед Савелий по прозванию «лохмотун» – кричал просто так, из пустого клозета, откуда только что выкатились супруги Мамоновы, оставив после себя клубок пыли. Утро наступало тяжёлое, пасмурное, ещё более мрачное, чем ночь, именно потому, что был день, а тьма не сходила. Грязно-серый свет лился в прямое, длинное, нелепое горло коридора. Где-то зашурушились занавески.
Строгий старичок Панченков, заглянув в клозет, всё-таки увидел, что Савелий не просто орёт, но ещё, по обыкновению, сбирает с себя вшей и целует их. (У него была такая странная привычка, на которую никто не обращал внимания.) Но Панченков, однако же, взвился.
– Безобразие! Безобразие! – заголосил он. – Почему Савелий здесь не гадит! Клозет не молельня и не столовая, чорт побери! Я буду жаловаться милиции!! Мне жить осталось совсем ничего! – неожиданно, тонким голоском, взвыл он. – Не потерплю! Обманщики!! Кругом надувательство!! Несправедливость!
Его уняли, бросив на него одеяло. Выходной этот день начинался, как во тьме, впопыхах, точно на головы всех были накинуты мешки. Только Мамоновы не подавали знаков. Савелий вышел из клозета совсем захмурённый и пошёл на кухню: спать. Костя ещё дремал, как выкатилась Лизонька, заплаканная и с гитарой в руках. Оно прошла на кухню и села на подоконник, открыв окно: там виделся мир: двор с деревянными постройками, лужайками и много котов, собак среди странных, монстровидных людей, теряющихся в серой мгле. Лизонька вздохнула свободней: наконец-то повеяло чем-то лёгким. Голова её стала твёрже, как чугун, наполненный мыслью. Бренькая на гитаре, она запела. На странный, не то таинственно-германский, не то мастодонтный рёв посыпались все – поближе к ней, к Лизе. Даже Савелий – на полу – дохнул во сне. Пришла старушка Низадова, молодящаяся под самоё себя, со своим вечным зеркальцем. Она неизменно подмигивала себе, молодой, квази-виднеющейся там, в зеркале. Пришёл и угрюмый Николай, который никогда ничего не понимал. Он сел на пол и закурил. Только деловое существо – Семёнкина – хлопотала возле ведра. Она рада была бы всех прогнать, но любила, когда её видели в деле.
– Грустно поёте, Лизонька, – сказала одинокая жирная дама, Екатерина Ивановна, обычно натыкающаяся на столбы.
Старичок Панченков поднял руки вверх.
– Мне жить осталось немного! – прокричал он высоким, бабьим голосом.
«Где Аврелий, – тоскливо подумала Лизонька, – красота моя предвечная, где ты?» Она отдыхала от стыда перед ночным соитием с мужем. Во время таких отдыхов томно кружилось в голове, и луна точно входила в сердце.
– Лиза, Лиза! – вдруг раздался крик, и появился Костя в одних трусиках.
Но никого не пугал его вид.
– Уходи, уходи! – пробормотал он, вдруг сконфузившись. – Ведь сейчас Сыроедов принесёт твоего, то есть своего, кота – кормить…
Соседи переглянулись. У Лизы появились слёзы на глазах. Костя, пожав плечами, мгновенно исчез. И правда, вдали, из соседского коридора, дверь в который была полуоткрыта, послышался хриплый лай мятущегося Сыроедова. Аврелий был его собственный кот, и он держал его на свободе, однако же кормил по утрам при себе. Сыроедов был маленько сильный, коряжистый, красный и со взором, точно исходящим из стали, в которой появился скованный разум. Даже спал он всегда в кепке. Все не любили его за складки на шее и потому разошлись, кроме Низадовой, которая сжимала своё старчески-миловидное, круглое личико, смотрясь в зеркало, поставленное на стол. Когда она это совершала, то ни на кого не обращала внимания; высшая цель её была – выжать из своего похотливо-сморщенного личика настоящую мужскую сперму, точно она была ею наполнена изнутри. И чтобы она – эта сперма – потекла масляной, жирной струёй из корявого носа, из больных ушей, из жизненных, с истерией, глаз. Это было бы пределом её мечтаний; иными словами, своё личико Низадова рассматривала, как думающий член. Такое своеобразное извращение прямо-таки убаюкивало её, погружая в водяную смерть.
Сыроедов, наткнувшись на спящего Савелия, выругался и чуть не уронил облизывающегося кота. Лизонька побагровела и, закрыв глаза, читала молитвы. Она всегда была не в себе, когда Сыроедов по утрам своими огромными красными лапищами кормил кота, похлопывая его по морде. То, что над котом издевались, она принимала за сон. Но тем не менее страшно боялась, что его убьют. Когда Костя возражал, что Бога нельзя убить, Лизонька плакала и говорила, что Бога – нельзя, а возлюбленного – можно, а этот, кот шептала она, не только Господь, но и мой возлюбленный в образе. Однако ещё больше возможной смерти она страшилась отчуждённости кота, особенно во время еды или молитвы. Тогда она рвала на себе волосы и рыдала целыми ночами. «Он опять не смотрел на меня, – говорила она про себя. – Как тяжко быть оторванным от собственной красоты».
Но иногда, вглядываясь в Аврелия, – даже когда он был обычным – она в муке чувствовала, что Красота и Блаженство, исходящие от кота, невыносимы, как божественная ноша, для её души. Что они столь огненны и сладчайши, что её душа сгорает в этом свете, только приблизившись к ним и не вкусив и малой доли. «Недоступно, недоступно!» – кричала она тогда и билась в забытьи.
Сыроедов, между тем, сев на корточки, кормил кота с пальцев. Лиза, осознав, что чем больше мучений коту, тем больше Небесного Света, запела. Вообще, у неё бывали состояния, когда она пела, глядя на кота. И глаза её горели тогда любовью, пред которой стушевались бы любовники-люди.
Наконец Лиза бросила петь. Костя угрюмо поглядывал на всё из щели. Дитя старика Панченкова, стоя на четвереньках сзади Кости, щекотало его пятку. Несмотря на утро, было темно.
Так и бывали они: приземистый Сыроедов, облапив Аврелия, всё совал ему в рот свежее мясо, стекающее ему по пальцам; Лизонька с размётанными волосами сидела на подоконнике и грубо-пристально, не отрываясь, смотрела на кота; только старушонка Низадова, глядя на себя в зеркало, попискивала, выжимая из своего личика что-то родное и липкое, напоминающее ей сперму, да доносились обрывочные, не то скотские, не то людские выкрики со двора.
Вдруг откуда-то взвился старичок Панченков. Пошевелив задом, он прямо-таки взмыл над Лизою и, деревянно повернув голову, посмотрел в окно.
– Никак Мессия опять во дворе, Мессия! – прокричал он, обращаясь к спящему Савелию.
2
Мессия, или, как он сам себя иначе называл, Панарель, появился здесь недавно, поздней весной. Откуда Он пришёл и кто Он такой – никто даже формально не знал. Жители вышеописанного дома № 7 вообще не обратили на него большого внимания. Но кое-кто, из других окружающих, зашевелился.
Внешний вид Панареля вполне соответствовал представлению о Мессии: он был высок, худ, с женственно-мужественным лицом и глубокими, не из мира сего, глазами. Общее впечатление было как от стремительного, но величественного существа. Он утверждал, что учит как власть имеющий и говорит не от Себя, а от Небесного Отца, его пославшего. Проповедовал он религию любви и обещал не более и не менее как спасти погибшее. Это последнее особенно вызывало какое-то мутное беспокойство и даже подозрение. Укусов, садист-эзотерик, который был склонен причислять самого себя к погибшим, часто, прислонившись к помойке и прожёвывая крупу, покачивал головой: «Да ведь Он идёт против мирового порядка, который не есть любовь… И что это у Него за Папенька, который противопоставил Себя Творцу». Но соблазн, однако же, был велик. Тем более что Панарель обещал «давать воду жизни даром». Часто Укусов, насладившись убиением курицы (у него не бывало оргазма без умерщвления), потный и понурый, чуть подпрыгивая, брёл на проповеди Панареля.
«Не так, как мир даёт, Я даю… Но человек возлюбил тьму…» – доносилось до него издалека.
Из понимающих один Грелолюбов, который считался извращённым гностиком, первое время не был озабочен действиями Панареля. Грелолюбов жил через забор от дома № 7. Он не раз приходил послушать Панареля, посмотреть его чудеса, но относился к нему равнодушно-спокойно, хотя и как-то по-братски. Сам Грелолюбов считал тварный мир результатом трансцендентного эротического акта Единого, а самих тварей, таким образом, – феноменами эротического воображения Творца. Духи и люди, например, – по Грелолюбову – существуя, как и весь мир, в уме Единого Бога, быди игрушками, персонажами Его трансвоображения.
Строгая иерархичность мира была следствием неравномерности отдельных моментов истечения высшей фантазии; иными словами, все существа в равной степени возбуждали Единого, и ценность неповторимость каждой личности зависела от её способности пробудить трансцендентное «вожделение» и вызвать его на себя. Тем более что в какой-то степени все разумные существа были автономны, и свобода воли не нарушалась.
В этом пробуждении и состоял смысл закулисной жизни Грелолюбова: он считал, что если он будет более сладострастен и неповторим, то и торжества, и бытия выпадет на его долю побольше. Он даже потаённо возжаждал заработать на этом личное бессмертие. С грустью смотрел он на мир: люди, твари, не зная, что они существуют ради трансцендентного эротизма Всевысшего, мало занимались собою в этом отношении, и Творец терял к ним интерес. Как окаменевшие, бездушные истуканы коченели они, теряя свой смысл, душу, эстетический шарм, превращаясь в грубую и телесную материю, то есть в отходы. Лишь некоторые ещё возбуждали нарциссическую волю Творца (такой путь был весьма двусмыслен, так как период, когда мир не существовал, соответствовал абсолютному нарциссизму Единого, Его самотождеству, и мир, чтобы существовать, потенциально должен был стремиться заинтересовать собой Творца, однако, желательно не через пробуждение до конца Его нарциссизма). Сейчас, по мнению Грелолюбова, дело обстояло особенно плохо: возгорался особый период, который в нашем сознании мог преломляться как период бреда Всевышнего, и история была переполнена кошмарными фантомами; добавьте ещё прежние окаменелости, к которым интерес был уже навеки потерян и которые, однако же, – может быть, из милости – автоматически существовали, как смердящие трупы разочарованности; плюс различные отходы, нюансы, феномены самоуничтожения; поэтому было понятно, отчего Грелолюбов так вздыхал и жаловался, что он один ещё, по существу, сознательно заигрывает с Вожделением Единого, правда, без декаданса… Таков был гностик тьмы и дьявола, и такова была его теория.
Однако Грелолюбов не прочь был по-своему оценить «дикую» религию добра Панареля. Правда, Небесного Отца, к которому взывал Панарель и Сыном которого он себя объявлял, Грелолюбов относил к одному из высших начал, а отнюдь не к самому Абсолюту.
Когда во дворе дома № 7 целый смрад малых сил (сих?) собирался послушать Панареля, рассаживаясь, где кто мог: на пнях, на деревьях, на скамейках, на земляных клозетах, Грелолюбов, отвиляв задницей, тоже шёл туда.
Не обижал Панареля вниманием и Иров, угрюмый монстр, главарь некой метафизической банды, занимающейся непотребными духовными операциями. Сам Иров лицом был тяжёл, словно окаменевшее божество, но со взглядом водянисто-властным и неподвижно-беспокойным (кроме того, лицо его было в серых буграх).
Венцом всего был Виталий, у которого сам Грелолюбов ходил в учениках, да и Иров подучивался (Укусов был более сам по себе). Виталий основал школу нового гнозиса, гнозиса, порвавшего со светоносными религиями и заключившего союз с мраком.
Сразу же после первой большой проповеди Панареля, когда малые разошлись, Виталий решил поговорить с Панарелем по душам. Около были и Укусов, и Грелолюбов, и Иров. Панарель покойно согласился.
Решили пройти тропкой, между высоким, раздражающим своей нелепой таинственностью забором и пустой канавой. Тропинка, виляя по чахло-зелёным лужайкам с облёванными бумажками, вела к одинокой, словно не от мира сего в своей мирности, пивной. Панарель шёл впереди, высокий и лёгкий, Виталий чуть сзади, покачивая точно превращающимся в мысль животом; остальные – сбоку. В пивной, напоминающей летнюю веранду, почти никого не было: только пил молоко хмурый, неразговорчивый молодой человек. Укусов, крикнув, пошёл за пивом – равнодушная официантка чуть пролила на пол. Было тепло, и дул свежий ветер, точно деревья стали живые, но по-смертному. Расселись за столиком. Панарель не отказался от пивка, но пил, не пьянея. Остальные как-то нехорошо оживились. Грелолюбов, своим видом обычно жабообразно-мистический, на этот раз был подтянут и строго смотрел на Панареля, словно требовал от него отчёта. Иров выглядел каменно-оживлённо: может быть, ему хотелось узнать вести оттуда. Но Панарель был по-прежнему светел и, казалось, находясь с ними, улетал.
Засвидетельствовали о себе. Панарель сухо улыбнулся.
… – Ну, как вам наш тёмный гнозис? – подмигнув Панарелю, проговорил, наконец, Виталий. – Я не говорю о Грелолюбове, он у нас юродивый зла, а о том… Ну, сами понимаете…
– Я пришёл сюда не для того, чтобы открывать, а для того, чтобы спасать, – ответил Панарель. – Что говорить о том, что всё равно не вместится в человеческие головы… Что я и сам-то не до конца знаю, ибо Отец мой Небесный больше меня. Но один спасённый больше любого знания, говорю я вам…
– Так это вы серьёзно: спасать! – расширив глаза от удивления, воскликнул вдруг распустившийся Грелолюбов. – Дорогой мой, вы не туда попали, – продолжил он, бесцеремонно толкнув в бок Панареля. – Здесь некого спасать… Может быть, вы не так поняли своего Папу… Или не туда занесло… Знаете, всё бывает.
Виталий, однако, одёрнул Грелолюбова. Укусов, тревожно блуждая глазами, всматривался в Панареля, забыв о пивке. Виталий грустно улыбнулся (был он приземист, и тень от его странных ушей падала на Панареля). Напротив зевала продавщица.
– Ну-с, ну-с, – пробормотал Виталий, подвинув соль в солонке к себе поближе, – ведь не скажете же вы, что для их спасения достаточно одной воли творца, а каковы они сами, какова их воля – это безразлично… Тогда вся история мира превратится в комедию, в театр марионеток… А если от них тоже зависит – то вам здесь, в миру, делать нечего… Сами Себя вы только и спасёте… Меньшая, лучшая часть человечества – давно глубоко наша, до последней капли спермы, по последнего вздоха, сами же вы говорили, что «человек возлюбил тьму»; а как возлюбил, это мы даже лучше вас знаем, ибо тьма стала их душою… Другая часть, подавляющее большинство людей на земле, – вообще несущественны; они сдёрнули с себя все маски и пришли к своей сущности, а сущность их – небытие… Не мешайте им навечно умереть… У них нет даже пародий на богов, есть только пародии на обезьян… Духовная и вечная жизнь для них непосильное и нелепое бремя… Спросите любого из них об этом, он даже не поймёт, о чём вы его спрашиваете… А я уверен, что если бы даже поняли, не захотели бы никакого бессмертия. Небытие в виде «жизни», то есть грязное ничто – их сущность здесь и, надеюсь, полное небытие – их будущее там…
– Только поэтому Я и пришёл сюда: чтобы победить мир, – ответил Панарель.
– Послушайте… дорогой мой, – уркнув, по-своему интимно опять обратился к нему Виталий, – зачем вы здесь?.. То, что мы здесь, это понятно: мы любим ад, мы теплы к нему, наша душа и его геенна – сродни, и потому его боль – наш хлеб насущный; мы посланы адом, который желает преобразиться, чтобы объять весь мир. И если вы, как вы говорите, сын Божий, то мы тоже знаем, чьи мы сыны… Мы сыны ада, и на земле потому, что возлюбили ад. Вы даже здесь, среди этих скотов, зверо-роботов слышите то, что они не услышат даже волею Бога – хи-хи, – ибо есть в душе нечто, куда не имеет доступ даже Бог… (вспомните вашего Мейстера Экхарта)… Да, да, вы и здесь слышите музыку сфер, зато мы здесь слышим адский хохот, который они тоже не слышат, но который нам слаще, чем ваша музыка сфер… И неизвестно, что ещё приведёт к высшему Концу… Зачем, зачем вы здесь?!!
– Сыну Божьему надлежит отдать свою жизнь за род сей, неверный и лукавый, – ответил Панарель. – Он будет предан, распят и убит, но воскреснет из мёртвых и вознесён будет… И оставлю здесь церковь для спасения их.
– Ничего у вас в этом мире, везде, среди людей, где бы вы ни были, не выйдет, – пухло вздохнул Виталий. – Они способны только жевать да изобретать свои машины, чтоб лучше жевалось… Если спасёте, то считанных, кто и сами, может быть, спасутся. Ваша церковь превратится в камень… Ад? Спасение от него? Думаю, даже подвалы ада побрезгают ими… Ад им ещё надо заслужить. Они выбрали своё будущее. Они «думают», что после смерти ничего нет – и так действительно будет, для них. Для них и здесь в духе ничего нет. И это своё «ничего нет» они перенесут в вечность. Те же, кто «верят», по сути, неотличимы от неверующих… Их невозможно спасти.
– Неужели вы думаете, что Я это всё не знаю? – вдруг раздражённо прервал Панарель. – Но помните: то, что невозможно человеку, возможно Богу…
– Да полно… Уж не ошиблись ли там – нелепо! – случаем, – вдруг захохотал Грелолюбов. – Скорее, они всего-навсего просто трупы. Знаете, бывает такое квази-воскресение мёртвых… Так что тут всё беспредметно.
Ожирев личиком, он подмигнул Панарелю. Укусов расплескал пиво. Панарель встал. Через минуту они уже выходили из пивной. Грелолюбов, опять набросив жабообразность, семенил около Панареля, отламывая веточки с попадающихся деревьев.
– А всё-таки, – подкрикивал он, обращаясь руками на себя, – может быть, то, что мир сейчас, в некотором смысле, так воплощён и утратил связь с потусторонним – это тоже своего рода спасение. Может быть, будет совсем утрачена эта связь, и после многих столетий они утвердятся только здесь, даже в смысле физического бессмертия, защитив себя таким образом от нечеловеческого. Ведь здесь, под защитой тела, они смогут стать, как господа в хлеву… А сейчас к этому только переходят – отсюда неизбежно то, что видим: жертвы, трупы, омертвение и исчезновение… Тогда наша задача – тоже устроиться здесь, в посюстороннем (в конце концов и для нас это тоже безопасно и выгодно: ведь от добра добра не ищут, плевать на невидимое, останемся здесь), но так как мы не можем без духа, без отчаяния, без провалов и абсурда, без всего высшего, то мы в конце концов перенесём потустороннее сюда и хотя спасём мир от вечности во скоте, но и привнесём бездны… Хотя, может быть, и без всяких тамошних крайностей… Нам же лучше… Любовь к аду любовью, но иногда и у самого дух захватывает… Хочется передышки… А? – Грелолюбов на ходу, болтая ножками, заглянул в глаза Панарелю.
Наступила тишина. Панарель вдруг медленно стал уходить от них. Виталий тоже куда-то исчез.
На истоптанной, точно слонами, тропке остались трое: Грелолюбов, Укусов и Иров. Где-то выл не то человек, не то кошка. Хохотали дети.
– Но прежде всего не называй его Господь; это вредит нашим отношениям, – проговорил Костя. – …Подумай о том, что на самом деле он более прост.
Рано утром в коридоре опять раздался истерический крик. Кричал сосед Савелий по прозванию «лохмотун» – кричал просто так, из пустого клозета, откуда только что выкатились супруги Мамоновы, оставив после себя клубок пыли. Утро наступало тяжёлое, пасмурное, ещё более мрачное, чем ночь, именно потому, что был день, а тьма не сходила. Грязно-серый свет лился в прямое, длинное, нелепое горло коридора. Где-то зашурушились занавески.
Строгий старичок Панченков, заглянув в клозет, всё-таки увидел, что Савелий не просто орёт, но ещё, по обыкновению, сбирает с себя вшей и целует их. (У него была такая странная привычка, на которую никто не обращал внимания.) Но Панченков, однако же, взвился.
– Безобразие! Безобразие! – заголосил он. – Почему Савелий здесь не гадит! Клозет не молельня и не столовая, чорт побери! Я буду жаловаться милиции!! Мне жить осталось совсем ничего! – неожиданно, тонким голоском, взвыл он. – Не потерплю! Обманщики!! Кругом надувательство!! Несправедливость!
Его уняли, бросив на него одеяло. Выходной этот день начинался, как во тьме, впопыхах, точно на головы всех были накинуты мешки. Только Мамоновы не подавали знаков. Савелий вышел из клозета совсем захмурённый и пошёл на кухню: спать. Костя ещё дремал, как выкатилась Лизонька, заплаканная и с гитарой в руках. Оно прошла на кухню и села на подоконник, открыв окно: там виделся мир: двор с деревянными постройками, лужайками и много котов, собак среди странных, монстровидных людей, теряющихся в серой мгле. Лизонька вздохнула свободней: наконец-то повеяло чем-то лёгким. Голова её стала твёрже, как чугун, наполненный мыслью. Бренькая на гитаре, она запела. На странный, не то таинственно-германский, не то мастодонтный рёв посыпались все – поближе к ней, к Лизе. Даже Савелий – на полу – дохнул во сне. Пришла старушка Низадова, молодящаяся под самоё себя, со своим вечным зеркальцем. Она неизменно подмигивала себе, молодой, квази-виднеющейся там, в зеркале. Пришёл и угрюмый Николай, который никогда ничего не понимал. Он сел на пол и закурил. Только деловое существо – Семёнкина – хлопотала возле ведра. Она рада была бы всех прогнать, но любила, когда её видели в деле.
– Грустно поёте, Лизонька, – сказала одинокая жирная дама, Екатерина Ивановна, обычно натыкающаяся на столбы.
Старичок Панченков поднял руки вверх.
– Мне жить осталось немного! – прокричал он высоким, бабьим голосом.
«Где Аврелий, – тоскливо подумала Лизонька, – красота моя предвечная, где ты?» Она отдыхала от стыда перед ночным соитием с мужем. Во время таких отдыхов томно кружилось в голове, и луна точно входила в сердце.
– Лиза, Лиза! – вдруг раздался крик, и появился Костя в одних трусиках.
Но никого не пугал его вид.
– Уходи, уходи! – пробормотал он, вдруг сконфузившись. – Ведь сейчас Сыроедов принесёт твоего, то есть своего, кота – кормить…
Соседи переглянулись. У Лизы появились слёзы на глазах. Костя, пожав плечами, мгновенно исчез. И правда, вдали, из соседского коридора, дверь в который была полуоткрыта, послышался хриплый лай мятущегося Сыроедова. Аврелий был его собственный кот, и он держал его на свободе, однако же кормил по утрам при себе. Сыроедов был маленько сильный, коряжистый, красный и со взором, точно исходящим из стали, в которой появился скованный разум. Даже спал он всегда в кепке. Все не любили его за складки на шее и потому разошлись, кроме Низадовой, которая сжимала своё старчески-миловидное, круглое личико, смотрясь в зеркало, поставленное на стол. Когда она это совершала, то ни на кого не обращала внимания; высшая цель её была – выжать из своего похотливо-сморщенного личика настоящую мужскую сперму, точно она была ею наполнена изнутри. И чтобы она – эта сперма – потекла масляной, жирной струёй из корявого носа, из больных ушей, из жизненных, с истерией, глаз. Это было бы пределом её мечтаний; иными словами, своё личико Низадова рассматривала, как думающий член. Такое своеобразное извращение прямо-таки убаюкивало её, погружая в водяную смерть.
Сыроедов, наткнувшись на спящего Савелия, выругался и чуть не уронил облизывающегося кота. Лизонька побагровела и, закрыв глаза, читала молитвы. Она всегда была не в себе, когда Сыроедов по утрам своими огромными красными лапищами кормил кота, похлопывая его по морде. То, что над котом издевались, она принимала за сон. Но тем не менее страшно боялась, что его убьют. Когда Костя возражал, что Бога нельзя убить, Лизонька плакала и говорила, что Бога – нельзя, а возлюбленного – можно, а этот, кот шептала она, не только Господь, но и мой возлюбленный в образе. Однако ещё больше возможной смерти она страшилась отчуждённости кота, особенно во время еды или молитвы. Тогда она рвала на себе волосы и рыдала целыми ночами. «Он опять не смотрел на меня, – говорила она про себя. – Как тяжко быть оторванным от собственной красоты».
Но иногда, вглядываясь в Аврелия, – даже когда он был обычным – она в муке чувствовала, что Красота и Блаженство, исходящие от кота, невыносимы, как божественная ноша, для её души. Что они столь огненны и сладчайши, что её душа сгорает в этом свете, только приблизившись к ним и не вкусив и малой доли. «Недоступно, недоступно!» – кричала она тогда и билась в забытьи.
Сыроедов, между тем, сев на корточки, кормил кота с пальцев. Лиза, осознав, что чем больше мучений коту, тем больше Небесного Света, запела. Вообще, у неё бывали состояния, когда она пела, глядя на кота. И глаза её горели тогда любовью, пред которой стушевались бы любовники-люди.
Наконец Лиза бросила петь. Костя угрюмо поглядывал на всё из щели. Дитя старика Панченкова, стоя на четвереньках сзади Кости, щекотало его пятку. Несмотря на утро, было темно.
Так и бывали они: приземистый Сыроедов, облапив Аврелия, всё совал ему в рот свежее мясо, стекающее ему по пальцам; Лизонька с размётанными волосами сидела на подоконнике и грубо-пристально, не отрываясь, смотрела на кота; только старушонка Низадова, глядя на себя в зеркало, попискивала, выжимая из своего личика что-то родное и липкое, напоминающее ей сперму, да доносились обрывочные, не то скотские, не то людские выкрики со двора.
Вдруг откуда-то взвился старичок Панченков. Пошевелив задом, он прямо-таки взмыл над Лизою и, деревянно повернув голову, посмотрел в окно.
– Никак Мессия опять во дворе, Мессия! – прокричал он, обращаясь к спящему Савелию.
2
Мессия, или, как он сам себя иначе называл, Панарель, появился здесь недавно, поздней весной. Откуда Он пришёл и кто Он такой – никто даже формально не знал. Жители вышеописанного дома № 7 вообще не обратили на него большого внимания. Но кое-кто, из других окружающих, зашевелился.
Внешний вид Панареля вполне соответствовал представлению о Мессии: он был высок, худ, с женственно-мужественным лицом и глубокими, не из мира сего, глазами. Общее впечатление было как от стремительного, но величественного существа. Он утверждал, что учит как власть имеющий и говорит не от Себя, а от Небесного Отца, его пославшего. Проповедовал он религию любви и обещал не более и не менее как спасти погибшее. Это последнее особенно вызывало какое-то мутное беспокойство и даже подозрение. Укусов, садист-эзотерик, который был склонен причислять самого себя к погибшим, часто, прислонившись к помойке и прожёвывая крупу, покачивал головой: «Да ведь Он идёт против мирового порядка, который не есть любовь… И что это у Него за Папенька, который противопоставил Себя Творцу». Но соблазн, однако же, был велик. Тем более что Панарель обещал «давать воду жизни даром». Часто Укусов, насладившись убиением курицы (у него не бывало оргазма без умерщвления), потный и понурый, чуть подпрыгивая, брёл на проповеди Панареля.
«Не так, как мир даёт, Я даю… Но человек возлюбил тьму…» – доносилось до него издалека.
Из понимающих один Грелолюбов, который считался извращённым гностиком, первое время не был озабочен действиями Панареля. Грелолюбов жил через забор от дома № 7. Он не раз приходил послушать Панареля, посмотреть его чудеса, но относился к нему равнодушно-спокойно, хотя и как-то по-братски. Сам Грелолюбов считал тварный мир результатом трансцендентного эротического акта Единого, а самих тварей, таким образом, – феноменами эротического воображения Творца. Духи и люди, например, – по Грелолюбову – существуя, как и весь мир, в уме Единого Бога, быди игрушками, персонажами Его трансвоображения.
Строгая иерархичность мира была следствием неравномерности отдельных моментов истечения высшей фантазии; иными словами, все существа в равной степени возбуждали Единого, и ценность неповторимость каждой личности зависела от её способности пробудить трансцендентное «вожделение» и вызвать его на себя. Тем более что в какой-то степени все разумные существа были автономны, и свобода воли не нарушалась.
В этом пробуждении и состоял смысл закулисной жизни Грелолюбова: он считал, что если он будет более сладострастен и неповторим, то и торжества, и бытия выпадет на его долю побольше. Он даже потаённо возжаждал заработать на этом личное бессмертие. С грустью смотрел он на мир: люди, твари, не зная, что они существуют ради трансцендентного эротизма Всевысшего, мало занимались собою в этом отношении, и Творец терял к ним интерес. Как окаменевшие, бездушные истуканы коченели они, теряя свой смысл, душу, эстетический шарм, превращаясь в грубую и телесную материю, то есть в отходы. Лишь некоторые ещё возбуждали нарциссическую волю Творца (такой путь был весьма двусмыслен, так как период, когда мир не существовал, соответствовал абсолютному нарциссизму Единого, Его самотождеству, и мир, чтобы существовать, потенциально должен был стремиться заинтересовать собой Творца, однако, желательно не через пробуждение до конца Его нарциссизма). Сейчас, по мнению Грелолюбова, дело обстояло особенно плохо: возгорался особый период, который в нашем сознании мог преломляться как период бреда Всевышнего, и история была переполнена кошмарными фантомами; добавьте ещё прежние окаменелости, к которым интерес был уже навеки потерян и которые, однако же, – может быть, из милости – автоматически существовали, как смердящие трупы разочарованности; плюс различные отходы, нюансы, феномены самоуничтожения; поэтому было понятно, отчего Грелолюбов так вздыхал и жаловался, что он один ещё, по существу, сознательно заигрывает с Вожделением Единого, правда, без декаданса… Таков был гностик тьмы и дьявола, и такова была его теория.
Однако Грелолюбов не прочь был по-своему оценить «дикую» религию добра Панареля. Правда, Небесного Отца, к которому взывал Панарель и Сыном которого он себя объявлял, Грелолюбов относил к одному из высших начал, а отнюдь не к самому Абсолюту.
Когда во дворе дома № 7 целый смрад малых сил (сих?) собирался послушать Панареля, рассаживаясь, где кто мог: на пнях, на деревьях, на скамейках, на земляных клозетах, Грелолюбов, отвиляв задницей, тоже шёл туда.
Не обижал Панареля вниманием и Иров, угрюмый монстр, главарь некой метафизической банды, занимающейся непотребными духовными операциями. Сам Иров лицом был тяжёл, словно окаменевшее божество, но со взглядом водянисто-властным и неподвижно-беспокойным (кроме того, лицо его было в серых буграх).
Венцом всего был Виталий, у которого сам Грелолюбов ходил в учениках, да и Иров подучивался (Укусов был более сам по себе). Виталий основал школу нового гнозиса, гнозиса, порвавшего со светоносными религиями и заключившего союз с мраком.
Сразу же после первой большой проповеди Панареля, когда малые разошлись, Виталий решил поговорить с Панарелем по душам. Около были и Укусов, и Грелолюбов, и Иров. Панарель покойно согласился.
Решили пройти тропкой, между высоким, раздражающим своей нелепой таинственностью забором и пустой канавой. Тропинка, виляя по чахло-зелёным лужайкам с облёванными бумажками, вела к одинокой, словно не от мира сего в своей мирности, пивной. Панарель шёл впереди, высокий и лёгкий, Виталий чуть сзади, покачивая точно превращающимся в мысль животом; остальные – сбоку. В пивной, напоминающей летнюю веранду, почти никого не было: только пил молоко хмурый, неразговорчивый молодой человек. Укусов, крикнув, пошёл за пивом – равнодушная официантка чуть пролила на пол. Было тепло, и дул свежий ветер, точно деревья стали живые, но по-смертному. Расселись за столиком. Панарель не отказался от пивка, но пил, не пьянея. Остальные как-то нехорошо оживились. Грелолюбов, своим видом обычно жабообразно-мистический, на этот раз был подтянут и строго смотрел на Панареля, словно требовал от него отчёта. Иров выглядел каменно-оживлённо: может быть, ему хотелось узнать вести оттуда. Но Панарель был по-прежнему светел и, казалось, находясь с ними, улетал.
Засвидетельствовали о себе. Панарель сухо улыбнулся.
… – Ну, как вам наш тёмный гнозис? – подмигнув Панарелю, проговорил, наконец, Виталий. – Я не говорю о Грелолюбове, он у нас юродивый зла, а о том… Ну, сами понимаете…
– Я пришёл сюда не для того, чтобы открывать, а для того, чтобы спасать, – ответил Панарель. – Что говорить о том, что всё равно не вместится в человеческие головы… Что я и сам-то не до конца знаю, ибо Отец мой Небесный больше меня. Но один спасённый больше любого знания, говорю я вам…
– Так это вы серьёзно: спасать! – расширив глаза от удивления, воскликнул вдруг распустившийся Грелолюбов. – Дорогой мой, вы не туда попали, – продолжил он, бесцеремонно толкнув в бок Панареля. – Здесь некого спасать… Может быть, вы не так поняли своего Папу… Или не туда занесло… Знаете, всё бывает.
Виталий, однако, одёрнул Грелолюбова. Укусов, тревожно блуждая глазами, всматривался в Панареля, забыв о пивке. Виталий грустно улыбнулся (был он приземист, и тень от его странных ушей падала на Панареля). Напротив зевала продавщица.
– Ну-с, ну-с, – пробормотал Виталий, подвинув соль в солонке к себе поближе, – ведь не скажете же вы, что для их спасения достаточно одной воли творца, а каковы они сами, какова их воля – это безразлично… Тогда вся история мира превратится в комедию, в театр марионеток… А если от них тоже зависит – то вам здесь, в миру, делать нечего… Сами Себя вы только и спасёте… Меньшая, лучшая часть человечества – давно глубоко наша, до последней капли спермы, по последнего вздоха, сами же вы говорили, что «человек возлюбил тьму»; а как возлюбил, это мы даже лучше вас знаем, ибо тьма стала их душою… Другая часть, подавляющее большинство людей на земле, – вообще несущественны; они сдёрнули с себя все маски и пришли к своей сущности, а сущность их – небытие… Не мешайте им навечно умереть… У них нет даже пародий на богов, есть только пародии на обезьян… Духовная и вечная жизнь для них непосильное и нелепое бремя… Спросите любого из них об этом, он даже не поймёт, о чём вы его спрашиваете… А я уверен, что если бы даже поняли, не захотели бы никакого бессмертия. Небытие в виде «жизни», то есть грязное ничто – их сущность здесь и, надеюсь, полное небытие – их будущее там…
– Только поэтому Я и пришёл сюда: чтобы победить мир, – ответил Панарель.
– Послушайте… дорогой мой, – уркнув, по-своему интимно опять обратился к нему Виталий, – зачем вы здесь?.. То, что мы здесь, это понятно: мы любим ад, мы теплы к нему, наша душа и его геенна – сродни, и потому его боль – наш хлеб насущный; мы посланы адом, который желает преобразиться, чтобы объять весь мир. И если вы, как вы говорите, сын Божий, то мы тоже знаем, чьи мы сыны… Мы сыны ада, и на земле потому, что возлюбили ад. Вы даже здесь, среди этих скотов, зверо-роботов слышите то, что они не услышат даже волею Бога – хи-хи, – ибо есть в душе нечто, куда не имеет доступ даже Бог… (вспомните вашего Мейстера Экхарта)… Да, да, вы и здесь слышите музыку сфер, зато мы здесь слышим адский хохот, который они тоже не слышат, но который нам слаще, чем ваша музыка сфер… И неизвестно, что ещё приведёт к высшему Концу… Зачем, зачем вы здесь?!!
– Сыну Божьему надлежит отдать свою жизнь за род сей, неверный и лукавый, – ответил Панарель. – Он будет предан, распят и убит, но воскреснет из мёртвых и вознесён будет… И оставлю здесь церковь для спасения их.
– Ничего у вас в этом мире, везде, среди людей, где бы вы ни были, не выйдет, – пухло вздохнул Виталий. – Они способны только жевать да изобретать свои машины, чтоб лучше жевалось… Если спасёте, то считанных, кто и сами, может быть, спасутся. Ваша церковь превратится в камень… Ад? Спасение от него? Думаю, даже подвалы ада побрезгают ими… Ад им ещё надо заслужить. Они выбрали своё будущее. Они «думают», что после смерти ничего нет – и так действительно будет, для них. Для них и здесь в духе ничего нет. И это своё «ничего нет» они перенесут в вечность. Те же, кто «верят», по сути, неотличимы от неверующих… Их невозможно спасти.
– Неужели вы думаете, что Я это всё не знаю? – вдруг раздражённо прервал Панарель. – Но помните: то, что невозможно человеку, возможно Богу…
– Да полно… Уж не ошиблись ли там – нелепо! – случаем, – вдруг захохотал Грелолюбов. – Скорее, они всего-навсего просто трупы. Знаете, бывает такое квази-воскресение мёртвых… Так что тут всё беспредметно.
Ожирев личиком, он подмигнул Панарелю. Укусов расплескал пиво. Панарель встал. Через минуту они уже выходили из пивной. Грелолюбов, опять набросив жабообразность, семенил около Панареля, отламывая веточки с попадающихся деревьев.
– А всё-таки, – подкрикивал он, обращаясь руками на себя, – может быть, то, что мир сейчас, в некотором смысле, так воплощён и утратил связь с потусторонним – это тоже своего рода спасение. Может быть, будет совсем утрачена эта связь, и после многих столетий они утвердятся только здесь, даже в смысле физического бессмертия, защитив себя таким образом от нечеловеческого. Ведь здесь, под защитой тела, они смогут стать, как господа в хлеву… А сейчас к этому только переходят – отсюда неизбежно то, что видим: жертвы, трупы, омертвение и исчезновение… Тогда наша задача – тоже устроиться здесь, в посюстороннем (в конце концов и для нас это тоже безопасно и выгодно: ведь от добра добра не ищут, плевать на невидимое, останемся здесь), но так как мы не можем без духа, без отчаяния, без провалов и абсурда, без всего высшего, то мы в конце концов перенесём потустороннее сюда и хотя спасём мир от вечности во скоте, но и привнесём бездны… Хотя, может быть, и без всяких тамошних крайностей… Нам же лучше… Любовь к аду любовью, но иногда и у самого дух захватывает… Хочется передышки… А? – Грелолюбов на ходу, болтая ножками, заглянул в глаза Панарелю.
Наступила тишина. Панарель вдруг медленно стал уходить от них. Виталий тоже куда-то исчез.
На истоптанной, точно слонами, тропке остались трое: Грелолюбов, Укусов и Иров. Где-то выл не то человек, не то кошка. Хохотали дети.