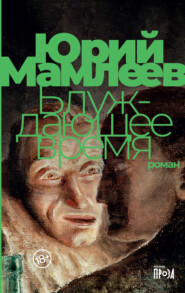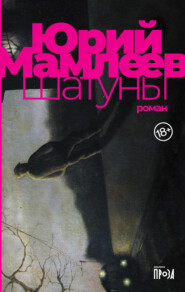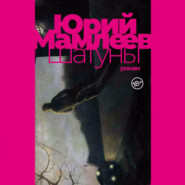По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений. Том 2. Последняя комедия. Блуждающее время. Рассказы
Автор
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда Иров, словно в забытьи, наносил свои последние удары, глаза Господа были уже закрыты для мира: Он в духе посылал только предсмертные лобызания Себе, Небесному, столь внезапно отдалившемуся от Него, и видел бездонный свет, в котором были глубина и тайна, столь далёкие от всего живущего… Последнее Его слово было: «Свершилось…»
Иров и Валерий, мокрые от слёз, поедали тело Господа, отрезая от него кусочки и поджаривая их на костре. Земля была пуста и мертва.
Глава IV. Куры и трупы
Конец длинного коридора строения номер восемь, что в Лианозове по Пыльной улице, делает загиб, образуя тёмный угол, вернее, обширный закуток, в котором пять или шесть комнат-квартир. Рядом, в глубине, собственный клозет с несколькими толчками. Но решительнее толчков здесь выделяются лица людей. Да и сами обитатели хороши. Они выходят из тьмы, как одеревенелые боги неизвестного, тайного племени.
Взять хотя бы Саню Моева. До описываемых здесь событий никто о его внутренних странностях и не слыхивал. Если не считать, конечно, пения рожка. Но об этом сам Саня охотно и, пуская слюну, рассказывал по вечерам. Дело состояло в том, что когда он мочился (а мочился Саня по нескольку раз в день), то неизменно откуда-то из глуши – только для его уха – раздавалось таинственное пение рожка. От этого у Сани не раз бывали нервные расстройства, и он пытался даже расчёсывать свой член гребешком. Больше никто ни из какой глуши пение рожка никогда и не слыхивал. Хотя сам Саня просил подслушивать. На последнее особенно клюнула сластёна Евгения – гибкая женщина лет тридцати, жиличка комнаты номер три. Именно благодаря своей сладостности. А сластёной она действительно была до абсурда и даже после половой оргии подмывалась компотом. Её били за это, ругали, но она от себя никогда не отказывалась. Часто, особенно летом, только прослышав, что Саня, тяжело крякая, идёт в дворовый клозет, она выскакивала из своего окна, туда, где бледное небо и просторы, и настраивала своё ухо на «глушь». Оттуда, из «глуши», и доносилось до Сани нежное, хотя и немного диковатое пение рожка.
Но сама Евгения никогда ничего не слышала. Нередко, вернувшись в комнату, она залезала в слезах под кровать. И какие-то томные запахи порой через полураскрытые двери доходили до нюха одиноко бродивших по коридору обывателей.
Её муж – Миша – жил рядом, в углу и, наоборот, никогда не шевелился ни на какие знаки. Это было потому, что вся чувствительность Миши сосредоточилась в половой сфере. В быту, в обыденной жизни, он даже надевал на свой член байковый чехол, который заботливо сшила ему родная сестра. А во время соития часто кричал: «Ой, мама… Ой, мама!»
Отпадали также угрюмая старуха Анфиса, любившая в жизни только плясать, и работящий мужик Григорий, который (по отключённости своей) с течением жизни потерял членораздельную речь, объясняясь занырливо, односложно и улюлюкая, как живая труба. Напротив, единственный интеллигент в закутке-коридоре, несколько странный Семён Петрович, прислушивался. Однако ж ничего не слышал. И после этого, как правило, пытался писать свои доносы на кошек.
Жена Моева – Груня – не принимала всерьёз слух о пении рожка; она, мясистая и пристукнутообразная (в здоровом смысле этого слова), на вопрос о моче и рожке только повторяла, выпятив на собеседника вместо глаз огромные груди:
– Санька уврёт… Уврёт Санька… Ничего не было.
И после этих слов всем хотелось выть. Выть, потому что такой уж был у Груни голос.
Но больше всего нервозен Саня становился, когда пение рожка связывали с его платонической возлюбленной Евдокией, у которой от разврата выпали почти все зубы и которую Саня в мечтах своих особенно выделял. Эта тридцатипятилетняя женщина жила у самого края закутка и любила петь. «Горемычная», – говорила о ней бабка Анфиса, проплясав.
На бабку иногда нападали приступы слезливости, и тогда она, промелькнув вонючей тенью, неслышно заскакивала к кому-нибудь в комнату и, подобравшись сзади, тяжело клала руку на плечо, что-нибудь просюсюкав потом. Жильцы шарахались, порой падали, но Анфиса отвечала:
– Родные мы друг другу… Родные… Ведь в один тувалет ходим, один… Да после этого мы все друг другу матеря, – и убегала, оскалясь.
Итак, кроме пения рожка, на виду вроде не было особенных тайн. Исключая намёки. Например, около строения, поскольку место было полупригородное, стоял общественный курятник, где держались подсобные куры. Да и вообще, на воле гуляло много кур, принадлежащих Бог знает кому. Из-за этого, между прочим, часто бывали драки.
Но однажды… Впрочем, день этот начался как обычно: с очереди. Дело в том, что клозет в закутке коридора был единственный на весь этот бесконечно длинный, с заворотами, коридор, и хотя в клозете стояло несколько толчков, как в женской, так и в мужской половине, всё равно трудно было уложиться, и, по множеству жителей, порой, особенно в часы пик, возникали огромные очереди. Некоторые приходили с книжками, с картами строения мозга, с научными брошюрами о том, что ни Бога, ни души нет. Надо было скоротать время, а науку любили все, тем более что иные работали специалистами. Гоготали, обменивались мнениями о том, что ничего нет, хлопали друг друга по задам. Впрочем, не всегда. Иногда возникала мертвенная, нелюдимая тишина. Как в могилах, из которых ушли покойники. Только вдруг возникавшие визг и полудраки напоминали о жизни, о бытии.
На этот раз всё было сумрачно и одиноко. Даже плакат о том, что «нет загробного мира», упал на пол. Груня, супружница Сани, стояла в очереди уже полчаса. Терпение кончалось. Она была последней. Как только распахнулась клозетная дверь под буквой «Ж» и выскочила рваненькая старушонка с газетами, Груня забежала внутрь.
В этой кабине было почему-то два толчка, почти рядом, и на одном из них сидела профессорша, не жена профессора, а сама специалистка, оказавшаяся по воле судеб в этой коммунальной квартире. Груня, мысленно харкнув, юркнула на толчок, который заскрипел. Профессорша изучала карту головного мозга и до того была погружена в своё занятие, что плакала. Она думала о том, что, наконец, нашла в мозгу человеческую индивидуальность, и теперь в сотый раз доказано, что души нет и что всё содержится только в мозгу. Грязные слёзы, слёзы счастья, текли по её щекам, и она вспоминала, как трудно ей приходилось в этом практическом мире из-за слишком большой направленности её работ на идеальное, на теорию, на Добро, а не на святую практику по обработке действительности. Груня, отличавшаяся стыдливостью, чуть не уснула – для защиты – под слёзы и всхлипы профессорши. В последний момент, перед соскоком, Груня вспомнила, что надо подтереться, и механически сунула руку в щель, где хранились газеты. Оцарапав кисть, она рванула что-то вроде тетради и вместо газет на самом деле увидела тетрадку, на обложке которой слезливым почерком было написано: «Интимный дневник Саши Моева».
– Ну и ну, – обалдела она и чуть не плюхнулась вниз. – Надо почитать.
Но то, что Груня прочла в первых строках, так поразило её, что, грубо соскочив с толчка, – под возмущённый вопль профессорши, которой помешали думать, – она убежала в свою комнату. Но и в комнате туман (который она почему-то назвала «научным») плыл перед её глазами. Сквозь «научный» туман выплывали строчки, а больше всего мокрые места на тетрадке, явно напоминавшие размытые слёзы.
Слова же были совершенно несусветные, вроде: «Пеструшка сегодня опять не дала… Весь вечер тайком гонялся за белой курицей… Весь живот в пуху… Как больно клюётся петух… За что?». И кроме того, было нечто совсем неприличное.
Наконец Груня ахнула, но тут же подумала, что её наверняка разыгрывают. Пожевав язык, она вспомнила, что Саню действительно недолюбливал большой серый петух, надутый и надменный, который частенько подскакивал и клевал его в зад. Саня не раз скрывался от него по чердакам. Решив, что такая дурашливость петуха очень некстати пришлась к этому розыгрышу, Груня решила всё-таки в намёке расспросить соседей. Она сразу же направилась в клозет, к думавшей профессорше. Мимо просеменил запоздавший старичок с ночным горшком.
Профессорша ещё сидела на толчке. Груня зашла и с несвойственной ей робостью прижалась к стене кабины.
– Что тебе, Груня? – строго спросила профессорша, поправив очки.
– Бывает, что мужик живёт с курою, как с бабою, или не бывает, Софья Олимпиадовна?! – протрубила Груня, прикрывая застенчивость похабным смешком.
– Выйдите вон! – взорвалась профессорша. – Вон отсюда… Наука… Наука!! – закричала она громким, зазывающим голосом.
Груня, выругавшись и ничего не осознав, выскочила из кабины. Но почему-то тупо успокоилась. Однако ж спустя полчаса, по бабьему любопытству, задала этот же вопрос странному старичку Семёну Петровичу. Тот – к её удивлению – сначала промолчал, а потом вдруг осторожно повернул к ней заросшую седыми волосами головку и подмигнул. Этот подмиг разозлил её, и ей захотелось швырнуть в старичка кастрюлей…
Незаметно, в хлопотах, прошёл вечер. Груня, у которой был отгул, тихо, в комнате, поджидала Саню, попивая чай из самовара и навалившись грудями на липкий стол. Тетрадка, в доказательство гнусного розыгрыша, лежала на самом видном месте.
В дверь что-то стукнуло, и на пороге показался Саня. По её мыслям, он возвращался с работы, но был почему-то весь в пуху и с неестественным, диким взглядом, как будто только что сошёл с небес.
Увидев тетрадку, он закричал, взвизгнув что-то про пьянку, из-за которой он тетрадь не в тот тайник засунул, и начал, бегая по комнате и стуча грязными подошвами, мерзко каяться. Почему-то вскрикивал, упоминая о курах, что имел дело не с естественными отверстиями, а с поверхностью куриного тела, которое бьётся и т. д. Груня завыла. Глаза её заблестели, и она встала. Грудь (на которой, по сновидениям Сани, росли, как сочные огурцы, мужские члены) высоко вздулась и обнажилась. Она колотила себя в эту обнажённую грудь красными кулаками и кричала:
– Это от мене – к курам!!! Это от мене – к курам!!!
Больше она ничего не могла выговорить. Казалось, красные сосцы её взбухли от крови и возмущения. Саня до того перепугался, что опрометью выбежал из комнаты.
Как ни странно, к ночи гнев Груни немного поулёгся. «Чему бывать, тому не миновать», – успокаивала она себя (Груня любила здравый смысл). Но ярость всё же не давала покоя. Саня, тихий и присмиревший, всё время назойливо лез со своими поцелуйчиками. Груня, по бабьей слабости, не отказала. Саня на этот раз был старателен, не кряхтел и держал добрые полтора часа. После чего разомлевшая Груня не знала, то ли ему дать по морде и простить, то ли обласкать и простить. Однако утро показало всё в ином свете. Проснувшись, Груня обнаружила, что она вся в курином пуху; пух забился чуть ли не в матку, обложил бигуди. Ярость и желание отомстить за измену закипели снова. Дала затрещину полусонному Сане. Тот промямлил, что-де куры хорошие, и, желая польстить Груне, пробормотал, что любил их из-за ихнего сходства с нею. Получил ещё затрещину. Обмываясь, Груня ещё больше была не в себе. Внутри настойчиво сверлило: надо донести, чтоб Саня понёс суровое наказание. Но одно удерживало её: ещё ночью появилась у неё успокоительная мысль: Саня крепок, как мужик, только с нею, а-де к курам он почти импотентен. Но в этом ещё надо было убедиться. Поэтому за завтраком Груня предъявила опять перетрусившему Сане ультиматум: или она на него донесёт, куда следует, или он покажет ей свою куриную любовь. Для чего ей это было нужно, Груня, конечно, не упомянула, и судьба Сани теперь зависела от его импотенции.
При слове «донос» сам Саня так одурел, что только кивнул головой, но потом подскочил и, схватив Груню за руку, как в забытьи, потащил её в курятник. Груня, матерясь, кричала, что ей надо сначала позвонить на работу, чтобы попросить отгул.
Наконец, отзвонившись, Груня вбежала к курам, но то, что она увидела, удовлетворило её уже с обратной стороны: куры летали по всему сараю, кудахтали, Саня плакал, кидался на них, как в объятия, и особенно норовил настичь одну большую и жирную курицу… «Хорош… Хорош… Мой-то», – только и приговаривала Груня.
Наконец Саня повернул к ней заплаканное лицо и проревел, что у него ничего не получается. Он был в истерике. На дикий шум потянулись соседи. Груня решила, что надо закругляться; «непутёвый», – сурово-ласково одёрнула она Саню. Анфиса плясала уже где-то невдалеке. Бежал Миша, на ходу надевая на свой член байковый чехол. Улюлюкал, как живая труба, Григорий. Казалось, сами куры понимали его. Впрочем, все решили, что была милиция. Только Евгения, высунувшись из окна, настраивала своё ухо на пение рожка. Компот тёк по её губам.
Груня затолкнула Саню в дворовый клозет и, несколько обрадованная, вприпрыжку побежала на работу. Саня заснул в клозете. И во сне видел Бертрана Рассела.
Раскрытие такого порока осложнило дальнейшую Санину жизнь. Порой он цеплялся за свою платоническую влюблённость в Евдокию, в ту, у которой от разврата выпали зубы. Груня одним напоминанием о возможности доноса держала Саню в чёрном теле. Заставляла теперь стирать бельё, мыть пол, выносить горшки.
Саня пытался найти злополучную тетрадь, но она как в воду канула: так надёжно Груня её припрятала. С течением времени ей даже стало нравиться такое положение: действительно, Саня был тих, как мышка. В отношении кур Груня убедила себя, что Саня-де впал в слабоумие и что эти куры для него – как игрушка для сопливого дитя. Правда, иногда ревность укалывала её в самое сердце, и она бросала сердитые взгляды на какую-нибудь чересчур крупную курицу. И никогда не отказывала себе в удовольствии полакомиться курятиной. «Что ж, женщина есть женщина», – меланхолично думал тогда Саня, поглядывая на жующую жену. Сам он никогда не притрагивался к курятине, проявляя несвойственный ему гуманизм. На этой почве происходили иногда сцены, нарушавшие более или менее стабильный ход семейной жизни.
– Будешь жрать или нет?! – однажды, совсем рассвирепев, заорала на него Груня в присутствии гостей.
– Не буду, – побледнев, ответил Саня.
– Жри, жри и не выплёвывай, – протрубила Груня.
– Да для меня это всё равно что человечину есть, пойми ты, в конце концов! – завизжал Саня, вскакивая со стула. – Дай я лучше их съем! – закричал он, указывая на гостей.
– Саня, донесу, – сурово пригрозила Груня.
Саня сразу обмяк, сел за стол и, давясь, начал жрать. Гости переглядывались…
И хотя после таких сцен вроде всё опять входило в своё обычное русло, Саня внутренне всё больше грустнел. Появился даже намёк на религиозность.
Так текли дни. Но одно событие совсем доконало Саню. Началось оно в один чистый воскресный день, уже ближе к осени, когда все разбрелись по лужайкам, а в клозете, на толчке, осталась одна платоническая Санина возлюбленная Евдокия, которая надрывно пела там, бренча на гитаре. Рано утром она «выблевала» в толчок своё дитя, зародыша, и её тянуло к этому месту. Саня, как кот, жмурясь от удовольствия, сидел на полу коридора, подслушивая это пение из клозета. Он любил, когда Евдокия пела. Незаметно к нему подошла бабка Анфиса. На этот раз она не плясала.
– Профессорша-то помирает… Недолго ей осталось жить, – прошамкала она.
Саня вскочил: слово «смерть» больше значило для него, чем «любовь».
– А я не знал, – оторопел он.
Иров и Валерий, мокрые от слёз, поедали тело Господа, отрезая от него кусочки и поджаривая их на костре. Земля была пуста и мертва.
Глава IV. Куры и трупы
Конец длинного коридора строения номер восемь, что в Лианозове по Пыльной улице, делает загиб, образуя тёмный угол, вернее, обширный закуток, в котором пять или шесть комнат-квартир. Рядом, в глубине, собственный клозет с несколькими толчками. Но решительнее толчков здесь выделяются лица людей. Да и сами обитатели хороши. Они выходят из тьмы, как одеревенелые боги неизвестного, тайного племени.
Взять хотя бы Саню Моева. До описываемых здесь событий никто о его внутренних странностях и не слыхивал. Если не считать, конечно, пения рожка. Но об этом сам Саня охотно и, пуская слюну, рассказывал по вечерам. Дело состояло в том, что когда он мочился (а мочился Саня по нескольку раз в день), то неизменно откуда-то из глуши – только для его уха – раздавалось таинственное пение рожка. От этого у Сани не раз бывали нервные расстройства, и он пытался даже расчёсывать свой член гребешком. Больше никто ни из какой глуши пение рожка никогда и не слыхивал. Хотя сам Саня просил подслушивать. На последнее особенно клюнула сластёна Евгения – гибкая женщина лет тридцати, жиличка комнаты номер три. Именно благодаря своей сладостности. А сластёной она действительно была до абсурда и даже после половой оргии подмывалась компотом. Её били за это, ругали, но она от себя никогда не отказывалась. Часто, особенно летом, только прослышав, что Саня, тяжело крякая, идёт в дворовый клозет, она выскакивала из своего окна, туда, где бледное небо и просторы, и настраивала своё ухо на «глушь». Оттуда, из «глуши», и доносилось до Сани нежное, хотя и немного диковатое пение рожка.
Но сама Евгения никогда ничего не слышала. Нередко, вернувшись в комнату, она залезала в слезах под кровать. И какие-то томные запахи порой через полураскрытые двери доходили до нюха одиноко бродивших по коридору обывателей.
Её муж – Миша – жил рядом, в углу и, наоборот, никогда не шевелился ни на какие знаки. Это было потому, что вся чувствительность Миши сосредоточилась в половой сфере. В быту, в обыденной жизни, он даже надевал на свой член байковый чехол, который заботливо сшила ему родная сестра. А во время соития часто кричал: «Ой, мама… Ой, мама!»
Отпадали также угрюмая старуха Анфиса, любившая в жизни только плясать, и работящий мужик Григорий, который (по отключённости своей) с течением жизни потерял членораздельную речь, объясняясь занырливо, односложно и улюлюкая, как живая труба. Напротив, единственный интеллигент в закутке-коридоре, несколько странный Семён Петрович, прислушивался. Однако ж ничего не слышал. И после этого, как правило, пытался писать свои доносы на кошек.
Жена Моева – Груня – не принимала всерьёз слух о пении рожка; она, мясистая и пристукнутообразная (в здоровом смысле этого слова), на вопрос о моче и рожке только повторяла, выпятив на собеседника вместо глаз огромные груди:
– Санька уврёт… Уврёт Санька… Ничего не было.
И после этих слов всем хотелось выть. Выть, потому что такой уж был у Груни голос.
Но больше всего нервозен Саня становился, когда пение рожка связывали с его платонической возлюбленной Евдокией, у которой от разврата выпали почти все зубы и которую Саня в мечтах своих особенно выделял. Эта тридцатипятилетняя женщина жила у самого края закутка и любила петь. «Горемычная», – говорила о ней бабка Анфиса, проплясав.
На бабку иногда нападали приступы слезливости, и тогда она, промелькнув вонючей тенью, неслышно заскакивала к кому-нибудь в комнату и, подобравшись сзади, тяжело клала руку на плечо, что-нибудь просюсюкав потом. Жильцы шарахались, порой падали, но Анфиса отвечала:
– Родные мы друг другу… Родные… Ведь в один тувалет ходим, один… Да после этого мы все друг другу матеря, – и убегала, оскалясь.
Итак, кроме пения рожка, на виду вроде не было особенных тайн. Исключая намёки. Например, около строения, поскольку место было полупригородное, стоял общественный курятник, где держались подсобные куры. Да и вообще, на воле гуляло много кур, принадлежащих Бог знает кому. Из-за этого, между прочим, часто бывали драки.
Но однажды… Впрочем, день этот начался как обычно: с очереди. Дело в том, что клозет в закутке коридора был единственный на весь этот бесконечно длинный, с заворотами, коридор, и хотя в клозете стояло несколько толчков, как в женской, так и в мужской половине, всё равно трудно было уложиться, и, по множеству жителей, порой, особенно в часы пик, возникали огромные очереди. Некоторые приходили с книжками, с картами строения мозга, с научными брошюрами о том, что ни Бога, ни души нет. Надо было скоротать время, а науку любили все, тем более что иные работали специалистами. Гоготали, обменивались мнениями о том, что ничего нет, хлопали друг друга по задам. Впрочем, не всегда. Иногда возникала мертвенная, нелюдимая тишина. Как в могилах, из которых ушли покойники. Только вдруг возникавшие визг и полудраки напоминали о жизни, о бытии.
На этот раз всё было сумрачно и одиноко. Даже плакат о том, что «нет загробного мира», упал на пол. Груня, супружница Сани, стояла в очереди уже полчаса. Терпение кончалось. Она была последней. Как только распахнулась клозетная дверь под буквой «Ж» и выскочила рваненькая старушонка с газетами, Груня забежала внутрь.
В этой кабине было почему-то два толчка, почти рядом, и на одном из них сидела профессорша, не жена профессора, а сама специалистка, оказавшаяся по воле судеб в этой коммунальной квартире. Груня, мысленно харкнув, юркнула на толчок, который заскрипел. Профессорша изучала карту головного мозга и до того была погружена в своё занятие, что плакала. Она думала о том, что, наконец, нашла в мозгу человеческую индивидуальность, и теперь в сотый раз доказано, что души нет и что всё содержится только в мозгу. Грязные слёзы, слёзы счастья, текли по её щекам, и она вспоминала, как трудно ей приходилось в этом практическом мире из-за слишком большой направленности её работ на идеальное, на теорию, на Добро, а не на святую практику по обработке действительности. Груня, отличавшаяся стыдливостью, чуть не уснула – для защиты – под слёзы и всхлипы профессорши. В последний момент, перед соскоком, Груня вспомнила, что надо подтереться, и механически сунула руку в щель, где хранились газеты. Оцарапав кисть, она рванула что-то вроде тетради и вместо газет на самом деле увидела тетрадку, на обложке которой слезливым почерком было написано: «Интимный дневник Саши Моева».
– Ну и ну, – обалдела она и чуть не плюхнулась вниз. – Надо почитать.
Но то, что Груня прочла в первых строках, так поразило её, что, грубо соскочив с толчка, – под возмущённый вопль профессорши, которой помешали думать, – она убежала в свою комнату. Но и в комнате туман (который она почему-то назвала «научным») плыл перед её глазами. Сквозь «научный» туман выплывали строчки, а больше всего мокрые места на тетрадке, явно напоминавшие размытые слёзы.
Слова же были совершенно несусветные, вроде: «Пеструшка сегодня опять не дала… Весь вечер тайком гонялся за белой курицей… Весь живот в пуху… Как больно клюётся петух… За что?». И кроме того, было нечто совсем неприличное.
Наконец Груня ахнула, но тут же подумала, что её наверняка разыгрывают. Пожевав язык, она вспомнила, что Саню действительно недолюбливал большой серый петух, надутый и надменный, который частенько подскакивал и клевал его в зад. Саня не раз скрывался от него по чердакам. Решив, что такая дурашливость петуха очень некстати пришлась к этому розыгрышу, Груня решила всё-таки в намёке расспросить соседей. Она сразу же направилась в клозет, к думавшей профессорше. Мимо просеменил запоздавший старичок с ночным горшком.
Профессорша ещё сидела на толчке. Груня зашла и с несвойственной ей робостью прижалась к стене кабины.
– Что тебе, Груня? – строго спросила профессорша, поправив очки.
– Бывает, что мужик живёт с курою, как с бабою, или не бывает, Софья Олимпиадовна?! – протрубила Груня, прикрывая застенчивость похабным смешком.
– Выйдите вон! – взорвалась профессорша. – Вон отсюда… Наука… Наука!! – закричала она громким, зазывающим голосом.
Груня, выругавшись и ничего не осознав, выскочила из кабины. Но почему-то тупо успокоилась. Однако ж спустя полчаса, по бабьему любопытству, задала этот же вопрос странному старичку Семёну Петровичу. Тот – к её удивлению – сначала промолчал, а потом вдруг осторожно повернул к ней заросшую седыми волосами головку и подмигнул. Этот подмиг разозлил её, и ей захотелось швырнуть в старичка кастрюлей…
Незаметно, в хлопотах, прошёл вечер. Груня, у которой был отгул, тихо, в комнате, поджидала Саню, попивая чай из самовара и навалившись грудями на липкий стол. Тетрадка, в доказательство гнусного розыгрыша, лежала на самом видном месте.
В дверь что-то стукнуло, и на пороге показался Саня. По её мыслям, он возвращался с работы, но был почему-то весь в пуху и с неестественным, диким взглядом, как будто только что сошёл с небес.
Увидев тетрадку, он закричал, взвизгнув что-то про пьянку, из-за которой он тетрадь не в тот тайник засунул, и начал, бегая по комнате и стуча грязными подошвами, мерзко каяться. Почему-то вскрикивал, упоминая о курах, что имел дело не с естественными отверстиями, а с поверхностью куриного тела, которое бьётся и т. д. Груня завыла. Глаза её заблестели, и она встала. Грудь (на которой, по сновидениям Сани, росли, как сочные огурцы, мужские члены) высоко вздулась и обнажилась. Она колотила себя в эту обнажённую грудь красными кулаками и кричала:
– Это от мене – к курам!!! Это от мене – к курам!!!
Больше она ничего не могла выговорить. Казалось, красные сосцы её взбухли от крови и возмущения. Саня до того перепугался, что опрометью выбежал из комнаты.
Как ни странно, к ночи гнев Груни немного поулёгся. «Чему бывать, тому не миновать», – успокаивала она себя (Груня любила здравый смысл). Но ярость всё же не давала покоя. Саня, тихий и присмиревший, всё время назойливо лез со своими поцелуйчиками. Груня, по бабьей слабости, не отказала. Саня на этот раз был старателен, не кряхтел и держал добрые полтора часа. После чего разомлевшая Груня не знала, то ли ему дать по морде и простить, то ли обласкать и простить. Однако утро показало всё в ином свете. Проснувшись, Груня обнаружила, что она вся в курином пуху; пух забился чуть ли не в матку, обложил бигуди. Ярость и желание отомстить за измену закипели снова. Дала затрещину полусонному Сане. Тот промямлил, что-де куры хорошие, и, желая польстить Груне, пробормотал, что любил их из-за ихнего сходства с нею. Получил ещё затрещину. Обмываясь, Груня ещё больше была не в себе. Внутри настойчиво сверлило: надо донести, чтоб Саня понёс суровое наказание. Но одно удерживало её: ещё ночью появилась у неё успокоительная мысль: Саня крепок, как мужик, только с нею, а-де к курам он почти импотентен. Но в этом ещё надо было убедиться. Поэтому за завтраком Груня предъявила опять перетрусившему Сане ультиматум: или она на него донесёт, куда следует, или он покажет ей свою куриную любовь. Для чего ей это было нужно, Груня, конечно, не упомянула, и судьба Сани теперь зависела от его импотенции.
При слове «донос» сам Саня так одурел, что только кивнул головой, но потом подскочил и, схватив Груню за руку, как в забытьи, потащил её в курятник. Груня, матерясь, кричала, что ей надо сначала позвонить на работу, чтобы попросить отгул.
Наконец, отзвонившись, Груня вбежала к курам, но то, что она увидела, удовлетворило её уже с обратной стороны: куры летали по всему сараю, кудахтали, Саня плакал, кидался на них, как в объятия, и особенно норовил настичь одну большую и жирную курицу… «Хорош… Хорош… Мой-то», – только и приговаривала Груня.
Наконец Саня повернул к ней заплаканное лицо и проревел, что у него ничего не получается. Он был в истерике. На дикий шум потянулись соседи. Груня решила, что надо закругляться; «непутёвый», – сурово-ласково одёрнула она Саню. Анфиса плясала уже где-то невдалеке. Бежал Миша, на ходу надевая на свой член байковый чехол. Улюлюкал, как живая труба, Григорий. Казалось, сами куры понимали его. Впрочем, все решили, что была милиция. Только Евгения, высунувшись из окна, настраивала своё ухо на пение рожка. Компот тёк по её губам.
Груня затолкнула Саню в дворовый клозет и, несколько обрадованная, вприпрыжку побежала на работу. Саня заснул в клозете. И во сне видел Бертрана Рассела.
Раскрытие такого порока осложнило дальнейшую Санину жизнь. Порой он цеплялся за свою платоническую влюблённость в Евдокию, в ту, у которой от разврата выпали зубы. Груня одним напоминанием о возможности доноса держала Саню в чёрном теле. Заставляла теперь стирать бельё, мыть пол, выносить горшки.
Саня пытался найти злополучную тетрадь, но она как в воду канула: так надёжно Груня её припрятала. С течением времени ей даже стало нравиться такое положение: действительно, Саня был тих, как мышка. В отношении кур Груня убедила себя, что Саня-де впал в слабоумие и что эти куры для него – как игрушка для сопливого дитя. Правда, иногда ревность укалывала её в самое сердце, и она бросала сердитые взгляды на какую-нибудь чересчур крупную курицу. И никогда не отказывала себе в удовольствии полакомиться курятиной. «Что ж, женщина есть женщина», – меланхолично думал тогда Саня, поглядывая на жующую жену. Сам он никогда не притрагивался к курятине, проявляя несвойственный ему гуманизм. На этой почве происходили иногда сцены, нарушавшие более или менее стабильный ход семейной жизни.
– Будешь жрать или нет?! – однажды, совсем рассвирепев, заорала на него Груня в присутствии гостей.
– Не буду, – побледнев, ответил Саня.
– Жри, жри и не выплёвывай, – протрубила Груня.
– Да для меня это всё равно что человечину есть, пойми ты, в конце концов! – завизжал Саня, вскакивая со стула. – Дай я лучше их съем! – закричал он, указывая на гостей.
– Саня, донесу, – сурово пригрозила Груня.
Саня сразу обмяк, сел за стол и, давясь, начал жрать. Гости переглядывались…
И хотя после таких сцен вроде всё опять входило в своё обычное русло, Саня внутренне всё больше грустнел. Появился даже намёк на религиозность.
Так текли дни. Но одно событие совсем доконало Саню. Началось оно в один чистый воскресный день, уже ближе к осени, когда все разбрелись по лужайкам, а в клозете, на толчке, осталась одна платоническая Санина возлюбленная Евдокия, которая надрывно пела там, бренча на гитаре. Рано утром она «выблевала» в толчок своё дитя, зародыша, и её тянуло к этому месту. Саня, как кот, жмурясь от удовольствия, сидел на полу коридора, подслушивая это пение из клозета. Он любил, когда Евдокия пела. Незаметно к нему подошла бабка Анфиса. На этот раз она не плясала.
– Профессорша-то помирает… Недолго ей осталось жить, – прошамкала она.
Саня вскочил: слово «смерть» больше значило для него, чем «любовь».
– А я не знал, – оторопел он.