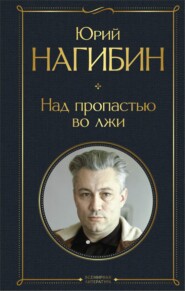По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тьма в конце туннеля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У ворот Милиного дома ей поклонился высокий человек с седыми висками, прогуливавший большелапого щенка-дога. Он старомодным жестом приподнял меховой пирожок, как будто Мила была взрослая дама.
– Добрый вечер! – сказала Мила, покраснев от гордости.
– Кто это? – спросил я.
Она назвала одну из самых распространенных фамилий, упомянула почему-то о балетной школе. Я уже не слушал, какое мне дело до случайного прохожего.
Стоп! Наверное, это просто совпадение, но ведь жизнь очень грубый и решительный драматург, не боящийся никаких совпадений. Я никогда не задумывался над тем, что у тяжелораненого лейтенанта, однофамильца этого человека, были сестры-балерины.
В дни войны выпускницу стоматологического института в связи с нехваткой хирургических кадров послали в госпиталь оперировать. Ей доверяли… нет, скидывали случаи теоретически безнадежные. Но безнадежнее безнадежного казался молодой офицер с развороченным животом. Шесть часов длилась операция. Лейтенант несколько раз умирал, а хирург терял сознание. Миле казалось, что она спасает – жизнь раненому, – она спасала свою собственную судьбу и судьбу своих детей и судьбу матери, чтобы лагерница и ссыльнопоселенка стала прапрабабушкой. Всего лишь месяц не дожила она до золотой свадьбы своей дочери и лейтенанта с того света.
Так совершили мы путешествие по Милиной судьбе, конечно, ничуть о том не подозревая, занятые друг другом и снегом и ночью. Мила, застенчивая, легко краснеющая, робко и нежно заглядывала в мое разбитое рыло…
Я ушел далеко в сторону от своей темы. Мне не хочется, чтобы у читателя сложилось впечатление, будто я ухлопал всю жизнь на возню с национальным вопросом. Конечно, это не так. Были, не раз были – чистый снег, ясные ночи, теплый, доверчивый локоть…
7
Осенью тридцать седьмого года, по выходе отчима из тюрьмы, мы переехали в Приарбатье. Отчима посадили за год до так называемой «ежовщины» по чистому недоразумению, случается и такое в большом хозяйстве, Писателя пустили по делу экономической контрреволюции. Поскольку он лишь путался под| ногами, через год его выпустили, зачтя ему этот год как наказание за невмененную вину. Вообще же никакой «ежовщины» не было, это легенда. Былая сталинщина, независимо от того, чьи руки держали щит и меч: Ягоды, Ежова, Берии, Абакумова, Меркулова или кого другого.
Отъезд из дома, где я родился и провел семнадцать лет: своей единственной и неповторимой жизни – от первого крика до первой любви, где было пережито столько милого, трогательного, больного и страшного: ночной солдат, ворвавшийся в сон, голос Верони: «Спи, маленький!» – попытки дружб и прикипевшие к груди плевки, сумасшедшие паровозные гудки в мартовской черноте; где я начал писать, бросил и снова начал, уже навсегда, – оказался сух и холоден, без прощальных слов, без раскаяния и сожалений, неотделимых от всякого расставания. Мы уезжали днем, когда взрослые жильцы были на работе, а дети в школе. С Толькой Соленковым мы давно порвали. Без ссоры и объяснений, просто нам нечего стало делать друг с другом. Во дворе мои несостоявшиеся дружбы и забытые вражды тоже давно кончились, я ходил через парадный ход, а черный ход, дворы и Армянский переулок стали не нужны. Покидая свою комнату, я посмотрел в окно на помойку, голубятню, общую плоскую крышу дровяных сараев – ничто не шелохнулось в душе. Церковь Николы в Столпах, где было столько намолено, давно уже закрыли два надстроечных этажа нашего дома, какое-то время торчала верхушка креста центрального купола, затем и она исчезла – церковь снесли. Никакой печали, ни тени лирического чувства я не испытал – этот мир давно изжил себя; те же, кого я любил, уезжали вместе со мной, а Катя останется в нашей жизни.
Через год после окончания школы я побывал в своей старой квартире и удивился, как она мала, темна, тесна и убога. Но так и обычно бывает при свидании с родным пепелищем. Меня послала мама с каким-то поручением к Кате. Поскольку я хотел заглянуть на книжный развал у Китайской стены, мне удобней было пройти черным ходом. Без всякого волнения спустился я по знакомой каждой щербатой ступенькой грязной лестнице.
На коротком пути к подворотне дорогу мне заступил невысокий франтоватый молодой человек в белых перчатках. Я не узнал его, а догадался, что это Женька Мельников, лишь когда он схватил меня за лацкан пальто и с каким-то присвистом высказался по национальному вопросу.
Боже мой, какая духота! За прошедшие годы столько было страшного, столько людей ушло в смерть, в никуда, столько пролито слез, и другое было: минули детство и школа, пришла пора пусть не мятежной, пусть взявшей «на прикус серебристую мышь» юности, да ведь юности, черт побери! А здесь ничего не изменилось, не сдвинулось, те же тухлые стоячие воды. Часто удивляются: откуда берется фашизм? Да ниоткуда он не берется, он всегда есть, как есть холера и чума, только до поры не видны, он всегда есть, ибо есть охлос, люмпены, городская протерь и саблезубое мещанство, терпеливо выжидающее своего часа. Настал час – и закрутилась чумная крыса, настал час – и вырвался из подполья фашизм, уже готовый к действию.
За эти годы я стал другим. Прежде всего, я уже не принадлежал этому двору, не зависел от него и не считался с ним. В кармане пиджака лежала тугая розоватая бумажка – паспорт допризывника, где в графе «национальность» значилось: русский. А мою взрослость удостоверял студенческий билет. Возможно, подсознание произвело мгновенный расчет на основе названных данных и вынесло решение, но мне казалось, что я чисто рефлекторно отбросил Женькину руку и столь же рефлекторно дал ему в глаз. Он упал, тут же вскочил, сжимая в руке булыжник.
– Брось камень, говно, – послышался ленивый голос.
Из подворотни выдвинулся огромный, как конная статуя, Витька Архаров с прилипшей к губе папироской. Он глядел поверх наших голов в какую-то свою даль.
– А чего он лезет? – плаксиво сказал Женька Мельников.
– Я видел, кто полез, говно, – изнемогая от взрослой тоски, уронил Витька.
Женька не мог ослушаться и выпустил булыжник. Не хотелось бить этого фанфаронишку, но тут я понял, что Витька Архаров дарит его мне, возможно, в компенсацию за нанесенный прежде урон: краски, цветные карандаши, мекано и настоящий «монте-кристо», что в десяти шагах убивает человека. Ему нужна была искупительная жертва, чтобы рассчитаться с темным прошлым и чистым как стеклышко ступить на стезю борьбы с преступностью. Он был мне всегда симпатичен, и не хотелось обижать его отказом. Я сделал, что мог.
Витька даже не оглянулся, ему довольно было музыкального сопровождения экзекуции, такого поросячьего визга, такого ослиного рева не слышал наш двор.
Я кивнул широкой Витькиной спине и пошел в свою новую жизнь, чтобы уж никогда сюда не возвращаться…
8
Мы жили в первом писательском доме на улице Фурманова, бывшем Нащокинском переулке. Квартирен-ку дали отчиму взамен кооперативной в Лаврушинском, которой его лишили в связи с арестом. Братья-писатели вынесли свой вердикт, опередив правосудие. Отчим, как и прежде, поселился отдельно, обменяв наши полторы комнаты в Армянском на однокомнатную квартиру. С переездом в Нащокинский сменилось все наше окружение. В новой среде обитания, литературно-киношной, национальная тема потеряла свою жгучесть в силу решительного преобладания евреев. Любой выпад не сдержавшего сердце русачка вызывал такой мощный отпор, что несчастный готов был сделать себе обрезание, как японский, самурай харакири, во искупление вины. Для национальной розни не было пищи еще и потому, что тут всех, кого можно и нельзя, спешили зачислить в евреи. Певец советской деревни, поэт гармони Александр Жаров, горбоносый брюнет из смоленской глубинки, был объявлен тайным жидом; вполне возможно, что среди его предков был наполеоновский солдат, через его деревню шли французские войска на Москву, но дружба с Уткиным, Безыменским и Джеком Алтаузеном отмела все варианты происхождения, кроме наипозорнейшего.
Я мог бы безмятежно вариться в еврейском супе, если б не одно весьма существенное обстоятельство. Дома, в нашей новой крошечной квартиренке, я все время терся среди русских, терся буквально, сталкиваясь боками и с трудом разминуясь в узеньком коридорчике. Моими соседями были: мама, Вероня и Джек – тоже русский, ибо дворняга. В родной мне русской атмосфере я никак не мог быть плохо замаскированным евреем, каким числился в киношных и литературных кругах. Есть замечательное высказывание: еврей – тот, кто на это согласен. А я не был согласен, несмотря на всю натужную готовность. Иногда я вел про себя такие разговоры с неким собирательным евреем: дайте мне ваш нос, ваши темные глаза, вечный двигатель вашего юмора, ваш дивный музыкальный слух – за одно это готов повесить свитки торы в своей комнате, вашу безунывность, наглость и смирение. Но дать мало, надо кое-что отобрать. Так отберите у меня жест молитвы, больную любовь к природе – она ведь не нужна? – и слезу о Христе. И я навеки ваш.
Словом, ничего не кончилось. И тут произошел домашний разговор, странность которого я поначалу не понял. Отчим сказал, что мне надо выбрать литературную фамилию и носить ее как свою.
– Красовский, – сказала мама.
– Не пойдет, был цензор, душитель Пушкина.
– Мясоедов.
– Был лицеист Мясоедов – дурак из дураков. Дельвиг предлагал ему праздновать именины в день усекновения главы.
– Тогда – Калитин, – сказала мать, будто на что-то решившись.
– А тебя не?.. – отчим не договорил.
– Да ну их к черту! – сказала мать, кусая губы. – Кого это теперь интересует?
– О чем вы? – спросил я, ничуть не настороженный, фамилия мне понравилась, и я не понимал, чего они мнутся.
– Петр Калитин – хорошо, – одобрил отчим.
– Откуда эта фамилия? – спросил я.
– Старая русская фамилия. У меня были дальние родственники Калитины, – ответила мать. Я сказал, что поменяю фамилию на Калитин.
– Отчество ты, надеюсь, оставишь? – спросила мать, и опять что-то странное было в ее тоне.
Так появился на свет Калитин Петр Маркович, русский, крещеный, еврей для всех, кто его знал, и уже подавно для тех, кто его не знал, ибо всем хватало отчества. Бедная, бедная Марковна, жена неистового протопопа Аввакума!.. Русские плотнее сомкнули ряды, евреи еще шире распахнули объятия…
С чем можно сравнить страдания, которые причиняла мне моя «недорусскость»? Разве что с тоской и муками бедного Петера Шлемиля, человека, потерявшего свою тень, о чем поведал Шамиссо. Неужели это правда так стыдно, так мучительно стыдно не иметь тени? Да на кой черт она сдалась? Но, видимо, надо лишиться тени, чтоб понять ее важность, и как обесценивается человек, если хотя бы крошечная, прозрачная тень не сворачивается у его ног в солнечный день. А вот трагедия пострашнее Шлемилевой: быть русским и отбрасывать еврейскую тень. Я не видел евреев, несчастливых своим еврейством. И очень мало видел таких, которые от своего еврейства отказывались. Очевидно, последние были не согласны – по той или иной причине – быть евреями. Но со страниц одной книги прозвучал крик возмущения нелепицей быть евреем в России – один из персонажей «Доктора Живаго» с ужасом и отвращением осознает, что неизвестно за какие грехи вынужден нести на себе печать еврейства. Тот, кто это почувствовал, несчастный человек. Хлеб жизни навсегда отравлен для него. Он никогда не поверит в хорошее отношение людей, не отмеченных роковым знаком, и будет относить каждый их жест добра за счет брезгливой снисходительности, вышколенной терпимости к низшим – из религиозных, нравственных или иных искусственных соображений.
Лично я никогда, даже в упоении любви, дружб, спортивных баталий, гульбищ, захватывающих развлечений, не забывал, что у меня нет тени. Неточный образ. Я чувствовал себя человеком, отбрасывающим чужую тень.
А потом пришла война и поставила меня перед грозным выбором. В армию меня не брали. Я сунулся в школу лейтенантов, потом пошел в обычный райвоенкомат – мне предложили спокойно кончать институт. Мол, государство затратило на меня столько средств, мой долг получить диплом. Это было вранье. Меня не брали по анкете – сын репрессированного не годился даже на пушечное мясо. В школе лейтенантов я не стал спорить, общее безумие заразительно, мне и самому показалось абсурдным, что можно доверять взвод человеку, у которого сидит отец. Но в военкомате я заупрямился. Тогда меня послали на медицинскую комиссию, которую я покинул с белым билетом в кармане. Я был здоров как бык, мне Дали психушечную статью, пойди докажи, что ты не сумасшедший. Вот когда был найден изящный способ избавляться от неугодных людей. Здесь ставили заслон человеку, пытавшемуся проникнуть в армию и развалить ее изнутри. Впоследствии тот же метод применяли к диссидентам, инакомыслящим, но с ними поступали круче – их совали в больницы с тюремным режимом, мне же просто дали под зад коленом. Никогда еще я не чувствовал так обреченно свою низкопробность в стране, которую считал родиной.
Неожиданный вывод из всего случившегося сделала мать. Радиокомитет, где работал тогда отчим, эвакуировался в Куйбышев, мой институт уезжал в Алма-Ату. Мать сказала: «Катитесь колбасой, я никуда не поеду». «Но ведь Москву возьмут», – сказал отчим. Вскоре эта мысль станет общим достоянием и приведет к московской панике 16 октября. «Пусть берут, – сказала мать. – Я переелась сталинским социализмом, меня от него тошнит. Посмотрим, что такое гитлеровский социализм, наверное, такая же помойка, но хотя бы с другой вонью. А главное, я останусь дома».
Я был уже женат. Мы расписались с Дашей, когда я решил уйти на фронт, чтобы не потеряться в сутолоке войны. Ее семья оставалась в Москве. Их патриотизм не допускал и мысли, что Москва может быть сдана. На самом деле они не сомневались, что Москву возьмут. Мать и приемный отец жены были чистокровными немцами с русскими паспортами, а Даша наполовину полька. Ее отца, известного художника, расстреляли в восемнадцатом, это было настолько обычно, что я даже не поинтересовался, за что. Мне мучительно не хотелось расставаться с Дашей, но что было делать, гитлеровскому социализму русский по матери и паспорту годился лишь в виде трупа. И вдруг мать сказала: «Оставайся, сынок, куда ты поедешь? Они тебя даже на бойню не берут. Ну их к лешему!»
Мое доверие к матери было безгранично, я не задал ей ни одного вопроса. И остался.
Мы с Дашей проводили отчима на Казанский вокзал и видели то, что потом выдавалось за невероятную панику, но, по-моему, мало чем отличалось от обычного московского вокзального бардака поры летних отпусков. Мелькала высокая, стройная фигура Козловского в сером габардиновом плаще, он был в меру озабочен, не теряя достоинства. Его вечный соперник Лемешев прогуливался в это время по Тверскому бульвару, покашливая и кутая горло, – открылся процесс в легких, что помешало эвакуации. Как недавно выяснилось, власти сочли его немецким шпионом и взяли под неусыпный надзор. Видел я седую голову Фадеева – он потом возглавлял список писателей, награжденных медалью «За оборону Москвы», награждали только удравших, все остальные были под подозрением. Там же на перроне мы услышали, что Лебедев-Кумач сошел с ума, срывал с груди ордена и клеймил вождей как предателей. Больше ничего панического не было. Возможно, это произошло позже, если произошло.
Через несколько дней после отъезда отчима мы отправились грабить его квартиру. Мы – это мама, моя бывшая нянька Катя, ее муж Петя Богачев и я.
Катя и Петя пили, как сельский поп из знаменитого анекдота: если без закуски, то безгранично, а если с закуской, то безгранично и еще сто граммов. Когда по утрам нечем было опохмелиться, они пили собственную проспиртованную мочу из ночного горшка. Во время частых гулянок – они любили кутить, а не осаживаться сивухой на пару, Петя должен был исполнить «украинский» романс: «Бедное сэрце навеки разбито». Он пел дребезжащим тенором, ударяя себя кулаком в грудь, и плакал. Все были в восторге и требовали повторения. Удивляться тут нечему: знаменитый Тартарен одерживал вокальные триумфы, обходясь еще более скромными средствами – троекратным повторением: «Нэт! Нэт! Нэт!»
Во время революции Петя Богачев, носивший кличку Петя Маленький, был связным между передовым отрядом революционных печатников и штабом, находившимся в нашем доме. Потом его скромная роль в революции выросла в помраченном рассудке до исполинских размеров. Напившись, он шел к висящему в коридоре телефону и властно требовал у телефонистки:
– Кремль!.. Богачев!
– Добрый вечер! – сказала Мила, покраснев от гордости.
– Кто это? – спросил я.
Она назвала одну из самых распространенных фамилий, упомянула почему-то о балетной школе. Я уже не слушал, какое мне дело до случайного прохожего.
Стоп! Наверное, это просто совпадение, но ведь жизнь очень грубый и решительный драматург, не боящийся никаких совпадений. Я никогда не задумывался над тем, что у тяжелораненого лейтенанта, однофамильца этого человека, были сестры-балерины.
В дни войны выпускницу стоматологического института в связи с нехваткой хирургических кадров послали в госпиталь оперировать. Ей доверяли… нет, скидывали случаи теоретически безнадежные. Но безнадежнее безнадежного казался молодой офицер с развороченным животом. Шесть часов длилась операция. Лейтенант несколько раз умирал, а хирург терял сознание. Миле казалось, что она спасает – жизнь раненому, – она спасала свою собственную судьбу и судьбу своих детей и судьбу матери, чтобы лагерница и ссыльнопоселенка стала прапрабабушкой. Всего лишь месяц не дожила она до золотой свадьбы своей дочери и лейтенанта с того света.
Так совершили мы путешествие по Милиной судьбе, конечно, ничуть о том не подозревая, занятые друг другом и снегом и ночью. Мила, застенчивая, легко краснеющая, робко и нежно заглядывала в мое разбитое рыло…
Я ушел далеко в сторону от своей темы. Мне не хочется, чтобы у читателя сложилось впечатление, будто я ухлопал всю жизнь на возню с национальным вопросом. Конечно, это не так. Были, не раз были – чистый снег, ясные ночи, теплый, доверчивый локоть…
7
Осенью тридцать седьмого года, по выходе отчима из тюрьмы, мы переехали в Приарбатье. Отчима посадили за год до так называемой «ежовщины» по чистому недоразумению, случается и такое в большом хозяйстве, Писателя пустили по делу экономической контрреволюции. Поскольку он лишь путался под| ногами, через год его выпустили, зачтя ему этот год как наказание за невмененную вину. Вообще же никакой «ежовщины» не было, это легенда. Былая сталинщина, независимо от того, чьи руки держали щит и меч: Ягоды, Ежова, Берии, Абакумова, Меркулова или кого другого.
Отъезд из дома, где я родился и провел семнадцать лет: своей единственной и неповторимой жизни – от первого крика до первой любви, где было пережито столько милого, трогательного, больного и страшного: ночной солдат, ворвавшийся в сон, голос Верони: «Спи, маленький!» – попытки дружб и прикипевшие к груди плевки, сумасшедшие паровозные гудки в мартовской черноте; где я начал писать, бросил и снова начал, уже навсегда, – оказался сух и холоден, без прощальных слов, без раскаяния и сожалений, неотделимых от всякого расставания. Мы уезжали днем, когда взрослые жильцы были на работе, а дети в школе. С Толькой Соленковым мы давно порвали. Без ссоры и объяснений, просто нам нечего стало делать друг с другом. Во дворе мои несостоявшиеся дружбы и забытые вражды тоже давно кончились, я ходил через парадный ход, а черный ход, дворы и Армянский переулок стали не нужны. Покидая свою комнату, я посмотрел в окно на помойку, голубятню, общую плоскую крышу дровяных сараев – ничто не шелохнулось в душе. Церковь Николы в Столпах, где было столько намолено, давно уже закрыли два надстроечных этажа нашего дома, какое-то время торчала верхушка креста центрального купола, затем и она исчезла – церковь снесли. Никакой печали, ни тени лирического чувства я не испытал – этот мир давно изжил себя; те же, кого я любил, уезжали вместе со мной, а Катя останется в нашей жизни.
Через год после окончания школы я побывал в своей старой квартире и удивился, как она мала, темна, тесна и убога. Но так и обычно бывает при свидании с родным пепелищем. Меня послала мама с каким-то поручением к Кате. Поскольку я хотел заглянуть на книжный развал у Китайской стены, мне удобней было пройти черным ходом. Без всякого волнения спустился я по знакомой каждой щербатой ступенькой грязной лестнице.
На коротком пути к подворотне дорогу мне заступил невысокий франтоватый молодой человек в белых перчатках. Я не узнал его, а догадался, что это Женька Мельников, лишь когда он схватил меня за лацкан пальто и с каким-то присвистом высказался по национальному вопросу.
Боже мой, какая духота! За прошедшие годы столько было страшного, столько людей ушло в смерть, в никуда, столько пролито слез, и другое было: минули детство и школа, пришла пора пусть не мятежной, пусть взявшей «на прикус серебристую мышь» юности, да ведь юности, черт побери! А здесь ничего не изменилось, не сдвинулось, те же тухлые стоячие воды. Часто удивляются: откуда берется фашизм? Да ниоткуда он не берется, он всегда есть, как есть холера и чума, только до поры не видны, он всегда есть, ибо есть охлос, люмпены, городская протерь и саблезубое мещанство, терпеливо выжидающее своего часа. Настал час – и закрутилась чумная крыса, настал час – и вырвался из подполья фашизм, уже готовый к действию.
За эти годы я стал другим. Прежде всего, я уже не принадлежал этому двору, не зависел от него и не считался с ним. В кармане пиджака лежала тугая розоватая бумажка – паспорт допризывника, где в графе «национальность» значилось: русский. А мою взрослость удостоверял студенческий билет. Возможно, подсознание произвело мгновенный расчет на основе названных данных и вынесло решение, но мне казалось, что я чисто рефлекторно отбросил Женькину руку и столь же рефлекторно дал ему в глаз. Он упал, тут же вскочил, сжимая в руке булыжник.
– Брось камень, говно, – послышался ленивый голос.
Из подворотни выдвинулся огромный, как конная статуя, Витька Архаров с прилипшей к губе папироской. Он глядел поверх наших голов в какую-то свою даль.
– А чего он лезет? – плаксиво сказал Женька Мельников.
– Я видел, кто полез, говно, – изнемогая от взрослой тоски, уронил Витька.
Женька не мог ослушаться и выпустил булыжник. Не хотелось бить этого фанфаронишку, но тут я понял, что Витька Архаров дарит его мне, возможно, в компенсацию за нанесенный прежде урон: краски, цветные карандаши, мекано и настоящий «монте-кристо», что в десяти шагах убивает человека. Ему нужна была искупительная жертва, чтобы рассчитаться с темным прошлым и чистым как стеклышко ступить на стезю борьбы с преступностью. Он был мне всегда симпатичен, и не хотелось обижать его отказом. Я сделал, что мог.
Витька даже не оглянулся, ему довольно было музыкального сопровождения экзекуции, такого поросячьего визга, такого ослиного рева не слышал наш двор.
Я кивнул широкой Витькиной спине и пошел в свою новую жизнь, чтобы уж никогда сюда не возвращаться…
8
Мы жили в первом писательском доме на улице Фурманова, бывшем Нащокинском переулке. Квартирен-ку дали отчиму взамен кооперативной в Лаврушинском, которой его лишили в связи с арестом. Братья-писатели вынесли свой вердикт, опередив правосудие. Отчим, как и прежде, поселился отдельно, обменяв наши полторы комнаты в Армянском на однокомнатную квартиру. С переездом в Нащокинский сменилось все наше окружение. В новой среде обитания, литературно-киношной, национальная тема потеряла свою жгучесть в силу решительного преобладания евреев. Любой выпад не сдержавшего сердце русачка вызывал такой мощный отпор, что несчастный готов был сделать себе обрезание, как японский, самурай харакири, во искупление вины. Для национальной розни не было пищи еще и потому, что тут всех, кого можно и нельзя, спешили зачислить в евреи. Певец советской деревни, поэт гармони Александр Жаров, горбоносый брюнет из смоленской глубинки, был объявлен тайным жидом; вполне возможно, что среди его предков был наполеоновский солдат, через его деревню шли французские войска на Москву, но дружба с Уткиным, Безыменским и Джеком Алтаузеном отмела все варианты происхождения, кроме наипозорнейшего.
Я мог бы безмятежно вариться в еврейском супе, если б не одно весьма существенное обстоятельство. Дома, в нашей новой крошечной квартиренке, я все время терся среди русских, терся буквально, сталкиваясь боками и с трудом разминуясь в узеньком коридорчике. Моими соседями были: мама, Вероня и Джек – тоже русский, ибо дворняга. В родной мне русской атмосфере я никак не мог быть плохо замаскированным евреем, каким числился в киношных и литературных кругах. Есть замечательное высказывание: еврей – тот, кто на это согласен. А я не был согласен, несмотря на всю натужную готовность. Иногда я вел про себя такие разговоры с неким собирательным евреем: дайте мне ваш нос, ваши темные глаза, вечный двигатель вашего юмора, ваш дивный музыкальный слух – за одно это готов повесить свитки торы в своей комнате, вашу безунывность, наглость и смирение. Но дать мало, надо кое-что отобрать. Так отберите у меня жест молитвы, больную любовь к природе – она ведь не нужна? – и слезу о Христе. И я навеки ваш.
Словом, ничего не кончилось. И тут произошел домашний разговор, странность которого я поначалу не понял. Отчим сказал, что мне надо выбрать литературную фамилию и носить ее как свою.
– Красовский, – сказала мама.
– Не пойдет, был цензор, душитель Пушкина.
– Мясоедов.
– Был лицеист Мясоедов – дурак из дураков. Дельвиг предлагал ему праздновать именины в день усекновения главы.
– Тогда – Калитин, – сказала мать, будто на что-то решившись.
– А тебя не?.. – отчим не договорил.
– Да ну их к черту! – сказала мать, кусая губы. – Кого это теперь интересует?
– О чем вы? – спросил я, ничуть не настороженный, фамилия мне понравилась, и я не понимал, чего они мнутся.
– Петр Калитин – хорошо, – одобрил отчим.
– Откуда эта фамилия? – спросил я.
– Старая русская фамилия. У меня были дальние родственники Калитины, – ответила мать. Я сказал, что поменяю фамилию на Калитин.
– Отчество ты, надеюсь, оставишь? – спросила мать, и опять что-то странное было в ее тоне.
Так появился на свет Калитин Петр Маркович, русский, крещеный, еврей для всех, кто его знал, и уже подавно для тех, кто его не знал, ибо всем хватало отчества. Бедная, бедная Марковна, жена неистового протопопа Аввакума!.. Русские плотнее сомкнули ряды, евреи еще шире распахнули объятия…
С чем можно сравнить страдания, которые причиняла мне моя «недорусскость»? Разве что с тоской и муками бедного Петера Шлемиля, человека, потерявшего свою тень, о чем поведал Шамиссо. Неужели это правда так стыдно, так мучительно стыдно не иметь тени? Да на кой черт она сдалась? Но, видимо, надо лишиться тени, чтоб понять ее важность, и как обесценивается человек, если хотя бы крошечная, прозрачная тень не сворачивается у его ног в солнечный день. А вот трагедия пострашнее Шлемилевой: быть русским и отбрасывать еврейскую тень. Я не видел евреев, несчастливых своим еврейством. И очень мало видел таких, которые от своего еврейства отказывались. Очевидно, последние были не согласны – по той или иной причине – быть евреями. Но со страниц одной книги прозвучал крик возмущения нелепицей быть евреем в России – один из персонажей «Доктора Живаго» с ужасом и отвращением осознает, что неизвестно за какие грехи вынужден нести на себе печать еврейства. Тот, кто это почувствовал, несчастный человек. Хлеб жизни навсегда отравлен для него. Он никогда не поверит в хорошее отношение людей, не отмеченных роковым знаком, и будет относить каждый их жест добра за счет брезгливой снисходительности, вышколенной терпимости к низшим – из религиозных, нравственных или иных искусственных соображений.
Лично я никогда, даже в упоении любви, дружб, спортивных баталий, гульбищ, захватывающих развлечений, не забывал, что у меня нет тени. Неточный образ. Я чувствовал себя человеком, отбрасывающим чужую тень.
А потом пришла война и поставила меня перед грозным выбором. В армию меня не брали. Я сунулся в школу лейтенантов, потом пошел в обычный райвоенкомат – мне предложили спокойно кончать институт. Мол, государство затратило на меня столько средств, мой долг получить диплом. Это было вранье. Меня не брали по анкете – сын репрессированного не годился даже на пушечное мясо. В школе лейтенантов я не стал спорить, общее безумие заразительно, мне и самому показалось абсурдным, что можно доверять взвод человеку, у которого сидит отец. Но в военкомате я заупрямился. Тогда меня послали на медицинскую комиссию, которую я покинул с белым билетом в кармане. Я был здоров как бык, мне Дали психушечную статью, пойди докажи, что ты не сумасшедший. Вот когда был найден изящный способ избавляться от неугодных людей. Здесь ставили заслон человеку, пытавшемуся проникнуть в армию и развалить ее изнутри. Впоследствии тот же метод применяли к диссидентам, инакомыслящим, но с ними поступали круче – их совали в больницы с тюремным режимом, мне же просто дали под зад коленом. Никогда еще я не чувствовал так обреченно свою низкопробность в стране, которую считал родиной.
Неожиданный вывод из всего случившегося сделала мать. Радиокомитет, где работал тогда отчим, эвакуировался в Куйбышев, мой институт уезжал в Алма-Ату. Мать сказала: «Катитесь колбасой, я никуда не поеду». «Но ведь Москву возьмут», – сказал отчим. Вскоре эта мысль станет общим достоянием и приведет к московской панике 16 октября. «Пусть берут, – сказала мать. – Я переелась сталинским социализмом, меня от него тошнит. Посмотрим, что такое гитлеровский социализм, наверное, такая же помойка, но хотя бы с другой вонью. А главное, я останусь дома».
Я был уже женат. Мы расписались с Дашей, когда я решил уйти на фронт, чтобы не потеряться в сутолоке войны. Ее семья оставалась в Москве. Их патриотизм не допускал и мысли, что Москва может быть сдана. На самом деле они не сомневались, что Москву возьмут. Мать и приемный отец жены были чистокровными немцами с русскими паспортами, а Даша наполовину полька. Ее отца, известного художника, расстреляли в восемнадцатом, это было настолько обычно, что я даже не поинтересовался, за что. Мне мучительно не хотелось расставаться с Дашей, но что было делать, гитлеровскому социализму русский по матери и паспорту годился лишь в виде трупа. И вдруг мать сказала: «Оставайся, сынок, куда ты поедешь? Они тебя даже на бойню не берут. Ну их к лешему!»
Мое доверие к матери было безгранично, я не задал ей ни одного вопроса. И остался.
Мы с Дашей проводили отчима на Казанский вокзал и видели то, что потом выдавалось за невероятную панику, но, по-моему, мало чем отличалось от обычного московского вокзального бардака поры летних отпусков. Мелькала высокая, стройная фигура Козловского в сером габардиновом плаще, он был в меру озабочен, не теряя достоинства. Его вечный соперник Лемешев прогуливался в это время по Тверскому бульвару, покашливая и кутая горло, – открылся процесс в легких, что помешало эвакуации. Как недавно выяснилось, власти сочли его немецким шпионом и взяли под неусыпный надзор. Видел я седую голову Фадеева – он потом возглавлял список писателей, награжденных медалью «За оборону Москвы», награждали только удравших, все остальные были под подозрением. Там же на перроне мы услышали, что Лебедев-Кумач сошел с ума, срывал с груди ордена и клеймил вождей как предателей. Больше ничего панического не было. Возможно, это произошло позже, если произошло.
Через несколько дней после отъезда отчима мы отправились грабить его квартиру. Мы – это мама, моя бывшая нянька Катя, ее муж Петя Богачев и я.
Катя и Петя пили, как сельский поп из знаменитого анекдота: если без закуски, то безгранично, а если с закуской, то безгранично и еще сто граммов. Когда по утрам нечем было опохмелиться, они пили собственную проспиртованную мочу из ночного горшка. Во время частых гулянок – они любили кутить, а не осаживаться сивухой на пару, Петя должен был исполнить «украинский» романс: «Бедное сэрце навеки разбито». Он пел дребезжащим тенором, ударяя себя кулаком в грудь, и плакал. Все были в восторге и требовали повторения. Удивляться тут нечему: знаменитый Тартарен одерживал вокальные триумфы, обходясь еще более скромными средствами – троекратным повторением: «Нэт! Нэт! Нэт!»
Во время революции Петя Богачев, носивший кличку Петя Маленький, был связным между передовым отрядом революционных печатников и штабом, находившимся в нашем доме. Потом его скромная роль в революции выросла в помраченном рассудке до исполинских размеров. Напившись, он шел к висящему в коридоре телефону и властно требовал у телефонистки:
– Кремль!.. Богачев!