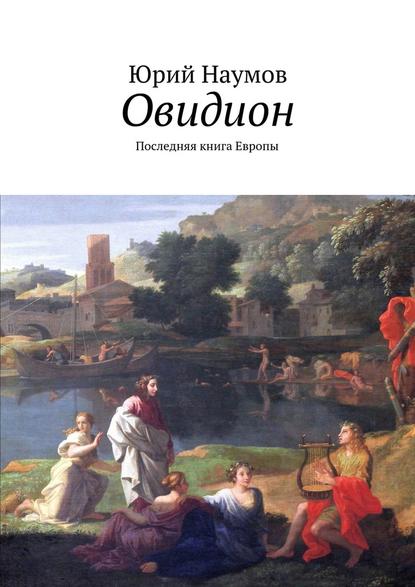По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Овидион. Последняя книга Европы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В моей комнате лежит меховая накидка, – сказал Леоген. – Принеси, будь любезен.
Странная просьба, но жизнь в Велабре учила быть готовым ко всему. Через минуту я летел со всех ног с плащом в охапке, и только краем глаза оценил, что вокруг все стало иным. Я резко затормозил и упал. Руки скользнули по ирисам и маргариткам, и сразу стало их жаль, а почему, я понял через мгновение, когда по ногам ударил холод. Я увидел, что мы стоим на высоком берегу с полегшей под ледяным ветром тусклой травой. По левую руку возвышался двуглавый белый камень. Внизу катились тяжелые волны. От них веяло неуживчивой мощью, резкой, но не злой, как будто пленённый гигант мечтал вырваться на простор.
– Где мы? – крикнул я, пытаясь перекрыть голосом ветер.
Леоген, стоявший в пяти шагах, без малейших усилий оказался рядом и набросил мне на плечи плащ.
– Мы очень далеко, друг мой. Но только относительно того места, где только что находились, – ответил он, не повышая голос, и я отчетливо находил каждый звук его речи в шуме ветра. – Теперь нет ничего ближе этого острова, где мы стоим. Не спрашивай, как он называется. Просто твой климат чересчур удобный. В нем так легко спать… Поверь, когда-нибудь ты окажешься здесь, на самом краю – и дальше, за краем.
Тревога внезапно прошла, живая прохлада полилась в легкие, а он продолжил:
– Смотри на эти волны. Они – великие учителя. Смотри, какая в них сила! Как тесно им здесь, в этом великом озере! Оно когда-то было океаном, и снова им станет, и каждая волна мечтает лишь об этом. Живи тихо, как движутся они. Всему своё время. Не стремись на людские вершины – это от глупости, и если будешь ты волне подобен, то получишь то, что многим недоступно, ведь ты живешь сердцем, и так будет всегда. Ты не станешь выдающимся гражданином, не завоюешь новых Галлий, не убьешь тысячи несчастных. Интересами семьи ты тоже не ограничишь себя, а если за что-то зацепишься, тебя освободят. Да, мой мальчик, ведь твой отец и брат очень привязаны к земным делам и верят в могущество ума. Ты не выживешь, если пойдешь по их стопам. Тебе нельзя – нарушится мера, и ты погибнешь.
Ноги стремительно коченели, но любопытство победило.
– А что такое ум? – спросил я.
– Это консул на год, который вечно рвется в императоры. Я называю его по-старинке, а ты можешь дать ему любое название, от этого суть не изменится. Это малая часть бесконечного разума, которая привязана к твоему телу и постоянно ворует у тебя целый мир и всё его блаженство, когда ты считаешь, что ум – это и есть ты. Это заблуждение испокон веков бросает людей в царство Аида… Ты, твоя истинная суть, никогда не имела никакой формы, и ей принадлежит всё, и она – всему. Ты общаешься с телом посредством того, что я назвал умом. Он часть твоего тела, смертная часть. Когда ум говорит, что нужно одеться, потому что на улице холодно – это его светлое проявление, а когда тебе кажется, что ты лучше других людей, потому что родился в богатой семье и хорошо складываешь звуки, тогда он проявляет своётемное начало, как безумная мать, для которой только ее ребенок достоин жизни. Если ты даешь волю его прихотям, он распухает будто гнойник, и презирает небеса и всё, что идет от сердца, от той великой любви, истоки которой уму неведомы. Когда это происходит, человек заболевает, и это самая тяжкая болезнь. Он теряет всё, себя настоящего в первую очередь, и уже не найдет ни легкости, ни игры, ни самого разума. Ты умен; так держи ум в его пределах, нельзя впускать его на ростры. Пусть занимается своим делом: следит за твоим состоянием, ведет хозяйство, подсчитывает расходы и доходы, ведь он – всего лишь раб-эконом. Только твой дух, твой бесконечный разум – император и лучший друг, свобода – его плоть, его право. Если дух твой поднимется в полный рост, ум убежит к себе в коморку, ведь там его место; он не жилец в мире свободы.
Мы вновь оказались на вилле. Холод откатился не сразу, и на секунду я замер, пытаясь нащупать в памяти мгновение, когда картина вокруг изменилась, но не нашел его.
– Значит, ни один человек на самом деле не имеет формы, и мы все – одно целое, вселенная? – прокричал я. – А то, что заставляет нас враждовать – это обман, глупость и слабость?
– Да, но не нужно кричать об этом с крыш. Врастай в это, будь этим, знание должно быть сильным и крепким.
– Это нужно объяснить людям! Но как я смогу, если не стану знаменитым поэтом или хотя бы сенатором? Никто не будет меня слушать! И как я стану достойным гражданином, если буду держать ум в его коморке? – спросил я, сбрасывая плащ. Леоген поднял его с земли, со стариковской аккуратностью свернул.
– Сократ иногда появлялся на рынке и бродил по рядам. Торговки кричали ему: «Эй, философ! Что ты тут делаешь? У тебя нету ни гроша!» Сократ обычно только пожимал плечами, но однажды ответил: «Я радуюсь: как много есть вещей, в которых я не нуждаюсь». Страдание – это рынок, ум – деньги. Ты понимаешь меня?
Все было ясно. Но уже через десять лет я стыдился признаться, что мой воспитатель был таким простым человеком, хотя объяснить его некоторые фокусы не мог до самой смерти. Как много дал мне этот старец, и как много он забрал… Он был прав, тысячу раз прав. Ещё двадцать лет назад меня из-за пристрастия к книгам считали умным, а я никогда не доверял уму. Все самые тяжкие ошибки я совершил в полной уверенности, что делаю нечто исключительно разумное. Было трудно поверить в своёнедоверие – это значило пойти против всего, что я получил от людей. Против всего, чем они живут, и мои родители не исключение. Даже помыслить об этом было страшно, но только об этом и стоило мыслить.
*
Леоген рассказал мне сказку, значение которой я понял слишком поздно. Мог ли я знать, что это станет моей судьбой? «Далеко-далеко в море есть Белый остров, счастливый, как вечные камни, – рассказывал он. – Море, где он стоит, плещется в самом сердце умопомрачительной страны, а остров отделен от нее тремя стенами и бездонным проливом. На острове находится дворец. Под ним струится чудесный ручей, который исходит с гор Олимпа и впадает в Лету, реку, дарующую сон без сновидений. Один глоток из той реки полностью залечивает раны и делает вновь молодым, и тысяча лет пройдет для испившего как один обычный год. Не многие знали о том ручье. Среди них был пастух, который хотел стать царем. Он поставил дом на ручье, скрыл его в своем подвале, запутал входы и выходы, и убил всех, кто знал о чудесных водах. Но и этого казалось ему недостаточно. Желая вечности только для себя, он приказал одному мастеру, воздвигшему чертоги, отвести ручей с лица земли, упрятать его подальше в глубину, чтобы никто не мог добраться до него. Мастер выполнил заказ, однако прежде царь наполнил блаженной водой свои амфоры, надежно запечатал их и закопал под своим троном. Мастер был казнен, а его сын убит при попытке бежать на крыльях волшебства. Затем боги покарали царя – сотрясли его остров, наслали врагов и разбили дворец; теперь над его троном пасутся козы. А царь отправился в долгое странствие, и познал, что священная влага открыла ему глаза, и решил не возвращаться, и позволил состариться своему телу, отдав его на произвол смерти. Нет такого человека, Лио, который не хотел бы испить из кувшинов царя. И все готов он совершить, любое преступление, чтобы завладеть моим ручьем. И если ты найдешь его, то помни: самое главное в той воде – не бессмертие тела, а настоящее бессмертие – бесконечная свобода».
Я знал: когда-то жизнь спала, как январское озеро, но подул ветер и поднялась волна. Она летела все быстрее, плотность ее нарастала, и я, и каждый из людей был этим потоком, его брызгами. Я принимал форму и проходил огонь и воду, и медные лабиринты, я ползал, плавал и бежал, летал, и разделялся на расы, на различную плоть, на разные «я», и порождал и ставил под топор, и мне рубили голову, и со мной бывало все, что может быть.
Не исключено, что я слишком увлекался тайными греческими учениями, но кроме Леогена об этом рассказывал библиотекарь Силана. Впрочем, в конце концов он сказал: «Брось ты эти пэмандры, каббалы! Все это мусор. Если хочешь солнца, выйди из библиотеки». Я не хотел выходить… Силан тоже. Он считал египетскую мудрость более древней, чем сама Эллада, а Александрию просто обожал. «Этому городу всего триста лет, и все же он гораздо старше Рима, – писал он. – Все лучшее пришло через Африку – Египет, Карфаген. Ты поймешь это легко, если выберешься из Города. Езжай куда угодно – хоть в самую дыру, к сатирам на рога!». Совет был в общем-то неплох, позже я им воспользовался, но, по правде говоря, меня тошнило от александрийских космогоний ещё больше, чем его ученого слугу. Там Отец Эфир женился на собственной матери и рождал от нее детей, и становилось понятно, отчего в мире людей все так паршиво.
Я принялся за эти космогонии однажды в юности, в ту весну, когда погиб мой брат. Накануне по столице прокатилась эпидемия, на заре похоронный пепел устилал весь двор. Болезнь убила наших соседей, Марк был влюблен в их дочь, и тоска по той голенастой девчонке вдавила братишку в Орк. С утра он ушел на Форум, а через несколько часов его принесли с разбитой головой. В тот день возле курии вспыхнула драка, Марк бился в первом ряду. Убийцу брата отдали под суд, но облегчения никто не испытал. Отца (а больше мать) оскорбило то, что виновный отделался штрафом. Собирая деньги, он провалился в долги, и отец добился его изгнания. Он приходил к нам, этот лопоухий белобрысый парень, его знал весь Велабр. Когда-то он воевал с моим братом за уличную власть. Теперь он хотел покаяться, может быть искренне, но родитель не пустил его за порог.
Осенью пришлось уйти от Корнелии, моей первой жены. Вместе мы провели три года у нее на Эсквилине. Дом кипел от фиалок, нарциссов, тюльпанов и роз, от красоты было нечем дышать. Корнелия вставала после полудня, до вечера принимала ванны, пила будоражащие отвары. Целыми днями могла питаться только печеньем, и порой обходилась даже без этой малости, но без опиума – никогда. Я перезнакомился с ее друзьями, почти все они были поэты, по их рекомендации меня пригласил Меценат. Ещё те дни я подружился с Мессалином, в юности он мог часами слушать мои вирши, а своих никому не показывал. Его отец, Мессала Корвин, был отменный знаток искусства, несмотря на то, что полжизни воевал. Он пригласил меня на чтения. Я декламировал «Медею» – слабую поэму, но другой не было, а живые боги, Гораций и Тибулл, просили что-нибудь подольше. Закончив, я стоял перед ними, спящими, пытаясь сообразить, где тут чёрный выход, и внезапно боги прыснули со смеху и бросили в меня свои венки. Только тут я заметил, насколько они пьяны. Это был успех, и я остался бы в кругу Мессалы, где вино разливали выписанные из Коринфа гетеры с перьями павлина в волосах, и звучали такие шутки, что Август пошел бы зелеными пятнами, услышь он хоть одну. Но Меценат переиграл своего конкурента: преподнес великолепную виллу по ту сторону Садового холма. Отказаться было нельзя.
Корнелия была старше меня на пять лет, искушенная столичная пантера, не то что я, мечтатель и книжник. Я влюбился в нее всем телом в первую же ночь, а во вторую она призналась, что, кроме меня, детей у нее не будет. Мы смеялись и плакали оба… Она сгорала от огня, утолить который было немыслимо. С такими женщинами чувствуешь себя блаженным во всех смыслах. Я легко смирился с тем, что я не первый мужчина в ее жизни, но не покидало ощущение, что и не последний – никто, один из череды, и это дико влекло к ней. Я даже проникся элегиями Пропертия, которого по-настоящему будила только душевная боль: «Ты не моя, любовь не знает обладанья, но обладает лишь любовь тобой и мной…». Потом я узнал, в какой школе Корнелия постигала своёискусство – она изменяла мне со всеми массажистами Субуры. На что я надеялся?.. Не то чтобы я презирал ее, просто не люблю лжи, да и отец заболел от позора, почти полностью ослеп. Мы развелись довольно скоро. Потом я женился на Фурии Камилле, и темная страсть привела к ослепительной скуке. Как раз миновали мои десять лет государственного рабства, и я сказал отцу, что бросаю и службу, и жену со всеми ее предками. Родитель вскинулся на дыбы, но мать поддержала меня. Она терпеть не могла невестку и ненавидела политику, отнявшую у нее сына. В сентябре я покинул Италию. Меня сопровождал школьный друг, губастый, глазастый Помпоний Грецин. Плевать он хотел на Капитолий и даже на музу, если она не брила себе ноги.
Мы уплыли навстречу Элладе.
В самом начале пути к нам присоединились две поэтессы из Милета. Своих поэм они, конечно, не помнили, однако общению это не помешало. Десять дней мы пили вино и подруг, и жажда не иссякла даже с оплаченным сроком любви, – девушки клялись в верности до гроба. Одна из них в порыве страсти прокусила мне мочку уха и предложила вдеть в него кольцо, что мы и сделали к недоумению моряков, которые сами были увешаны металлом, как танцоры Изиды.
Скучно не было, хотя в Афинах стояла мерзкая погода. Я предался любимому занятию – собирал мифы, не вылезал из библиотек, целые дни проводил в беседах с модными рапсодами. Грецин занялся историей и софистикой, а в свободные часы мы вместе изучали местных гетер. Римлянки не годились им даже в рабыни, каждая разбиралась в философии и поэзии намного лучше наших блюстителей слова. Гетеры меняли на деньги лишь немного своей благосклонности, но чтобы заслужить их ласки и похвалы, приходилось изрядно постараться. Я был готов жениться на каждой из них, но Грецин мечтал о том же, и чтобы не омрачить дележом нашу дружбу, мы решили остаться пока холостыми.
С марта по июль мы объехали всю Грецию, Великую и Малую, добрались до Митилен, а затем нас пригласили в гости на Крит. Не знаю, чем я отравился – может быть, молодым вином с печеной форелью, но путешествие вывернуло меня до кровавой блевотины. На полпути сознание покинуло меня. Очнулся в Гортине, в доме друзей. Когда ум и желудок пришли к согласию, мне вспомнился рассказ Леогена о старом дворце и волшебном истоке. Потрясающе, как это просто, подумал я. Крит – Белый остров, а дворец – тот самый Лабиринт, повелитель которого держал Аттику в первобытном ужасе. Я вскочил на ноги. Грецин едва поспевал за мной, чертыхаясь на кошмарной дороге, где мулы вели себя как злобные старые жрицы, будто сговорившись убить нас о камни. Мы нашли старый холм, похожий на разорванную тушу быка. Поросшая травою плоть местами отпала от каменных костей. Прямо перед нами зиял развороченный бок дворца, едва запекшаяся рана, и было ясно, какая красота бурлила здесь. Вечерами в теплом воздухе поднимался дымок очагов, протяжно мычали коровы, бренча колокольцами, щелкали бичами пастухи. Диким уютом цвел этот полынный воздух, в царстве, где править могли только женщины, щедрые телом и душой, ворожившие своим небесным супругам. Как можно было покинуть этот остров, бежать отсюда всеми неправдами? Мы хотели раскопать холм, но пришлось бы нанять полсотни рабочих, а местные жители до смерти боялись этого места, считали его проклятым. Кроме того, мы спешили – жизнь никого не ждет.
Отпустив Грецина к египетским девам, я жил на Сицилии, в Сиракузах, неподалеку от храма Удачи. Там было всего вдоволь, и мудрых бесед, и умелых подруг, но глубина религиозного чувства сиракузян превосходила все ожидания. В храме я видел статую Тихэ Каллипигэ – Удачи Прекраснозадой, она стояла спиной ко входу. Мне объяснили, что статуя построена на деньги истинных баловней Удачи, тех, кто восхищался богиней даже когда она отворачивалась от них. «А как иначе? – говорил верховный жрец. – Все изменчиво, но каждый поворот судьбы вершит не кто-нибудь, а именно богиня. Если кого-то любишь, люби полностью. Только это любовь, а все остальное – расчет». Я отдал храму все своёзолото.
От созерцания божественного зада меня отвлек библиотекарь Помпей Макр, его поместье находилось неподалеку от Сиракуз. Помпей был священником эллинской мудрости, снабжая книгами столицу, но тем летом я решил познать Грецию такой, какая она есть. На заре мы седлали коней и отправлялись в желто-синюю, знойную как поющее дыхание пустоту. Здесь было хорошо. Душа моя встала на место, я перестал ее чувствовать, оттого что она выздоровела. Сицилия полезна тем, кто устал от выбора – это родина холодных умов и горячих сердец. Макр болтал о предстоящей зиме, но шуршала трава на холмах и пшеница, шуршали ветки олив, и крылья птиц, и галька берега, и не стоило даже пытаться отяготить себе голову, так же как выхватить взглядом груди местных набожных крестьянок, которым мы махали растопыренными пальцами, едва увидев их белесые брови на спелых круглых лицах, ставших от солнца черней их одежд. Сицилия жила той самой силой, что когда-то процветала и в наших краях, да вся вышла. Все было настолько древним… Старейшину одной из деревень весьма почитали за то, что у него было двадцать детей от двух женщин. Он жил в глинобитной лачуге, узкой и длинной, словно казарма.
– Ты ведь не персидский царь, – сказал я старику. – Зачем тебе такое множество потомков?
Я ожидал услышать в ответ что-нибудь вроде того, что боги не оставят покровительством столь плодородного человека. Но старик мыслил иначе.
– Все люди страшатся смерти. И я страшусь, – ответил он, приглаживая волосы пятерней. – Посмотри на этих девочек и парней: я в них продолжусь, ведь и они дадут потомство, и так бесконечно.
Идея бесконечного потомства показалась мне сомнительной, ведь боги охотятся на людей и днем, и ночью. Но я спросил о другом:
– Ты говоришь о своем потомстве. Но ты ведь тоже чей-то отпрыск?
Я надеялся, что старик ответит примерно так: «Да, я часть великой нити, что тянется неизвестно откуда неизвестно куда и неизвестно как долго, я звено этой вечности, что проходит через меня», и вдруг осознал суть поклонения предкам, на котором стояла домашняя жизнь моих родных. Но старик озадачился. Он не думал об этом. Он думал только о себе, и оттого так боялся исчезнуть раз и навеки. Дети были для него средством спасения. Как это подло – рожать детей только для своего успокоения!
*
Помпей выручил с деньгами, и в начале сентября я отправился в мечту моего детства, Элевсин. От прежней закрытости там не осталось и щеколды, и поскольку я пожертвовал храму сотню денариев, меня приняли как родного. Поначалу Элевсин разочаровал. Я ожидал увидеть благородную бедность, грубый крестьянский алтарь и такой же колодец, но едва нашел их в подобии Форума, по-римски пышном и бездарном. Вскоре я перестал обращать внимание на мелочи и погрузился в суть обряда – возвращение к свету из кромешной, безнадежной тьмы. Прошел обряд от альфы до омеги, стал актером и зрителем, ведь изначально театр был мистическим таинством; опустошив себя до дна, все своёотдав богам, актеры становились богами; природа не терпит пустоты. Дальше было что-то невероятное. Чем больше я погружался в обряд, тем меньше в нем оставалось и Греции, и меня самого. Безумные танцы, которыми завершился праздник, были только отражением этой великой загадки, чтобы снять невыносимое напряжение сил. Я почти не пил вина, был пьян и без него, никакое вино или травы не подарят такого… Среди открытий, сделанных там, в свои неполные двадцать восемь стыдливых лет я невольно запомнил, как люди раскрывались в танце. Это было побочным эффектом, которому никто не придавал значения – мужчины и женщины, не касаясь друг друга телами, в агонии, без сладострастия, горели прохладой в глубинном экстазе, когда от ощущений остается только свет, взрываясь бесконечно, ровно, без остановки, вторя голосу жреца – хум, хум, хум! – а барабаны стучали ровно, поначалу атакуя, а затем подхватив позвоночник, и только на звуке мы и держались. Когда зазвучала свирель, вкрутившись в это пекло серебристым вихрем, я подумал, что умираю, и окончательно потерял над собой власть, а дальше был только добрый пульсирующий свет, и ничего кроме света.
*
Однажды на вилле Силана возник спор о будущем эллинской культуры. Внезапно Силан заявил, что у варваров тоже есть культура. Мессала оторопел.
– Друг мой, Германия и гармония несовместимы, – сказал он.
– По крайней мере они, в Германии, живут по природе, – парировал Силан. – У них цари и в самом деле выборные, жены общие, детей они растят сообща, и каждый мужчина для ребенка является отцом, а каждая женщина – матерью. Никто не сокрушит такой народ!
– Я не уверен, что понял насчет царей, а в остальном у нас то же самое, – заметил Мессала.
Когда смех стал тише, Силан продолжил:
– Природа – это и есть гармония, а у нас понятия доблести и Фортуны несовместимы. Если урвал что-нибудь против воли богов – значит, герой. Если нам повезет, мы искупим ошибки в этой жизни, а если нет – в других, раз за разом, барахтаясь как слепые щенки!
– Ты хочешь сказать, что в следующей жизни мы можем родиться псами? – ещё больше изумился Мессала.
– Человек не может воплотиться в животное, чтобы не отвечать так легко за наши-то ошибки. Но я утверждаю, что культуры нет без гармонии, гармонии – без природы, а мы перешагнули через нее. Мы слишком искусственны, несовместимо с жизнью. Только варвары могут спасти наш мир. Свежий ветер.
Вмешался Мессалин.
– Очевидно, друже, полтора года, проведенных среди всех этих даков, оставили в тебе неизгладимый отпечаток. Но, поверь, если бы ты знал их несколько лучше, то не стал бы ратовать за такую культуру.
– Греки тоже считают нас варварами.
– Это ошибка греков. То они говорят, что любят нас и даже боятся, то кусают как летучие мыши.