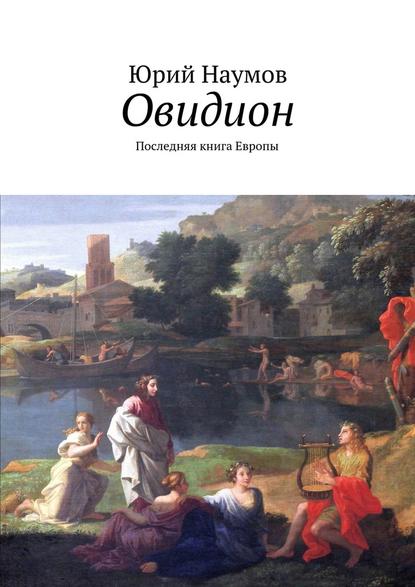По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Овидион. Последняя книга Европы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, знакомьтесь: Децим Юний Силан, патриций из новых. Он родился в девятнадцатом году до нашей эры[6 - В оригинале: C. Sentio Saturnino, Q. Lucretio Cinna coss.], в тот же мартовский день, что мой брат и я. Грецин даже объявил нас родственниками, но все мы знали, насколько тщетны узы гороскопа. «Велико богатство! Одиннадцать двенадцатых отдаешь другим!» – фыркал Мессала.
Детские годы Силана прошли в поместье на юге. Во время гражданской войны его отец поддержал не того кандидата, и хотя Август его простил, старик на всякий случай отвез детей подальше от Форума. Пустые предосторожности. Децим отметил седьмое лето, когда император даровал старому Каю Силану звание патриция и заодно поинтересовался, где он прячет наследников прекрасного имени? В тот же год юный Децим вместе с братом и сестрой был водворен обратно в пенаты, в пышный и нескладный дом у трех Фортун.[7 - Район в древнем Риме, примыкавший к трем храмам Фортуны на холме Квиринале.]
Отец и дядя Децима часто обедали в доме Августа – он любил возиться с белобрысыми, смышлеными детьми Кая Силана в мирные часы перед ужином. Как-то раз он разбирал арифметическую задачу с юным Децимом: нужно было сосчитать уцелевшее после битвы население дакийской деревни, зная, что всего там жили десять семей по три ребенка в каждой, отцы погибли, а старики не берутся в расчет. Ребенок, подавленный такой постановкой задачи, упорствовал в понимании, и тогда Август нарочито сурово приказал охране казнить пятьдесят рабов – двадцать женщин и тридцать детей и доставить их головы к ученику, поскольку воображение не помогло его рассудку. Децим тут же выкрикнул, что казнить надо всего лишь десять женщин, а количество детей оставить прежним. «Парень далеко пойдет по тропе адвокатуры», – под общий хохот заметил принцепс. «А как выйти на тропу Августа?» – полюбопытствовал Децим. Август подозвал префекта охраны и негромко приказал обезглавить четыре десятка рабов. Затем шепнул Дециму на ухо: «Ты правильно сделал, что отказался от умозрительности. Все они опасны, и взрослые, и дети, и рабы, и свободные. Но если свободного ещё можно сделать другом, то раба никогда, и остается только считать по головам». «Так пусть они будут свободны!» – выпалил Децим. «Это невозможно, – горько причмокнул Август. – Как ты станешь свободным, если не будет рабов?» «И в чем же разница между рабами Цезаря и его друзьями?» – спросил Децим. В этот миг, вдруг осознав, что Август не шутит и сейчас внесут окровавленный мешок, Децим ринулся вон и очнулся только на улице. С тех пор он ненавидел арифметику.
Познакомил нас общий друг, Мессалин. Это было в театре, и с моей стороны являло простую вежливость. Я был намного старше, но мы общались на равных. Силан был похож на моего брата. Он дерзал, а не дерзил; ничего общего с плебейской наглостью. Обыкновенно мягкий в житейских вопросах, он разгорался, когда речь заходила об идеях, и рвался напрямую, как боевой слон. Я одобрял его подношения музам, но больше восхищения он вызывал сочувствие. Было ясно, что он один из легиона забытых Фортуной талантов, которым дано познать смирение или тоску. Каждый год они проходили перед моими глазами, их было так много, что я научился распознавать их по одному стихотворению, а потом даже по взгляду. Такие люди обычно спивались, не понимая, за что им выпала такая несправедливость – существовать только половиной души. Боги свидетели: никто не виноват. Фортуна – это чистая игра.
Впрочем, Силану было чем заняться – его ждала карьера в сенате. Для начала нужно было отличиться на армейской службе, и в пятнадцать лет он стал учеником знаменитого фехтовальщика и кулачного бойца Канидия Бестии. Тот поставлял Риму неубиваемых бойцов. Однажды в Испании Бестию вызвали на бой вождь местного племени и его брат. Командир легиона запретил поединок, но тот все равно заколол обоих испанцев. За нарушение приказа его, конечно, погнали из армии вон, но старый Силан уважал Бестию. «Он сделает тебя настоящим воином, потом я вправлю тебе мозги и сделаю великим вождем», – так напутствовал отец своёчадо.
И чадо не жалело сил. Панкратион, фехтование, бег, борьба, – все до кровавого пота. На зиму Бестия отправлял воспитанника в дикие Альпы. Силан проводил целые дни на охоте, ночевал в снегу, и умудрялся сочинять стихи, описывая радости зимнего костра, на котором жарится мясо и греется вино. Чтобы закрепить науку, домой он возвращался в богатой одежде, на старой кляче медлительно цокая по ночным дорогам в сопровождении двух бывших гладиаторов; они следом тянулись на мулах. К услугам этой смертоносной троицы были банды ветеранов, разорившихся крестьян, беглых рабов и прочего сброда. Затем его отправили служить в Паннонию в составе Девятого Испанского легиона. Под своё командование он получил всю конницу.
Название форта Силан не помнит, по его словам, неподалеку там били горячие ключи[8 - Вероятно, это был Аквинк (сейчас – Буда, центральный район Будапешта).]. Предшественник Силана погиб; потребовалось несколько ночей, чтобы привыкнуть к его кровати.
Силану нравилось в армии. После школы Бестии лагерная жизнь казалась праздником. Скрип сапог и портупеи, багряный плащ и грива на шлеме – именно таким он представлял себя в войсках. Весь его вид был последним криком армейской моды, от пошлых пузатых амуров на застёжке плаща до длинного сарматского меча, сделанного по его личному заказу. Проходя тротуарами лагеря, Силан небрежно приволакивал серебряный кончик поножей, и очень скоро ему начали подражать. Его ординарцем был шустрый парень из Неаполя, сообразительный и в то же время туповатый, как это часто бывает. Силан пытался обучить его декламации, но тот не запомнил ни строчки, зато гениально шевелил ушами и проносил для господина послания юных дев; амулеты заменяли им любовные записки.
Впрочем, обстановка не давала расслабиться. Каждую неделю в караулку приносили трупы дозорных, конница бросалась по горячим следам, но кого можно было найти в проклятых дебрях? Миновала зима; на протяжении марта в лагерь стягивались когорты из соседних гарнизонов. Эти воины и кавалерия Силана вошли в состав экспедиционного корпуса, три тысячи пехоты и двести всадников. В апрельские ноны[9 - 5 апреля.] войска форсировали Истр[10 - Дунай (в верхнем течении).].
За рекой простёрлась пустота – ни врагов, ни друзей. Деревни брошены, проводники сбежали, купцы ничего не знали об этих землях. Поймали только одного козопаса, но тот был так испуган или туп, что не мог связать пары слов. Силан надеялся, что взбешённые даки выйдут в решительный бой, но за пару месяцев – только четыре мелкие стычки. На военном совете решили не торопиться вглубь страны. Главная задача – разведка, и туманным июньским утром кавалерия Силана двинулась в дебри Трансильвании.
Силан никогда не рассказывал об этом походе. По словам его командира, Марка Виниция, отряд попал в засаду. Тысяча даков поджидала его в заросшем глубоком овраге. Из двухсот кавалеристов уцелел один Силан. Он вернулся через неделю с застывшим, будто парализованным лицом. Медики насчитали девять ран на его теле. Кроме того, они отметили его хроническую бессонницу – он не спал совсем, и эта особенность уже никогда не покинет его. Силана оправдали и даже наградили. Войска отправились на зимние квартиры.
Силан хотел умереть. Дважды вскрывал себе вены, и дважды его спасали. По общему мнению, он не мог простить себе гибель солдат, но даже Цезарь допускал опасные ошибки, из которых и скроена воинская слава. Виниций успокаивал Силана, объяснял, что даки вели его отряд от самых ворот, что погибшие спасли весь корпус. Все отнеслись к этой неудаче с пониманием, кроме старшего доктора легиона, который полагал, что Силан опасен, что он стал жертвой тёмного волшебства. Доктор предложил доставить его на суд специальной коллегии, собранной из его земляков, тарентинцев. Предложение было отвергнуто. Смешно даже подумать, чтобы коллегия провинциальных магов решала судьбу римского гражданина, который запросто ходил в гости к императору. Децим подал в отставку и, сославшись на здоровье, вернулся в Рим.
Столица поглотила его. Он избавился от лагерной привычки клясться Геркулесом, носил тоги всех мыслимых оттенков и отделок, переодеваясь по несколько раз на дню. Он отпустил кудри и дал волю остроумию, пальцы унизал перстнями, а борцовский торс укрыл под шелком драпировок, собирая складки мелко и густо, на лидийский манер. Утром он выливал на себя ведро ледяной воды и, облачившись, отправлялся по делам. После завтрака шёл на Форум, чтобы узнать новости и при случае подраться за какого-нибудь кандидата. Затем с толпой друзей отправлялся обедать, чаще всего прямиком в бани. Иногда устраивал прогулки на Аппиевой дороге. Его экипажи, подобранные с ненавязчивой тщательностью, никогда не оставались без напомаженных завитых спутниц. Бывало, что в кольце друзей-актёров он вваливался в модные салоны и платил за всех, или звереющий поток уносил его на игры, и вечером, в толпе, он врывался в публичные дома, которыми кишел район Цирка. Слуги приносили его домой мертвецки пьяного, покрытого ссадинами, залитого вином. Но – «Да здравствует Силан! Идущие напиться приветствуют тебя!» – кричали поутру актёры, и всё начиналось по новой. Он был душой компании, несмотря на то, что ходить на вечеринки с его участием было рискованно. Вокруг него всегда кипели свары. В лучшем случае спорщики напивались до изнеможения, чаще дрались до смерти, но рядом с Силаном я чувствовал восхитительную ярость.
Внезапно Силан отправился в Египет. В общине при храме Амона он выбрил себе голову, надел рубище. В тесной келье, куда его отвели, можно было только сидеть – на соломенной циновке поверх квадратного камня, и лежать, опершись ногами в стену. Чтобы с непривычки не затекали ноги, разрешено было стоять и прыгать на месте. Неделю он провёл взаперти. Хотя дверь заменял тростниковый полог, старшие монахи никого не выпускали во двор. Питался только водой из колодца, к которому прибегал ночью тайком, чтобы не попасть под удары палками. Утром десятого дня он схватил старшего монаха и, прокусив ему шею, высосал кровь. Уже в Александрии, спешно купив корабль для бегства, он узнал, что монах скончался.
В Городе он стал домоседом. Построил усадьбу на Авентине – там окончательно вырезали бандитов, которые почти сто лет контролировали тибрские доки, и в район потянулись богатые люди.
В доме Силана не было скучно. Слуги – сплошной паноптикум. Чего стоил один эконом, единственный раб в его обширном доме, знаток пословиц и мудрейших изречений. Назначив этого знатока судьей среди слуг, он ожидал от него чудеса терпимости, но просчитался. «Каждого человека можно заподозрить в чем угодно», – повторял теперь эконом. Своих подчиненных он держал на коротком поводке, не хуже принцепса. Силан подарил его мне, когда управляющий на вилле жены в Сегесте пожелал удалиться к себе на родину, в Галлию. Несомненно, эконом сошел с ума. Я не дал ему свободу только потому, что на привязи он был безопасен.
*
Последний год в Риме начался с того, что старого Камилла избрали в консулы. Его дочь была моей второй женой. Высокая, мне по плечи, тонкогубая, с большими бёдрами и крохотной грудью, она гордо несла своё измождённое лицо, отвлекающее внимание от ее сочной плоти, делиться которой она не хотела ни с кем. Наше семейное благополучие скоро стало формальностью – ни тепла, ни любви, ни интимности. Все её слова были речениями древних героинь, а единственной слабостью – пошлая привычка предаваться воспоминаниям о своих предках. Обстановка унизительной бедности, в которой выросла Камилла (её славный род катился в долговую яму), подняла с её души всю гниль аристократов: крайнее бездушие, извращённую гордость. Жизнь Камиллы от начала до конца была обрядом, точной иллюстрацией детских воспитательных легенд. Впрочем, когда моё отвращение к ней стало неприлично искренним, пафосу героинь она предпочла банальную подлость – убила нашего нерождённого мальчика. После развода она вышла замуж за армейского интенданта, но старый Камилл ничего никому не прощал.
Как-то раз в начале мая, в первый день праздника Доброй богини, когда старухи очищали Город от присутствия мужчин, собрались у меня в Садах на этрусском ужине. Было всего двенадцать человек, только самые близкие друзья с женами или их заместительницами. Силан и Вейя были героями вечера. Нас ожидал сюрприз – маленькое представление по мотивам одного эпизода из Вергилия. В комнату влетели двенадцать голубей, и Силан предложил погадать по их полёту. Вейя руководила прорицаниями. Она торжественно двигалась по кругу, декламируя напыщенные, доведённые до полного идиотизма пророчества. Котта подавился фигой, Помпей рыдал в подушки, жена Грецина лупила его по спине, пока сама не задохнулась от хохота, и только Силан держался сообразно церемониалу, с дурацкой надменностью вскинув бровь. Всё было нашей заготовкой – и голубой навес, разделённый на шестнадцать секторов, по которым гадали жрецы, и узелки с подарками для гостей, привязанные к лапам птиц. Вечер мог завершиться отменно, если бы не одна блуждающая метафора. Задетый успехом подруги, отдавшейся танцу со всею страстью, Силан, уже изрядно пьяный, назвал ее бурной богиней и сопроводил замечание такими жестами, что всем стало неловко. Вейя побледнела, швырнула в него жреческий посох и выбежала вон. Я бросился следом. На полу в атрии лежал ее изумрудный браслет.
Рано поутру я навестил Силана. Задумчивый с похмелья, он сообщил, что у него с Вейей, должно быть, всё кончено. Я отправился к ней. По словам привратника, ещё до рассвета она отбыла на Фуцинское озеро к своей госпоже, Юлии Младшей. Её экипаж состоял из носилок, так что уйти далеко она не успела. Я вернулся домой, запряг коней и со слугой помчался на Тибуртинскую дорогу.
Мы стегали встречную толпу, спешившую на праздник, давили копытами торговок, но продвинулись чуть. Наконец вышли на простор и погнали галопом, и если бы я сломал себе шею, это стоило бы того: любовь в семнадцать лет – это вопрос жизни и смерти, но когда вам пятьдесят, то это больше, чем жизнь и смерть. Мы ворвались в Тибур, пролетели его насквозь, и тут я понял, что поиски тщетны. Вернулся в Рим, через толпу пробился к дому Вейи, но привратника, конечно, не застал. Её слуги были напуганы. Я стоял перед ними грязный, мокрый с ног до головы, вся улица уже судачит обо мне, а завтра будет говорить весь Город, но поздно отступать. Я сбил на пол загородившего путь конюха, ворвался в дом и работая плетью пробился в кухню, где под медным чаном схоронился управляющий. Он признался: госпожа направилась на берег Аверна, где недавно купила себе дом, и велела передать мужчине, который явится утром, что уехала к Юлии Младшей. Видимо, она ждала Силана.
И снова в путь – сменили коней, поскакали на юг. Аппиева дорога бурлила даже на обочинах. От грохота, ржания и криков закладывало уши. Не доезжая Бовилл, я наткнулся на Помпея Макра. Он стоял в тени деревьев, окруженный своими людьми. Помпей бегло поздоровался и, стараясь не глядеть мне в глаза, рассказал, что рано утром на Вейю напали, ранили, слуг зарезали. Бандиты попытались убежать, но не смогли – Помпей в тот самый час направлялся в поместье с женой и охраной. Грабителей догнали и связали, а Вейю нужно доставить к врачам.
Носилки стояли поодаль, в паре шагов. Я опустился на колени, откинул полог. Вейя спала. Её голову обложили мешочками со льдом, и в этой свежести она была такой далёкой. Кончиками пальцев я видел, как неровно ручеек надежды струится из её темени, и тонкие брови, немного вздернутые у переносицы, звали прикоснуться к ней, и всё отдать и больше ни о чем не думать, ведь всё уже передумано, а я как прежде одинок. Я провел щекой по её коже. Моя слеза оставила короткий темный след, будто кровь раздавленного скорпиона, и какие-то силы проходили сквозь меня, захватывали дух, бессчётные, и я уже не удивлялся их приливам, а лишь отдавал, отдавал, отдавал.
*
Рана Вейи быстро зажила. Через месяц мы уже смотрели комедию Силана «Потерпевший кораблекрушение». Содержание: рыбацкая лодка терпит катастрофу за Геракловыми столбами, единственный выживший попадает на остров, населённый благородными красивыми людьми. Там лето круглый год и не надо пахать, а бог и закон едины и имя им Любовь. Царица принимает пахаря ко двору и выдает за него красавицу-дочь, но крестьянин отчаянно тоскует по своей пьяной деревушке, где все живут как свиньи и до смерти дерутся за каждый грош. «Мы знаем жизнь, не то, что вы», заявляет он в финальной сцене на пиру, и, выбежав во двор, горстями жрет навоз, запрыгивает на плот и устремляется навстречу родным берегам.
Силан поставил комедию у себя на вилле в Синуэссе. Он выписал из Рима актеров и певцов, но главную роль оставил себе. Зрителей было немного: Вейя, Котта, я, Помпей и наши общие друзья, знатоки литературы Юлий Гигин и Ортензий Мозес. Повар испёк пирожные в виде навоза, один шарик я оставил себе и довел до истерики тёщу, съев реквизит за столом и заметив: «Цезарь, конечно, прав – мы должны вернуться к здоровым и простым обедам наших предков».
Мы ехали в Город вместе, Вейентелла и я. Счастливые часы в носилках, где все было вскользь – и разговоры, и хрупкие, обжигающие горло намеки, и касания рукавами, и тепло бедра. Прощаясь, она не ответила на мой вопрос и только пожала руку, поцеловала и с лукавой улыбкой передала свиток. «За ответом я приду завтра», – сказала она. Как только Вейя ушла, я развернул папирус. Это было письмо от Юлии Младшей, любимой внучки Августа. Мы не были представлены. Я знал её лишь потому, что Вейя была её подругой, а Силан – любовником. Но, считая меня большим знатоком вопроса, она правильным почерком изложила свои чувства в духе моих «Героинь», не поленившись перечислить свои постельные приключения. От её стихов у меня чесались зубы. Мифологические имена ничего не скрывали. В конце она добавила, что «в столице наслаждений» живет «певец сердечной тайны» (!), и не могла бы она, скромная супруга Вулкана, прийти к Орфею, чтобы наедине обсудить его последний подвиг – акт любви с тысячей вакханок?
Эта пошлая история отличалась от десятка подобных только именем героини. Я ни разу не нарушил супружескую клятву, но римских дурочек возбуждала мысль, что ночами я бегаю по окрестным полям и орошаю семенем пашни. Единственным, что не раздражало в этом письме, была тема Орфея. Акт любви с тысячей вакханок! Это было бы слишком сильно даже для Геркулеса, не то что для простого фракийского пастуха, которым был Орфей. Но такой финал истории всегда казался мне удачным; я изменил его в «Метаморфозах» только ради бедняги Альбинована, который свихнулся на старости лет и тайно женился на гладиаторе.
Однако нужно было отвечать, и я сочинил вежливый отказ от лица Гермеса – дескать, Орфей чинит кифару, разорённую вакханками, и как только струны вновь задрожат в наплыве вдохновения, он тотчас явится ко двору самой обольстительной из богинь.
Вскоре Силан заметил подозрительных типов, слонявшихся у моего дома. «Это воры, – сказал Силан. – Изучают распорядок дня в твоём доме». Мы вышли на улицу через кухню. Мрела послеполуденная жара. Шли чёрные рабы с носилками, тянулись мулы, громыхали повозки. Рыжий детина сидел на краю тротуара и беседовал с торговкой овощами, гогоча на всю дорогу. Возле цветочной лавки стоял непримечательный господин, подпоясанный дорогим ремнем. Мы встретили его недобрый взгляд. После заката Силан прислал своего человека, и тот организовал оборону лучше, чем троянцы.
Следующей ночью я возвращался домой с Авентина верхом. Меня сопровождал офицер-ветеран, начальник моей охраны. Возле храма Геркулеса Победителя он обратил моё внимание на то, что следом крадётся мужчина, не упуская нас из виду от самого Цирка. Я кивнул, телохранитель резко развернул коня и крупом сбил незнакомца на землю. Рыжий бродяга, по виду бывший солдат, затараторил, что ему скоро сворачивать, зовут его Алексис Голодный, кругом тьма хоть глаз выколи, а у нас лампада, да сохранят нас боги. Я прижал его к стене и обыскал. Под мышкой у него был подвешен короткий меч без ножен. «Зачем это тебе? Собак отгонять?» – спросил я, но отпустил мерзавца. Когда он убрался прочь, мой центурион уверенно и тихо заметил:
– Он хотел убить тебя, хозяин.
Ночь была испорчена. Кому я перешел дорогу? Я, самый тихий человек в этом бешеном логове? Будь то грабитель, он получил бы отпор, будь то жертва сплетен обо мне, мы могли бы все уладить, однако сердце говорило, что мне уготовано что-то серьёзное.
*
Летом я повздорил с женой. Причиной стала наша дочь – она ушла от своего мужа, издателя Квинта Лоренция Ларса. «Любви больше нет», сказала она. Вот оно, нежное греческое воспитание! Теперь она выскочила за молодого адвоката и он увёз её в Ливию, к малярии и гнилой воде. Меж тем супруга моя была без ума от нового зятя, его улыбок и раздвоенного подбородка, и я догадывался, кто первым благословил этот безумный брак.
Вейя отправилась в поместье к своей госпоже, обещав вернуться не позднее октября. Я соблюдал дистанцию. Не знаю, поймет ли меня современный читатель, но доверие жены для меня значило много больше собственного счастья, так мы были воспитаны. Я заперся на вилле, надеясь утопить печаль в «Метаморфозах», но работалось трудно. Всего-то нужно было – связать воедино четыре главы, именно это и не удавалось. Глаза нестерпимо болели, поэма бесила меня. Город по-скотски будет измываться над ней. Кому нужны эти превращения? Я не Вергилий, в моей работе не было расчёта. Это не миф о величии наших истоков, я не дал Риму повода возгордиться собой, избегая этой темы сознательно, не без влияния Мессалы, который заметил как-то раз на похоронах Вергилия: «Бедняге повезло, ушёл вовремя. Если ты, Назо, пойдёшь по его стопам, имей в виду: рано или поздно воспетый тобой народ решит, что для него ты недостаточно великий».
В общем, я забросил поэму. С зарёй отправлялся на реку, рыбачил, потом плавал; всё во мне мертвело, если рядом не было воды. Глаза очень устали. Берег удалялся от меня всё дальше с каждым утром, но хотелось верить, что болезнь пройдёт сама собой. Котта подарил саженцы на редкость ароматной сирени, и я возился в саду, насколько позволяло зрение, то и дело задумываясь о том, чем заняться по весне. Силан приглашал на Крит, зная мою страсть к рыбалке и наблюдением за повадками птиц. Запах Тибра успокаивал нервы. Шуршали фонтаны, влажной зеленью играл Садовый холм, и однажды я подумал, что пора начинать другую поэму, совершенно другую, сумрачную, глубокую, настоящую, и совершить первый рывок от земли мне поможет чудесная серебряная булла[11 - Булла – полый металлический футляр круглой формы, обычно плоский, оберег от злых чар. Его носили на груди дети полноправных граждан (до совершеннолетия) и триумфаторы. В широком смысле – амулет.], подарок Леогена. Я уже решил послать за ней в город, когда в ворота поместья на сверкающем буланом жеребце влетел Силан.
Мы не виделись пару месяцев – он лечился от бессонницы на Крите и выглядел заметно посвежевшим. После обеда, за бокалом вина в беседке, он задал вопрос: как бы я отнесся к волшебному, неожиданному подарку? «Насколько волшебному?» – спросил я. Он рассмеялся: «Душа тебя погубит. Я бы спросил, насколько неожиданному». Я не стал ломать себе голову, никто не приезжал в гости без подарков.
В полночь закурили кальян. Говорили о «Метаморфозах».
– Понимаю, чем тебя привлекла тема преображения, – сказал Силан. – Этот город было бы неплохо обновить, очистить от прошлого. Матушка говорила, Рем и Ромул были полуволки, полулюди. Действительно – кого ещё могла вскормить волчица?.. Хороши предки, а? Кстати, двое оборотней напросились к нам на ужин.
Пока я раздумывал, что бы это значило, Силан хлопнул в ладоши. Из-за полога, разделявшего столовую и сад, вышли две укутанные в мех высокие женщины, блондинка и брюнетка с распущенными волосами, лица скрыты волчьими масками. В полутьме, под щелканье кастаньет, они начали старый персидский танец, замысловатый, бешеный. Легко вращая бедрами, кружась, переплетаясь, они растеряли меха. Одна из них, белокурая, была вызывающе прекрасна, с фигурой влюбленной девушки, у другой – стройное материнское тело, тело-колыбель. В мерцающей глубине дома вкрадчиво ударили в тимпаны. Я знал, что существует магический ритм, которым персы в тайных ритуалах доводят себя до полного исступления, но слышал его впервые. Всё потерялось в этом биении тьмы. Дышать я почти не мог, сердце перекрыло горло, воздух был уже раскаленным, и наблюдать и не слиться с ними казалось невозможно. Через несколько долгих минут они двинулись к нам. Одну подхватил на руки умирающий от нетерпения Силан, другая, с золотистыми волнами, раздвоенными будто крылья, дернула за шнур и скрыла их пологом, взошла на стол и на четвереньках направилась ко мне, свергая на пол кубки и вазы с фруктами. Я подхватил ее тело и бросил на ложе, её ноги взлетели мне на плечи. Все мои чувства хлынули вниз, в камеру сладостных пыток. Тимпаны стучали гулко и часто, будто копыта потусторонних коней, и когда она выгнула грудь и откинула кудри со лба в победном стоне, маска упала с её лица.
Вейя. Удар горячего ветра, нега морского дна… Как я мог не узнать тебя? Тело не способно вынести настоящее чувство, оно лишь наблюдало, как моя душа сорвалась с высоты и, упав в её сердце, разбилась на тысячу осколков. Потом мы лежали, едва касаясь губами пустоты. Не знаю, сколько это длилось; жизнь равнодушна ко времени. Я коснулся завитка, обернувшего её ушко. «Мне пора», – сказал её взгляд, но я не смог отпустить её, даже когда стрела ее позвоночника исчезла за границей света.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: