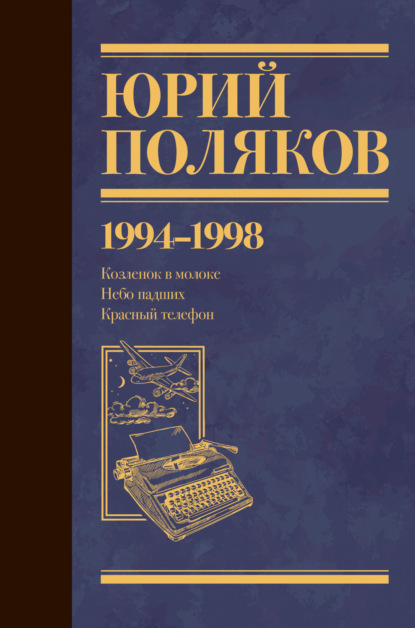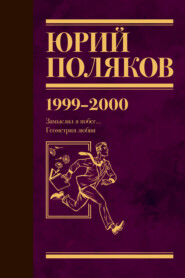По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений. Том 3. 1994-1998
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А как она? – спросил я.
– Нормально. Что ей сделается? Тут мою «Прогрессивку» в Корее издали, хотел на даче ванную переоборудовать. Не-ет… Выпросила у меня лисью шубу. Лиса! Вся в мать.
– Николай Николаевич, – тоскливо вернулся я к теме своего посещения. – А нельзя Виктору из фонда помощи молодым подкинуть? Большой талант.
– Как роман-то называется?
– «В чашу», – ответил я, доставая из портфеля папку.
– Опять небось чернуха какая-нибудь? Когда Родину будем славить? Хватит с нас костожоговщины!
– Это совсем другое. Это как раз то, что вам нужно! – сообщил я, протягивая роман.
Тем временем зазвонил телефон с гербом.
– Алло! Добренький день!.. А где ж мне быть? На посту… Да какая там эпопея! Четвертый год в отпуск не ходил. Слушаю внимательно!
Судя по тому, какая счастливая готовность отразилась на горынинском лице, – звонили свысока.
– Чурменяев? Только что от меня вышел. Прямо Гоголем!.. Не в переносном – в буквальном смысле! Меня в восемнадцати странах издали – я о себе никогда такого не воображал. Что?.. Да читал я эту «Женщину в кресле». Бред сивой кобылы! Что?.. У меня студенты в Литинституте на первом курсе заковыристее пишут… На Западе по-другому думают? На то они и Запад. От слова «западня»! – молвив это, Горынин снова радостно насторожился лицом, схватил ручку-ракету и чиркнул на перекидном календаре. – Ну, конечно… Могут «Бейкеровку» дать – им ведь чем хуже, тем лучше… Ну!.. Машину приходил без очереди просить. Я его спрашиваю: «Когда Родину будем славить?» Ржет! Говорит, когда он «Бейкеровку» получит, к нему журналисты со всего мира съедутся, а он свои «Жигули» разбил… Да, так и сказал: на Западе не поймут, когда узнают, что писатель такого ранга вынужден ездить на битой машине… Конечно, отказал… Ага, значит, и вам уже наябедничал… Что? Дать машину?! Как скажете…
Николай Николаевич, вздохнув, снова вынул из пусковой установки ручку, вычеркнул чью-то фамилию в лежавшем перед ним списке и вцарапал Чурменяева.
– Есть! Готово! – доложил он в трубку. – Ну почему другой молодежи у нас нет?.. Есть! Вот у меня сейчас сидит… этот… (Горынин нервно показал пальцем на папку. Я подал ему.) Вот… Акашин Виктор. Работяга. И роман называется хорошо – «В чашу»… Не-ет… Я тоже сначала подумал, но потом начал читать – не оторвусь. Настоящая полнокровная проза. Жизнеутверждающая!.. А как же! Конечно, поможем… Дочь? А что дочь? Растет, то есть выросла уже. Барышня… Что? Клевета… Ну, конечно… Квартиры распределяем – вот и пошло разное вранье и кляузы. Просто руки опускаются… Да какой отпуск?! Они как дети – ни на минуту без присмотра оставлять нельзя!.. Спасибо! До свидания!
Николай Николаевич положил трубку. Вытер платком вспотевший лоб. И выругался:
– …мать! Специалисты!.. Ни хрена они там в литературе не понимают, а тоже лезут. Плохо все это кончится! Очень плохо. А попробуй поперек скажи – переедут и не заметят! Ведь что обидно: Бог талантом наградил, так я весь свой талант в чужое дерьмо и зарыл! А сколько мог бы написать! Не-ет, сижу – распределяю… Думаешь, ценят? Хрен в тыкву! На полтинник вместо орленка, как подачку, трудовуху бросили! (В переводе с номенклатурного на общечеловеческий это означало, что к пятидесятилетнему юбилею Николаю Николаевичу вместо ордена Ленина дали всего-навсего Трудового Красного Знамени, из-за чего он даже прихворнул сердцем.)
– Мерзавцы, – кивнул я.
– А что мне эти цацки? – подкрепившись таблеткой валидола, продолжал Горынин. – Ну, вынесут их впереди меня на подушечках. Одной подушечкой больше, одной меньше – какая разница! Остаются только дети и книги. С Анкой – сам видишь. А книги? Прочитает «Прогрессивку» лет через пятьдесят какой-нибудь ихний Белинский и закричит: «А где остальное?» А нету остального! Остальное здесь! – Он хряснул рукой по столу. – Все мои «Бейкеры» здесь… В этом «саркофаге» проклятом! Они думают, это для них «саркофаг»! Это для моего таланта – могила!
– Ну и пошлите все к чертовой матери! – посоветовал я.
– И пошлю. Вот «гертруду» к шестидесяти получу – и пошлю! Ладно, давай заявление. О чем, говоришь, роман-то у твоего дружка?
– О жизни…
– О жизни – это хорошо! И название неплохое – с подзадоринкой! Не модернист, часом?
– Нет, он с Урала.
– С Урала иной раз такие модернисты выскакивают, что нашим московским сто очков вперед дадут. Ладно, беру! – Он сунул папку в стол и, снова взяв ручку-ракету, стал внимательно читать заявление.
Как раз в тот момент, когда он налагал резолюцию «Выдать» и выводил свою подпись, такую витиеватую, что подделать ее мог только изощренный каллиграф, и то после многодневной тренировки, дверь приоткрылась и в кабинет вошла Анка. На ней были безумно модные в ту пору джинсы-стрейч, бескомпромиссно обтягивавшие ее длинные ноги, замшевая курточка с бахромой и полупрозрачная блузка, под которой самостоятельно жила, не соблюдаемая бюстгальтером, грудь. Волосы она теперь, оказывается, собирала в пучок, скрепленный какой-то оплеткой из разноцветных кожаных ремешков.
– Привет! – сказала она, абсолютно не удивившись встрече со мной.
Анка подпорхнула к столу и, наклонившись, поцеловала Николая Николаевича в макушку, при этом как-то совсем по-кордебалетному откинув ножку. Это уже – персонально для меня. Лицо Горынина из строго-сосредоточенного тут же сделалось нежно-беспомощным. Потом опять – строго-сосредоточенным. Потом опять – нежно-беспомощным. Наконец – нежно-строго-сосредоточенно-беспомощным.
– Чего явилась-то? – спросил он.
– Та-ак, по пути. Чурменяев пообедать пригласил.
– Ох, Анна! Опять народ языки чесать будет… Там, – он показал пальцем вверх, – уже знают.
– Ну и пусть знают. Я, может, замуж за него пойду! – сказала она и поглядела в мою сторону.
– Ага… Ты замуж пойдешь, а он за границу сбежит!
– А я с ним!
– Вот и ехала бы с Журавленко!
– Журавленко – извращенец: его только Генри Миллер возбуждает.
– Ты что несешь! Хорошо, здесь все свои…
В это время снова раздался звонок – обыкновенного телефона.
– Алло… Привет от старых штиблет… – развязно отозвался Горынин. – Только что разговаривал с твоим шефом. Совсем у них там из-за этого «Бейкера» крыша съехала… Какая уж тут контрпропаганда, если Чурменяев вам позвонил и вы перед ним расстилаетесь. Значит, Горынин – зверь, а в ЦК добрые дяди с маковыми плюшками! (Николай Николаевич снова что-то черкнул на календаре.) Тогда нечего с этой диссидентурой бороться, берите их к себе на работу – и дело с концом! Что?.. Да объяснял – не понимает… Ну, я же машины, как курица яйца, не несу, придется у хорошего человека оттяпать. А он тоже к вам побежит. Вникаешь?..
Судя по интонации и расслабленным мышцам лица, теперь он говорил с ровней, скорее всего с Журавленко. Анка подошла ко мне, положила на мою грудь руку, наманикюренными ноготками осторожно залезла за край рубашки и пощекотала кожу – меня тряхануло, как током.
– Это ты звонил?
– Да.
– Зачем?
– Не знаю…
– Не знаешь? – Она наморщила лоб и очень внимательно посмотрела мне в глаза.
У нее была странная манера смотреть, нет, вглядываться в глаза, точно она хотела прочесть на роговице какую-то сделанную малюсенькими буквами надпись – такие бывают на мелких иностранных монетках.
– Я больше не буду, – пообещал я.
– Не надо… И верни мне, пожалуйста, часы!
– Верну… Потом. У меня сейчас их с собой нет.
– Хорошо – потом… Но обязательно.
– Они тебе очень нужны?
– Очень.