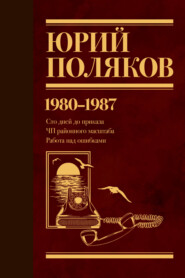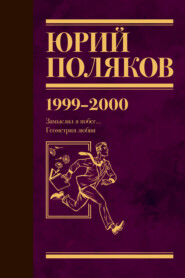По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Совдетство. Пионерская ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Многое я знал из рассказов и обмолвок взрослых, например, про огромную бомбу, упавшую на Пятницкой улице, уничтожившую несколько домов и выбившую стекла в округе до самого Балчуга. Осколки потом неделю выметали. А еще часто вспоминали, как рассеянная Лида обронила карточки на хлеб. Хорошо, соседка нашла на лестничной площадке и принесла плачущей Марье Гурьевне. Впрочем, у маман была своя версия, она все валила на старшую сестру, мол, Валька затеяла игру в салки по пути в раздаточный пункт. Я снова услышал рассказ про то, как отца призвали на войну, и он, отпущенный проститься с родными перед отправкой, примчался с Маросейки пешком через Москворецкий мост на Пятницкую, чтобы похвастаться перед Лидой новеньким обмундированием: они еще подростками познакомились на катке возле «Ударника». А через два дня вышел приказ Верховного, отменившего призыв 1927 года, чтобы мальчишки немного подросли и поучились. Отобрав форму, ребят вернули домой, и все над отцом подшучивали, мол, без него теперь Гитлера поймают, а сестры Бурминовы, картинно надув губы, уверяли, что в штатской курточке Мишка им совсем не нравится. Вот какими язвами были. Отец страшно переживал, даже порывался сбежать на фронт…
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Башашкин же мурлычет эту песню по-своему: «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?»
Но из разговора с Марфушей я узнал кое-что новенькое. Оказывается, до Жоржика бабушка Маня жила вместе с дядей Ваней, Иваном Ивановичем, мужем своей собственной сестры Груни, Аграфены Гурьевны. Ее первый супруг, как и мой родной дед Илья Васильевич, погиб на фронте, точнее, в звании сержанта вернулся из госпиталя домой и вскоре умер от ран. Аграфена осталась одна с маленькой дочерью – тоже Валей и сыном Николаем, который в детстве попал под трамвай и потерял обе ноги, но не отчаялся и даже катался на коньках, да так здорово, что никто не догадывался о детских протезах. Во время войны жили бедно, голодно, даже картофельные очистки ели за милую душу, поэтому безногого Колю пришлось сдать в детский дом – там было трехразовое питание.
И вот как-то бабушка Груня, отправившись на барахолку, чтобы обменять вещи на продукты, познакомилась там с толстым офицером-интендантом, и тот, прицениваясь к башмакам и диагоналевым брюкам умершего сержанта (как штаны могут быть диагоналевыми – я не понимаю), с первого взгляда в нее влюбился. Дядя Юра, участвовавший в разговоре, подливая женщинам в рюмки красненькое, заметил, мол, ничего удивительного тут нет: Аграфена в молодости была чудо как хороша, а грудью взвод фрицев могла придавить.
Толстый интендант вызвался проводить вдову до дома, чтобы какие-нибудь хулиганы, а их тогда развелась в Москве прорва, не отняли у нее выменянные харчи. Потом офицер по протоптанной дорожке зачастил к ним, и всегда с гостинцами. В общем, решили они жить вместе, одной семьей, а еды с тех пор стало вдоволь, даже Лиде и тете Вале, вернувшимся с бабушкой из эвакуации, по-родственному перепадало. Дядю Колю забрали из детдома, интендант подобрал ему на складе очень удобные, легкие английские протезы вместо тяжелых кустарных деревяшек. Появились излишки, и тетя Груня, любившая поторговаться, приноровилась носить продукты на барахолку, чтобы одежду выменивать для детей, которые на хорошем питании быстро росли. О себе тоже не забывала. Однажды за банку топленого масла она сторговала старинную брошь с зелеными камушками и всегда потом прицепляла ее на грудь, если шла в гости. Когда я с младенческим любопытством тянул ручонки к этой брошке, мне строго говорили:
– Нельзя! Музейная вещь!
И вот как-то раз на Тишинском рынке к Аграфене Гурьевне прибился молодой солдатик Ваня, демобилизованный по ранению. Он сбывал трофейные иголки для швейных машинок – страшный дефицит по тем временам. Тетя Груня стала прицениваться, слово за слово, посмеялись, переглянулись, а боец по простоте возьми и напросись в гости, но не на дармовщинку, а со своей выпивкой. Интендант, как на грех, отбыл в командировку в Омск. Засиделись за разговорами допоздна, хватились, а по ночной Москве от Беговой в Сокольники пешком идти долго, да и опасно: разденут или прибьют. В общем, постелили Ване на сундуке. По совести сказать, он тоже Аграфене понравился: веселый, цыганистый и на гармошке, как покойный супружник, играть мастак, частушку такую иной раз завернет, что женщины краснеют и ладошками закрываются.
Эх, Семеновна,
С ума спятила:
Мужа не было —
Деток пятеро…
Но Аграфена ему сразу призналась, мол, не одинокая она, сошлась из-за ребятишек с хорошим человеком – интендантом, поэтому ни о какой такой взаимности речи нет, зато есть у нее родная сестра Мария, тоже вдова, и, что интересно, похожи они так, что их порой путали. Одним словом, познакомила она красноармейца Ваню с молодой тогда еще бабушкой Маней, мол, не пропадать же такому добру! В ту пору пригодные мужчины, даже слегка покалеченные, наперечет были: одни погибли, другие в плену доходили, третьи довоевывали, и за каждым холостяком, даже белобилетником, очередь бабенок, точно за хлебом, выстраивалась.
Бабушка Маня как услышала предложение сестры, так руками замахала: «Совсем ты, Гранька, с глузду съехала!» Да и сам дядя Ваня поначалу осерчал на такое предложение, мол, что я вам – вымпел переходящий или кубок спартакиады? Потом присмотрелись друг к другу, помялись, поскромничали, сходили в кинотеатр «Ударник» на «Двух бойцов», погуляли под ручку по бульварам, а там и сошлись, как тропки в поле. Но бабушка Маня с самого начала честно предупредила, что Илья-то Васильевич не погиб окончательно на фронте, а лишь пропал без вести, если вдруг воротится, то без всяких разговоров: вот, Ваня, тебе – бог, а вот – порог. Тот посмотрел исподлобья, вздохнул и согласился, покладистый солдатик попался, воду можно на нем возить.
Наконец, грянула долгожданная Победа, засверкали салюты, эшелоны с возвращающимися бойцами народ забрасывал цветами, все ликовали, обнимались, поздравляли друг друга. Интенданта демобилизовали, и тут выяснилось, что у него в Омске имеется жена и трое детей, к которым он и убыл, обливаясь горючими слезами, а напоследок принес Аграфене Гурьевне на память о себе сережки с зелеными камушками – точь-в-точь к брошке, – и еще огромный тамбовский окорок со слезой, смотреть на который сбежался весь двор. Груня, по совести сказать, не очень-то и горевала, жить после войны стало полегче, дети подросли, окрепли, да и относилась она к сожителю скорее с благодарным уважением, нежели с сердечной милотой. Нравился-то ей совсем другой…
Проводив благодетеля на вокзал, она сразу поехала на Овчинниковскую набережную, где в старом деревянном домике жила сестра с гармонистом Ваней, устроившимся на военный завод и получавшим теперь приличную зарплату и паек. Пришла Аграфена не с пустыми руками, с добрым куском окорока и бутылкой водки под названием «сучок». Дело было днем, в доме никого: Иван Иванович трудился на предприятии, дети учились. Сестры выпили, закусили деликатесом, а потом старшая и говорит, мол, так и так, младшенькая, интендант мой в Омск к семье отъехамши, а Ванюша мне с самого начала на сердце лег. Так что, попользовалась пареньком, и ладно, не смылился, а теперь верни по принадлежности!
Бабушка Маня спорить не стала, так как сошлась с ним от трудной жизни и больше по уговорам старшей сестры, нежели по страстному влечению. В общем, когда дядя Ваня с получкой и гостинцем для Лиды и тети Вали вернулся с завода, у порога стоял его собранный чемоданчик, покрытый починенной шинелькой. Увидав сестер, сидящих рядком-ладком за накрытым столом, солдатик все понял, выпил поднесенную стопку и заплакал на радостях. Он-то все это время скучал и томился по Аграфене, и она, взяв его крепко за руку, увела к себе домой, на Беговую. А бабушка Маня, проводив гостей, поставила тесто и снова стала ждать своего пропавшего без вести Илью Васильевича, с которым, надо сознаться, жила до войны не слишком дружно. До драки дело доходило…
5
– Вот чудеса, прости господи! – воскликнула Марфуша и так от удивления брыкнула под столом ногой, что рюмки задребезжали, а я еле увернулся от каблука с набойкой.
– Это еще пустяки, обычная рокировка, – засмеялся Башашкин. – Вон народная певица Звонарева разом с двумя мужьями живет. Оба законные. Один на балалайке, второй на баяне. И ничего!
– Ладно тебе сплетни молоть, – одернула его тетя Валя и продолжила рассказ.
…Прошло года два-три, и однажды к Марье Гурьевне в дверь постучался сапожник. Тогда часто разные умельцы по домам ходили – чинили, строгали, лудили, паяли задешево. Величали нежданного гостя Егором Петровичем, был он тоже фронтовик, как позже прояснилось, орденоносец, после демобилизации трудился на фабрике, но денег на детей и больную жену не хватало, вот и прирабатывал починкой обуви, так как в детстве, еще до революции, побегал в подмастерьях у сапожника на Хитровке. Значит, постучался Егор Петрович к Бурминовым и посулил задешево починить даже совсем уж бросовую обувь. Предложение оказалось очень кстати, так как все, что было в доме, стопталось до невозможности. Он забрал обноски в мешок, а через несколько дней явился и выложил на лавку свое рукоделье – все просто ахнули: дырявые валенки были аккуратно подшиты кожаными лоскутами, стесанные вкривь каблуки нарощены и подбиты, а стертые до дыр подметки заменены новыми. Туфли и ботики начищены до блеска. И цену запросил смешную. Мастера, конечно, за такую работу позвали к ужину, угостили рюмочкой под квашеную капусту и моченые яблоки. Гость разомлел, рассказал, где и как воевал. Бабушка на всякий случай поинтересовалась (она у всех фронтовиков спрашивала), не встречал ли он на боевых путях-дорогах солдатика по имени Бурминов Илья Васильевич. Нет, не доводилось… Потом, повлажнев взглядом, стал боевой сапожник рассказывать про детишек-отличников – Риту и Костю.
– А жена что ж? – как бы вскользь спросила бабушка Маня.
– Анна Самсоновна у меня очень хорошая женщина, добрая, домовитая, работящая, ждала меня с фронта честно и беспорочно, да вот шибко хворает третий год – в холодном цеху простудилась…
– Ну дай ей бог здоровья! А вы, Егор Петрович, часом в керогазах не разбираетесь? Что-то наш уж больно шумный стал. Не рванул бы…
– Что мне, разлюбезная Марья Гурьевна, ваш керогаз, если я танковые движки вот этими самыми руками под обстрелом перебирал! Смотрю, и стол у вас расшатался, как пьяный…
– Пьяный? А сами-то вы как с этим делом? – осторожно спросила бабушка, намучившаяся в свое время с Ильей Васильевичем, буйным во хмелю.
– Бывает, – потупился сапожник. – С тоски…
Слово за слова, и влюбился он в Марию Гурьевну по уши. Марфуша, выслушав, согласилась: хоть Маруся и не такая броская, как старшая сестра, но была в ней тихая манкость, так у них в родном селе Гладкие Выселки выражались про скромных присух. Не зря же супруг-покойник спьяну-то ее жутко ревновал, чуть на стенку не лез. Повода не давала, а поди ж ты…
В общем, долго Егор Петрович к ним ходил, а когда все перечинил, перепаял, перестругал, понял, что присох. Мучился он, страдал, перед больной женой и детьми виноватился, даже с сердцем в больницу попал. Тут ему сама Анна Самсоновна сказала: мол, иди уж, коль чужая постель мягче, только детей не забывай! Бабушка Маня его поначалу от живой жены принимать не хотела, отмахивалась, стыдилась, что люди скажут, а потом сжалилась над ним и над собой, но строго предупредила, во-первых, водкой не увлекаться, а во-вторых, если пропавший без вести Илья Васильевич паче чаянья вернется домой, любовь любовью, но тогда никаких разговоров: вот тебе – бог, а вот – порог…
Илья Васильевич, конечно, не вернулся, а бабушка сжилась с новым мужем душа в душу и стала звать его Жоржиком. Выпивал он в меру, по вечерам после работы надевал длинный фартук, сшитый из старой клеенки, и садился на табурет в особом уголку, где были развешаны по стене и разложены на полках специальные инструменты: молоток с раздвоенным носиком, шила разных размеров, прямые и загнутые, кусачки, плоскогубцы, ножи с короткими скошенными, страшно острыми лезвиями. Мне их строго-настрого запрещали трогать, каждый раз рассказывая историю мальчика, который не послушался и остался без двух пальцев. Самое ужасное: без указательного, а ведь без него стрелять из винтовки никак нельзя, поэтому в армию его не взяли – и во дворе все смеялись над ним. Ведь это самый настоящий позор!
В круглых коробках из-под леденцов внасыпь лежали гвоздики разной величины, не только железные, но и деревянные. В лубяных туесках хранились лоскуты разноцветной кожи и мотки суровой нити. Жоржик садился, вынимал из мешка ботинок, сданный ему в ремонт, осматривал, качая головой и поражаясь степени износа, потом надевал его подошвой вверх на сапожную лапку… Ох, уж эта лапка! В детстве я ее страшно боялся, считая почему-то той самой костяной ногой Бабы-яги. На самом же деле это была деревяшка чуть толще лопатного черенка, а к ней крепилась под углом стальная продолговатая пластина, выдерживавшая хороший удар молотка при забивании гвоздочков в подошву.
Чтобы соседи не ругались, не жаловались домоуправу на ежевечерний стук у Бурминовых, Жоржик чинил им обувь бесплатно. Но рыбий клей на общей кухне ему все-таки варить не разрешали, он делал это в дальнем углу двора на костерке, передавая жестянку с вонючей вязкой тюрей через форточку, чтобы не насмердить в общем коридоре. Потом, когда деревянный дом снесли, а бабушке дали комнату в соседней, надстроенной восьмиэтажке, сапожных дел мастеру пришлось перейти на магазинный, почти не пахнувший клей, но крепость у него была совсем не та, что у заварного.
На круг Жоржик зарабатывал очень неплохо, Лида его даже Тимофеичу иной раз в пример ставила, отчего отец багровел и ворчал, что, мол, не для того техникум окончил, чтобы валенки подшивать. Егор Петрович и своих детей поднял, и Лиде помогал, когда она в Воронеже на пищевика училась. Сын и дочь Жоржика по праздникам приходили в гости на Овчинниковскую набережную, там в комнате у бабушки отмечали Ритин аттестат зрелости и офицерские погоны Кости, окончившего военное училище. Анна Самсоновна, с которой Жоржик так и не развелся, чтобы в лишних бумажках не запутаться, конечно, на пироги к сопернице никогда не заглядывала, но бабушка всегда ей передавала с Костей или Ритой то кусок кекса, то холодец из свиных ушек, то пол-литровую банку домашней трески под маринадом, которую Башашкин с восторгом называл «белорыбицей в собственном соку»!
Про войну Жоржик не рассказывал, хотя я его постоянно просил: в школе нам поручили разузнать и изложить на двух страничках подвиг отца или деда – для Музея боевой славы. Но он только отмахивался, мол, какие там подвиги? Жив – и слава Богу! Странно, конечно, ведь на войне награждают именно за героизм, а Жоржик имел два боевых ордена – Красного Знамени и Отечественной войны первой степени. Чтоб не протыкать единственный костюм толстыми булавками, он отсоединил награды от полосатых колодок, и бабушка два раза в год, на майские и февральские праздники, приметывала ордена за петельки черными нитками к пиджаку, а потом спарывала. 23 Февраля и 9 Мая все фронтовики округи надевали награды и шли слушать сердечные поздравления в красные уголки и клубы.
Сойдясь с бабушкой, Жоржик стал вывозить нас летом, как говорит Башашкин, «всем колхозом» на Волгу в Селищи. Сам он был родом из соседней деревни Шатрищи, которую выселили перед тем, как запустить Угличскую плотину. До Кимр мы добирались на теплоходе, шлюзуясь всю ночь, а утром пересаживались на катер и плыли еще час до того места, где в великую русскую реку впадает Калкуновка, а по берегу раскинулись Старые и Новые Селища. Катер шел с остановками, как автобус, приставал к понтонам и дебаркадерам, развозя заодно душистый свежий хлеб по сельпо. Так вот, недалеко от Белого Городка Жоржик всякий раз показывал мне на берегу большую смоленую лодку, наполовину вытащенную из воды и привязанную цепью к железному крюку, вбитому в песок.
– Нравится, Юрок?
– Ага!
– У меня до войны такая же была. Точь-в-точь. Видно, один мастер ладил. Я договорился, недорого отдают. У хозяина рука отнялась – веслиться не может.
– Надо брать, – кивал я. – Будем на другой берег плавать. Там, Витька сказал, клев чумовой!
– И я так думаю – надо. Да вот беда, Марья Гурьевна категорически против. Ворчит, баловство это: лодка нужна на месяц раз в году, а все остальное время будет гнить на берегу. Я уж и так, и эдак… Ни в какую! Отвечает: лучше тебе новый костюм справим. А зачем мне новый-то? Мне этот бы сносить.
Несколько лет дед Жоржик мечтал о лодке, а бабушка упиралась и вдруг нежданно-негаданно согласилась. Почему? Лиде она объяснила так: снился ей Илья Васильевич, озябший, в шинельке, и упрекал, мол, что ж ты, говорит, моему верному заместителю Егору Петровичу лодку зажимаешь? Он же тебе к Восьмому марта «Красную Москву» подарил? Подарил! Не поскупился. Целых пять целковых отдал! А ты? Не по-людски поступаешь. Вернусь – поколочу!
– Вот и скажи, Лидуш, откуда Илюша про духи узнал? Стало быть, они на том свете все про нас всё знают!
– Ой, мама, ну, что за глупости! Какой еще тот свет? Гагарин в космосе никакого Бога не видел, а рая – тем более. И мало ли что во сне причудится. Мне вот приснилось, что Мишка от меня к Быловой ушел…
– К кому? Здрасте, нужен он ей как собаке пятая нога.
– И я про то же! Просто мне неделю назад Лялька рассказала, что за ней один сослуживец ухлестывает, мочи нет…
– Это нехорошо. Алька у нее – мужик-то не злой, хоть и употребляющий.
– И ты, наверное, накануне папу вспоминала? Вот он и приснился тебе. А лодку купите! Жоржик весь измечтался. Он ведь и не пьет теперь почти…
– Да куда уж с таким сердцем!
В общем, бабушка все-таки согласилась, и Егор Петрович в субботу дал телеграмму в Белый Городок хозяевам лодки, мол, никому не продавайте, высылаю деньги. А потом помчался в сберкассу. Хотя они уже закрывались, короткий день, он успел предупредить сотрудницу, что в понедельник снимет крупную сумму – целую сотню! Вот почему в то памятное воскресенье Жоржик светился, как юбилейный железный рубль, а дядя Юра всю дорогу до Измайлова расспрашивал счастливца, как будет обмывать долгожданное приобретение и куда первым делом поплывет.
– На Нерль. Там лещи берут – с таз! – объявил Жоржик и от волнения достал из кармана янтарный мундштук, хотя в троллейбусе курить категорически воспрещается.
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Башашкин же мурлычет эту песню по-своему: «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?»
Но из разговора с Марфушей я узнал кое-что новенькое. Оказывается, до Жоржика бабушка Маня жила вместе с дядей Ваней, Иваном Ивановичем, мужем своей собственной сестры Груни, Аграфены Гурьевны. Ее первый супруг, как и мой родной дед Илья Васильевич, погиб на фронте, точнее, в звании сержанта вернулся из госпиталя домой и вскоре умер от ран. Аграфена осталась одна с маленькой дочерью – тоже Валей и сыном Николаем, который в детстве попал под трамвай и потерял обе ноги, но не отчаялся и даже катался на коньках, да так здорово, что никто не догадывался о детских протезах. Во время войны жили бедно, голодно, даже картофельные очистки ели за милую душу, поэтому безногого Колю пришлось сдать в детский дом – там было трехразовое питание.
И вот как-то бабушка Груня, отправившись на барахолку, чтобы обменять вещи на продукты, познакомилась там с толстым офицером-интендантом, и тот, прицениваясь к башмакам и диагоналевым брюкам умершего сержанта (как штаны могут быть диагоналевыми – я не понимаю), с первого взгляда в нее влюбился. Дядя Юра, участвовавший в разговоре, подливая женщинам в рюмки красненькое, заметил, мол, ничего удивительного тут нет: Аграфена в молодости была чудо как хороша, а грудью взвод фрицев могла придавить.
Толстый интендант вызвался проводить вдову до дома, чтобы какие-нибудь хулиганы, а их тогда развелась в Москве прорва, не отняли у нее выменянные харчи. Потом офицер по протоптанной дорожке зачастил к ним, и всегда с гостинцами. В общем, решили они жить вместе, одной семьей, а еды с тех пор стало вдоволь, даже Лиде и тете Вале, вернувшимся с бабушкой из эвакуации, по-родственному перепадало. Дядю Колю забрали из детдома, интендант подобрал ему на складе очень удобные, легкие английские протезы вместо тяжелых кустарных деревяшек. Появились излишки, и тетя Груня, любившая поторговаться, приноровилась носить продукты на барахолку, чтобы одежду выменивать для детей, которые на хорошем питании быстро росли. О себе тоже не забывала. Однажды за банку топленого масла она сторговала старинную брошь с зелеными камушками и всегда потом прицепляла ее на грудь, если шла в гости. Когда я с младенческим любопытством тянул ручонки к этой брошке, мне строго говорили:
– Нельзя! Музейная вещь!
И вот как-то раз на Тишинском рынке к Аграфене Гурьевне прибился молодой солдатик Ваня, демобилизованный по ранению. Он сбывал трофейные иголки для швейных машинок – страшный дефицит по тем временам. Тетя Груня стала прицениваться, слово за слово, посмеялись, переглянулись, а боец по простоте возьми и напросись в гости, но не на дармовщинку, а со своей выпивкой. Интендант, как на грех, отбыл в командировку в Омск. Засиделись за разговорами допоздна, хватились, а по ночной Москве от Беговой в Сокольники пешком идти долго, да и опасно: разденут или прибьют. В общем, постелили Ване на сундуке. По совести сказать, он тоже Аграфене понравился: веселый, цыганистый и на гармошке, как покойный супружник, играть мастак, частушку такую иной раз завернет, что женщины краснеют и ладошками закрываются.
Эх, Семеновна,
С ума спятила:
Мужа не было —
Деток пятеро…
Но Аграфена ему сразу призналась, мол, не одинокая она, сошлась из-за ребятишек с хорошим человеком – интендантом, поэтому ни о какой такой взаимности речи нет, зато есть у нее родная сестра Мария, тоже вдова, и, что интересно, похожи они так, что их порой путали. Одним словом, познакомила она красноармейца Ваню с молодой тогда еще бабушкой Маней, мол, не пропадать же такому добру! В ту пору пригодные мужчины, даже слегка покалеченные, наперечет были: одни погибли, другие в плену доходили, третьи довоевывали, и за каждым холостяком, даже белобилетником, очередь бабенок, точно за хлебом, выстраивалась.
Бабушка Маня как услышала предложение сестры, так руками замахала: «Совсем ты, Гранька, с глузду съехала!» Да и сам дядя Ваня поначалу осерчал на такое предложение, мол, что я вам – вымпел переходящий или кубок спартакиады? Потом присмотрелись друг к другу, помялись, поскромничали, сходили в кинотеатр «Ударник» на «Двух бойцов», погуляли под ручку по бульварам, а там и сошлись, как тропки в поле. Но бабушка Маня с самого начала честно предупредила, что Илья-то Васильевич не погиб окончательно на фронте, а лишь пропал без вести, если вдруг воротится, то без всяких разговоров: вот, Ваня, тебе – бог, а вот – порог. Тот посмотрел исподлобья, вздохнул и согласился, покладистый солдатик попался, воду можно на нем возить.
Наконец, грянула долгожданная Победа, засверкали салюты, эшелоны с возвращающимися бойцами народ забрасывал цветами, все ликовали, обнимались, поздравляли друг друга. Интенданта демобилизовали, и тут выяснилось, что у него в Омске имеется жена и трое детей, к которым он и убыл, обливаясь горючими слезами, а напоследок принес Аграфене Гурьевне на память о себе сережки с зелеными камушками – точь-в-точь к брошке, – и еще огромный тамбовский окорок со слезой, смотреть на который сбежался весь двор. Груня, по совести сказать, не очень-то и горевала, жить после войны стало полегче, дети подросли, окрепли, да и относилась она к сожителю скорее с благодарным уважением, нежели с сердечной милотой. Нравился-то ей совсем другой…
Проводив благодетеля на вокзал, она сразу поехала на Овчинниковскую набережную, где в старом деревянном домике жила сестра с гармонистом Ваней, устроившимся на военный завод и получавшим теперь приличную зарплату и паек. Пришла Аграфена не с пустыми руками, с добрым куском окорока и бутылкой водки под названием «сучок». Дело было днем, в доме никого: Иван Иванович трудился на предприятии, дети учились. Сестры выпили, закусили деликатесом, а потом старшая и говорит, мол, так и так, младшенькая, интендант мой в Омск к семье отъехамши, а Ванюша мне с самого начала на сердце лег. Так что, попользовалась пареньком, и ладно, не смылился, а теперь верни по принадлежности!
Бабушка Маня спорить не стала, так как сошлась с ним от трудной жизни и больше по уговорам старшей сестры, нежели по страстному влечению. В общем, когда дядя Ваня с получкой и гостинцем для Лиды и тети Вали вернулся с завода, у порога стоял его собранный чемоданчик, покрытый починенной шинелькой. Увидав сестер, сидящих рядком-ладком за накрытым столом, солдатик все понял, выпил поднесенную стопку и заплакал на радостях. Он-то все это время скучал и томился по Аграфене, и она, взяв его крепко за руку, увела к себе домой, на Беговую. А бабушка Маня, проводив гостей, поставила тесто и снова стала ждать своего пропавшего без вести Илью Васильевича, с которым, надо сознаться, жила до войны не слишком дружно. До драки дело доходило…
5
– Вот чудеса, прости господи! – воскликнула Марфуша и так от удивления брыкнула под столом ногой, что рюмки задребезжали, а я еле увернулся от каблука с набойкой.
– Это еще пустяки, обычная рокировка, – засмеялся Башашкин. – Вон народная певица Звонарева разом с двумя мужьями живет. Оба законные. Один на балалайке, второй на баяне. И ничего!
– Ладно тебе сплетни молоть, – одернула его тетя Валя и продолжила рассказ.
…Прошло года два-три, и однажды к Марье Гурьевне в дверь постучался сапожник. Тогда часто разные умельцы по домам ходили – чинили, строгали, лудили, паяли задешево. Величали нежданного гостя Егором Петровичем, был он тоже фронтовик, как позже прояснилось, орденоносец, после демобилизации трудился на фабрике, но денег на детей и больную жену не хватало, вот и прирабатывал починкой обуви, так как в детстве, еще до революции, побегал в подмастерьях у сапожника на Хитровке. Значит, постучался Егор Петрович к Бурминовым и посулил задешево починить даже совсем уж бросовую обувь. Предложение оказалось очень кстати, так как все, что было в доме, стопталось до невозможности. Он забрал обноски в мешок, а через несколько дней явился и выложил на лавку свое рукоделье – все просто ахнули: дырявые валенки были аккуратно подшиты кожаными лоскутами, стесанные вкривь каблуки нарощены и подбиты, а стертые до дыр подметки заменены новыми. Туфли и ботики начищены до блеска. И цену запросил смешную. Мастера, конечно, за такую работу позвали к ужину, угостили рюмочкой под квашеную капусту и моченые яблоки. Гость разомлел, рассказал, где и как воевал. Бабушка на всякий случай поинтересовалась (она у всех фронтовиков спрашивала), не встречал ли он на боевых путях-дорогах солдатика по имени Бурминов Илья Васильевич. Нет, не доводилось… Потом, повлажнев взглядом, стал боевой сапожник рассказывать про детишек-отличников – Риту и Костю.
– А жена что ж? – как бы вскользь спросила бабушка Маня.
– Анна Самсоновна у меня очень хорошая женщина, добрая, домовитая, работящая, ждала меня с фронта честно и беспорочно, да вот шибко хворает третий год – в холодном цеху простудилась…
– Ну дай ей бог здоровья! А вы, Егор Петрович, часом в керогазах не разбираетесь? Что-то наш уж больно шумный стал. Не рванул бы…
– Что мне, разлюбезная Марья Гурьевна, ваш керогаз, если я танковые движки вот этими самыми руками под обстрелом перебирал! Смотрю, и стол у вас расшатался, как пьяный…
– Пьяный? А сами-то вы как с этим делом? – осторожно спросила бабушка, намучившаяся в свое время с Ильей Васильевичем, буйным во хмелю.
– Бывает, – потупился сапожник. – С тоски…
Слово за слова, и влюбился он в Марию Гурьевну по уши. Марфуша, выслушав, согласилась: хоть Маруся и не такая броская, как старшая сестра, но была в ней тихая манкость, так у них в родном селе Гладкие Выселки выражались про скромных присух. Не зря же супруг-покойник спьяну-то ее жутко ревновал, чуть на стенку не лез. Повода не давала, а поди ж ты…
В общем, долго Егор Петрович к ним ходил, а когда все перечинил, перепаял, перестругал, понял, что присох. Мучился он, страдал, перед больной женой и детьми виноватился, даже с сердцем в больницу попал. Тут ему сама Анна Самсоновна сказала: мол, иди уж, коль чужая постель мягче, только детей не забывай! Бабушка Маня его поначалу от живой жены принимать не хотела, отмахивалась, стыдилась, что люди скажут, а потом сжалилась над ним и над собой, но строго предупредила, во-первых, водкой не увлекаться, а во-вторых, если пропавший без вести Илья Васильевич паче чаянья вернется домой, любовь любовью, но тогда никаких разговоров: вот тебе – бог, а вот – порог…
Илья Васильевич, конечно, не вернулся, а бабушка сжилась с новым мужем душа в душу и стала звать его Жоржиком. Выпивал он в меру, по вечерам после работы надевал длинный фартук, сшитый из старой клеенки, и садился на табурет в особом уголку, где были развешаны по стене и разложены на полках специальные инструменты: молоток с раздвоенным носиком, шила разных размеров, прямые и загнутые, кусачки, плоскогубцы, ножи с короткими скошенными, страшно острыми лезвиями. Мне их строго-настрого запрещали трогать, каждый раз рассказывая историю мальчика, который не послушался и остался без двух пальцев. Самое ужасное: без указательного, а ведь без него стрелять из винтовки никак нельзя, поэтому в армию его не взяли – и во дворе все смеялись над ним. Ведь это самый настоящий позор!
В круглых коробках из-под леденцов внасыпь лежали гвоздики разной величины, не только железные, но и деревянные. В лубяных туесках хранились лоскуты разноцветной кожи и мотки суровой нити. Жоржик садился, вынимал из мешка ботинок, сданный ему в ремонт, осматривал, качая головой и поражаясь степени износа, потом надевал его подошвой вверх на сапожную лапку… Ох, уж эта лапка! В детстве я ее страшно боялся, считая почему-то той самой костяной ногой Бабы-яги. На самом же деле это была деревяшка чуть толще лопатного черенка, а к ней крепилась под углом стальная продолговатая пластина, выдерживавшая хороший удар молотка при забивании гвоздочков в подошву.
Чтобы соседи не ругались, не жаловались домоуправу на ежевечерний стук у Бурминовых, Жоржик чинил им обувь бесплатно. Но рыбий клей на общей кухне ему все-таки варить не разрешали, он делал это в дальнем углу двора на костерке, передавая жестянку с вонючей вязкой тюрей через форточку, чтобы не насмердить в общем коридоре. Потом, когда деревянный дом снесли, а бабушке дали комнату в соседней, надстроенной восьмиэтажке, сапожных дел мастеру пришлось перейти на магазинный, почти не пахнувший клей, но крепость у него была совсем не та, что у заварного.
На круг Жоржик зарабатывал очень неплохо, Лида его даже Тимофеичу иной раз в пример ставила, отчего отец багровел и ворчал, что, мол, не для того техникум окончил, чтобы валенки подшивать. Егор Петрович и своих детей поднял, и Лиде помогал, когда она в Воронеже на пищевика училась. Сын и дочь Жоржика по праздникам приходили в гости на Овчинниковскую набережную, там в комнате у бабушки отмечали Ритин аттестат зрелости и офицерские погоны Кости, окончившего военное училище. Анна Самсоновна, с которой Жоржик так и не развелся, чтобы в лишних бумажках не запутаться, конечно, на пироги к сопернице никогда не заглядывала, но бабушка всегда ей передавала с Костей или Ритой то кусок кекса, то холодец из свиных ушек, то пол-литровую банку домашней трески под маринадом, которую Башашкин с восторгом называл «белорыбицей в собственном соку»!
Про войну Жоржик не рассказывал, хотя я его постоянно просил: в школе нам поручили разузнать и изложить на двух страничках подвиг отца или деда – для Музея боевой славы. Но он только отмахивался, мол, какие там подвиги? Жив – и слава Богу! Странно, конечно, ведь на войне награждают именно за героизм, а Жоржик имел два боевых ордена – Красного Знамени и Отечественной войны первой степени. Чтоб не протыкать единственный костюм толстыми булавками, он отсоединил награды от полосатых колодок, и бабушка два раза в год, на майские и февральские праздники, приметывала ордена за петельки черными нитками к пиджаку, а потом спарывала. 23 Февраля и 9 Мая все фронтовики округи надевали награды и шли слушать сердечные поздравления в красные уголки и клубы.
Сойдясь с бабушкой, Жоржик стал вывозить нас летом, как говорит Башашкин, «всем колхозом» на Волгу в Селищи. Сам он был родом из соседней деревни Шатрищи, которую выселили перед тем, как запустить Угличскую плотину. До Кимр мы добирались на теплоходе, шлюзуясь всю ночь, а утром пересаживались на катер и плыли еще час до того места, где в великую русскую реку впадает Калкуновка, а по берегу раскинулись Старые и Новые Селища. Катер шел с остановками, как автобус, приставал к понтонам и дебаркадерам, развозя заодно душистый свежий хлеб по сельпо. Так вот, недалеко от Белого Городка Жоржик всякий раз показывал мне на берегу большую смоленую лодку, наполовину вытащенную из воды и привязанную цепью к железному крюку, вбитому в песок.
– Нравится, Юрок?
– Ага!
– У меня до войны такая же была. Точь-в-точь. Видно, один мастер ладил. Я договорился, недорого отдают. У хозяина рука отнялась – веслиться не может.
– Надо брать, – кивал я. – Будем на другой берег плавать. Там, Витька сказал, клев чумовой!
– И я так думаю – надо. Да вот беда, Марья Гурьевна категорически против. Ворчит, баловство это: лодка нужна на месяц раз в году, а все остальное время будет гнить на берегу. Я уж и так, и эдак… Ни в какую! Отвечает: лучше тебе новый костюм справим. А зачем мне новый-то? Мне этот бы сносить.
Несколько лет дед Жоржик мечтал о лодке, а бабушка упиралась и вдруг нежданно-негаданно согласилась. Почему? Лиде она объяснила так: снился ей Илья Васильевич, озябший, в шинельке, и упрекал, мол, что ж ты, говорит, моему верному заместителю Егору Петровичу лодку зажимаешь? Он же тебе к Восьмому марта «Красную Москву» подарил? Подарил! Не поскупился. Целых пять целковых отдал! А ты? Не по-людски поступаешь. Вернусь – поколочу!
– Вот и скажи, Лидуш, откуда Илюша про духи узнал? Стало быть, они на том свете все про нас всё знают!
– Ой, мама, ну, что за глупости! Какой еще тот свет? Гагарин в космосе никакого Бога не видел, а рая – тем более. И мало ли что во сне причудится. Мне вот приснилось, что Мишка от меня к Быловой ушел…
– К кому? Здрасте, нужен он ей как собаке пятая нога.
– И я про то же! Просто мне неделю назад Лялька рассказала, что за ней один сослуживец ухлестывает, мочи нет…
– Это нехорошо. Алька у нее – мужик-то не злой, хоть и употребляющий.
– И ты, наверное, накануне папу вспоминала? Вот он и приснился тебе. А лодку купите! Жоржик весь измечтался. Он ведь и не пьет теперь почти…
– Да куда уж с таким сердцем!
В общем, бабушка все-таки согласилась, и Егор Петрович в субботу дал телеграмму в Белый Городок хозяевам лодки, мол, никому не продавайте, высылаю деньги. А потом помчался в сберкассу. Хотя они уже закрывались, короткий день, он успел предупредить сотрудницу, что в понедельник снимет крупную сумму – целую сотню! Вот почему в то памятное воскресенье Жоржик светился, как юбилейный железный рубль, а дядя Юра всю дорогу до Измайлова расспрашивал счастливца, как будет обмывать долгожданное приобретение и куда первым делом поплывет.
– На Нерль. Там лещи берут – с таз! – объявил Жоржик и от волнения достал из кармана янтарный мундштук, хотя в троллейбусе курить категорически воспрещается.