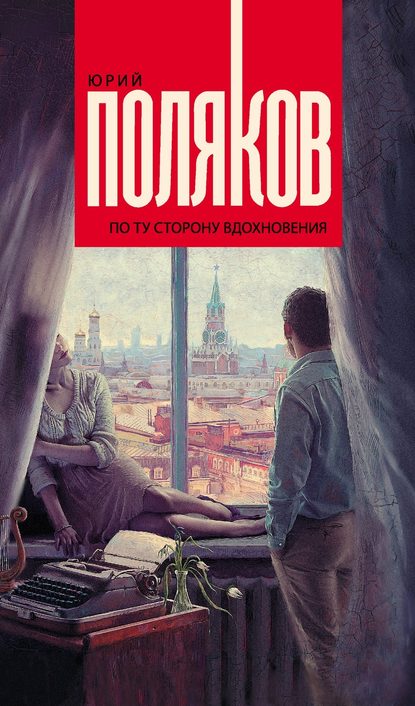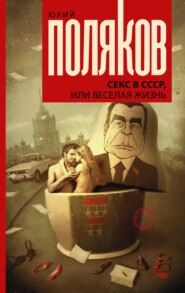По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
По ту сторону вдохновения (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
6. Не грусти, салага!
В Москву я привез из армии почти сто новых стихотворений. Таких, например:
Пора тревог полночных —
Армейские года.
И как-то жаль «так точно»,
Смененное на «да».
Мои сочинения вызвали интерес у литературных изданий, и меня стали охотно печатать. Поэтов, сочиняющих искренние стихи об армии, в ту пору было уже мало, не больше, чем нынче патриотов на «Эхе Москвы». Кроме того, я вернулся из армии с намерением писать прозу. Мотив – страстное желание рассказать «правду» о том, что я увидел в армии. Повесть «Сто дней до приказа» была начата в 1979 году, а закончена в 1980-м. Свою первую прозу я писал карандашом, положив лист на жирно расчерченную картонку. Линии просвечивали сквозь бумагу, и строчки выходили ровными, а не загибались вниз или вверх – в зависимости от настроения. Первое время приходилось часто пользоваться ластиком. Сначала вещь называлась «Не грусти, салага! Армейская повесть». На пересыльном пункте во Франкфурте-на-Одере по радио без конца крутили жалобную, в духе еще не родившегося «Ласкового мая» песенку:
Не грусти, салага!
Срок отслужишь свой,
Так же, как и я,
Поедешь ты домой.
В дальние края, в дальние края
Едут, едут парни-дембеля…
Начиналась будущая повесть вполне документально: «…У нашего замполита – литературная фамилия. Булгаков…» И это была чистая правда. Следы неумелой «всамделишности» сохранились и в окончательном варианте. Реальный майор Гудов превратился в Дутова, а подлинный взводный лейтенант Оленич – в очкарика Косулича. Прапорщик Высовень в полку тоже имелся, но рука моя не поднялась перекорежить такую замечательную фамилию! Позже главпуровские блюстители обвиняли меня, мол, я, чтобы унизить советских офицеров, надавал им смешных фамилий. Вот уж чепуха!
Но по мере работы над повестью бес художественности все более овладевал мной. Прототипы, сгущаясь, становились образами, воспоминания о собственных армейских мытарствах обрастали чужими судьбами и подсмотренными подробностями, превращались в историю старослужащего Кормашова. Я не оговорился: главному герою я дал имя студента, ходившего в литобъединение, которое я вел в пединституте, и очень гордился, что в этой фамилии брезжит купринский Ромашов. По ходу работы выяснилось, что в «Юности» уже выходила повесть о моряках «Не грусти, салага!», и я недолго думая назвал свое почти законченное детище «Сто дней до приказа», со значением присовокупив – «Солдатская повесть». Мол, раньше люди, читая «Красную звезду», смотрели на армию глазами политработников, а вот я даю вам честную картину, увиденную со второго яруса казарменной койки!
Надо ли объяснять, что моя солдатская повесть не укладывалась в тогдашний канон «воениздатовской» прозы. Возможно, если бы я вырос в среде московской научно-чиновной интеллигенции с ее пижонским фрондерством и диссидентскими симпатиями, я бы отдал эту явно «чуждую» вещь на Запад. Тогда моя жизнь сложилась бы совсем по-другому. Но я, повторюсь, был настоящим советским человеком, верящим в конечную справедливость системы, а потому простодушно принялся носить повесть по нашим журналам – «Юность», «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир», «Наш современник»… Сотрудники этих изданий, люди чрезвычайно инакомыслящие, смотрели на меня как на придурка, нарушившего всеобщее благочиние неприличной выходкой. То, о чем они шептались на кухнях, я не только написал, но еще вдобавок вместо того, чтобы ограничиться тихими «самиздатовскими» радостями, приволок в советский журнал. Ну не идиот! Помню, заведующая отделом журнала «Знамя» Наталья Иванова (ныне она критик истошно либерального тренда) затащила меня в редакционный закоулок и негодовала свистящим шепотом, в том смысле, что, принеся эту провокационную антисоветчину, я хотел бросить тень на главного редактора Героя Социалистического Труда Вадима Кожевникова, автора бессмертного романа «Щит и меч». В другом издании заведующая прозой дама с кинжальным маникюром и декольте, доходящим до венерина бугорка, утверждала, что прекрасно знает жизнь современной армии: никакой дедовщины там нет в помине.
Понятно, рукопись довольно быстро была переправлена куда следует, и оттуда сразу наябедничали в Союз писателей, членом которого я уже стал, выпустив две книги стихов. Оттуда, откуда следует, позвонили секретарю по прозе Ивану Фотиевичу Стаднюку, автору знаменитого «Максима Перепелицы».
– Иван Фотиевич, – спросили оттуда, – что это у тебя там за диссидент такой завелся, армию очерняет?
– Какой еще диссидент?
– Поляков…
– Юра?
– Юрий Михайлович, русский, 1954 года рождения, член КПСС, как ни странно…
– Ну какой он диссидент! – засмеялся Фотиевич. – Он секретарь нашей комсомольской организации. Хороший парень. О фронтовой поэзии пишет…
Действительно, в те годы я занимался исследованиями фронтовой поэзии, особенно – творчества Георгия Суворова, погибшего в 1944-м при прорыве ленинградской блокады около города Нарвы. В 1981-м я защитил кандидатскую диссертацию на эту тему, а в 1983-м выпустил книжку «Между двумя морями» – о стихах и судьбе Суворова. В отличие от иных моих коллег по литературному цеху я совершенно не стыжусь того, что сочинял при советской власти. Фронтовую поэзию я горячо любил и писал о ней от всего сердца. Полагаю, многие советские литераторы, спешно перепрофилировавшиеся в антисоветских, не любят прежние времена прежде всего за свою былую неискренность.
Недавно я подсчитал: у меня дюжина стихотворений о 1941 годе. Впрочем, что тут удивляться: тема Великой войны была для моих сверстников-поэтов, если хотите, «поколениеобразующей». Мы выросли, оформились под могучим влиянием «стихотворцев обоймы военной», а шире – под впечатлением громадного народного подвига, еще живого и близкого, как дыхание недавней очистительной грозы. Не зря же лучший поэт моего поколения Николай Дмитриев писал:
В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, и все же
В какой-то мере все мы тоже
Вернувшиеся с той войны…
Он за книгу, где были напечатаны эти строки, получил премию Ленинского комсомола, а я за цикл стихов о войне «Непережитое» в 1980 году – премию имени Владимира Маяковского. Но уже тогда нас укоряли, мол, зачем вы касаетесь того, чего не видели? Зачем пишете о том, чего не пережили? Оставьте это фронтовикам! Один из сверстников даже в рифму попрекнул:
Катись проторенной дорогой,
О чем угодно воду лей,
Но меру знай – войну не трогай,
Отца родного пожалей!
Пришлось выступать в 1984-м со статьей «Право на боль», где я написал: «Есть боль участника, но есть боль и соотечественника. Человеку, чье Отечество перенесло то, что выпало на долю нашей страны, нет нужды заимствовать чужую боль, потому что она принадлежит всем и передается от поколения к поколению, равно как и гордость за одержанную Победу… Мирные поколения должны знать о войне все, кроме самой войны. Откройте сборник любого поэта, рожденного, как принято говорить, „под чистым небом“, и вы непременно найдете стихи о войне… Откуда она, эта „фронтовая“ лирика 70-80-х годов, написанная людьми, не знающими, что такое передовая (линия, а не статья), не ходившими в атаку (разве только учебную)?…Дело, видимо, в том, что исторический и нравственный опыт Великой войны вошел в генетическую память народа, стал свойством, чуть ли не передающимся по наследству в числе других родовых черт…»
Вот на эту-то генетическую память и повели охоту уже тогда, в 1980-е. Сначала осторожно: «Ну что с того, что я там был? Я все забыл, я все избыл…» – писал Юрий Левитанский о своем фронтовом опыте. Он-то имел в виду другое, пытался объяснить, как сложно трансформируется в человеческой памяти прошлое. Но кто-то понимал эти слова буквально. И Левитанский дожил до того времени, когда участие в войне перестало быть доблестью. В начале 1990-х я стал свидетелем омерзительного происшествия. В дубовом зале ЦДЛ до неприличия шумно гуляла компания новых русских «кавказского разлива». Обедавший рядом Левитанский сделал им замечание, мол, здесь так орать не принято. «А ты-то кто такой?» – «Я поэт!» – «Вот и сиди, поэт, пока цел!» – «Как вы смеете со мной так разговаривать. Я фронтовик!» – «Фронтовики в могиле, а ты, тыловая крыса, заткнись!» – и плеснули ему в лицо водкой. Левитанскому стало плохо, его увели под руки и отпаивали валерьянкой. Милицию никто вызывать не стал, да она бы не приехала. В стране царила анархия. И вряд ли в ту минуту поэт думал о том, что и его когда-то сказанные неосторожные слова о войне тоже способствовали сходу лавины исторического цинизма, из-под которой мы начали выкарабкиваться только в нулевые годы.
В 1990-е развернулась настоящая битва за память. Войну пытались выставить кровавой разборкой двух диктаторов, стоившей миру миллионов жизней. Хатынь в нашей исторической памяти пытались заменить на Катынь, и не без успеха. Когда я стоял возле Василия Блаженного, а на меня, обтекая храм, двигался полумиллионный «Бессмертный полк», я думал о том, что в битве за память наметился перелом в нашу пользу. Теперь главное, чтобы в Ставке не оказалось предателей. Такое мы проходили, и не раз.
7. Муки согласования
А «Сто дней до приказа» тем временем попали на столы больших начальников. В том числе и тех, что запретили печатать в «Дне поэзии» Гумилева. Вскоре меня начали приглашать в инстанции. На беседы. В ГлавПУР, ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС, КГБ…
Со мной общались неглупые люди, разбиравшиеся в проблемах тогдашней армии гораздо лучше, чем я. Никто, представьте, на меня не кричал, не угрожал, не выпытывал, на кого я работаю и сколько серебреников получил за предательство. Мне спокойно объясняли, что публикация повести в таком виде может принести Отечеству вред, и рекомендовали, используя отпущенные мне природой способности, написать об армии иначе, что будет, конечно, отмечено премией и благотворно отразится на моей литературной карьере.
Кстати, многие из моих чиновных собеседников, вздыхая, говорили: будь их воля, они напечатали бы повесть, но военная цензура не пропустит. Тогда ходил характерный анекдот: на цензуру упала атомная бомба – не пропустили… Был и такой забавный случай. Один главпуровский генерал сказал мне, что не все Поляковы так безответственно относятся к армии. Есть еще один Юрий Поляков, написавший очень добрую и романтичную книгу о фронтовике Георгии Суворове.
– Вам бы с ним познакомиться и поучиться у него! – посоветовал генерал.
Узнав, что с тем, «хорошим», Поляковым я знаком, можно сказать, с рождения, он был поражен, хотя удивляться тут было нечему. Сочетание критичности с искренним романтизмом и доверчивостью было как раз типичной особенностью человека, вскормленного советской цивилизацией. Именно эта особенность воспитания и определила потом удивительное обстоятельство: миллионы умных, образованных людей безоглядно поверили опереточному Горбачеву и стенобитному Ельцину. Так было. Однако надо знать позднюю советскую систему ныне окарикатуренную не без моего участия. Сурова, даже беспощадна она была к тем, кто, отвергнув правила игры и отеческую заботу, боролся с ней, вливаясь в ряды диссидентов, немногочисленные, как кружок любителей эсперанто, тоже, кстати, пострадавших в 1930-е, когда запахло войной. А бес их знает, что они там пишут на своем буржуазном искусственном языке?
А вот с искренне заблуждавшимися (к таковым причислили и меня) советская власть работала, убеждала, заинтересовывала. Тем более что проблема неуставных отношений волновала и начальство, ей, болезной, посвящались секретные совещания и закрытые приказы министра обороны, с ней боролись. Читатели, понимавшие иносказательный язык тогдашней прессы, легко могли найти отзвуки этой борьбы с «дедовщиной» в военной печати. Она неутомимо и тщетно призывала армейский комсомол «активнее участвовать в процессе воспитания в воинах чувства товарищеского локтя, советской морали и ответственности за порученное дело». Между прочим, за неделю до увольнения в запас майор Царик дал мне дембельское задание – написать для «дивизионки» статью о вреде «неуставняка». «Ты можешь, но слова подбирай, понял!» Ох, и попотел я, сочиняя против «дедовщины» инвективу, даже не упоминая о наличии неуставных отношений в армии. Мордобой, унижения, издевательства в моей версии именовались «действиями, досадно противоречащими армейскому коллективизму и взаимовыручке». Но я был советским литератором и справился.
Тем временем повесть довольно успешно обсудили в Союзе писателей, ЦК ВЛКСМ обратился в ГлавПУР с просьбой рассмотреть возможность ее публикации. В писательской многотиражке «Московский литератор», где я в ту пору работал редактором, под заголовком «Призыв» был опубликован фрагмент. Нельзя сказать, что я остался один на один с государственной машиной. Мне помогали. Первый секретарь СП РСФСР С.В. Михалков писал письма военному начальству. Обсуждая повесть на заседании Комиссии по военно-художественной литературе МО СП РСФСР, старшие товарищи поддержали. Передо мной пожелтевшие странички протокола этого заседания от 21 ноября 1983 года:
«Я. Мустафин, старший редактор издательства “Советский писатель”. Явления неуставных отношений, так называемой годковщины, к сожалению, еще распространены у нас в армии. И очень хорошо, что Поляков написал об этом страстно, по-партийному остро.
Н. Черкашин, лауреат премии Ленинского комсомола. Повесть чрезвычайно актуальна, а ее острота как раз той направленности, к которой нас призывает сегодня партия. Ее необходимо напечатать, потому что она поможет в работе офицерам, заставит о многом задуматься тех, кто носит или готовится надеть военную форму.
В. Мирнев, заведующий отделом прозы журнала “Москва”. Здесь больше говорили о социальной значимости повести Ю. Полякова, я же хочу подчеркнуть ее хороший художественный уровень, она интересно выстроена, ярко прорисованы образы, автор умело работает со словом. Короче говоря, это – проза!
Ю. Поляков. Армейская тема, кто читал мои вещи – знает, всегда волновала меня. И я убежден, что здоровые силы в солдатском коллективе всегда сильнее, не надо только замалчивать, уходить от реальности. Современный молодой читатель не Станиславский, он не будет кричать “не верю!”, – а просто отложит неправдивую книгу в сторону. Я сознательно повел рассказ от имени старослужащего, чтобы показать: борьба с “годковщиной” идет не только извне, со стороны командиров и политработников, но и изнутри, в самом солдатском коллективе. Но я старался показать этот процесс во всей его диалектичности, а значит – и во всей его неоднозначности. И если моя повесть хоть немного поможет искоренению неуставных отношений, я буду считать свою задачу писателя и коммуниста выполненной».
В итоге, посовещавшись, высокое начальство решилось опубликовать «Сто дней…» в журнале «Советский воин», который был в ту пору одним из заметных литературно-художественных изданий. Такие мэтры, как Бондарев, Стаднюк, Алексеев, Бакланов, Исаев, Дудин и многие другие, охотно печатались на его страницах. Потом планировалось под руководством политработников обсудить мое сочинение в каждой воинской части, хорошенько наподдать автору за сгущение красок и неуместную иронию над ратными буднями, однако с поставленной проблемой согласиться и отмобилизовать личный состав на борьбу с неуставными отношениями… Решение было уже почти принято, но тут категорически выступил против один из заместителей начальника ГлавПУРа. Он заявил на коллегии, что публикация повести нанесет урон боевой мощи СССР и что он немедленно обратится с особым мнением в военный отдел ЦК КПСС.
В те годы ценилось единодушие при принятии ответственных решений, ибо в случае ошибки наказать всех ответственных сразу было довольно трудно. Нет ничего удивительного в том, что кто-то выступил против публикации. Удивительно другое – кто выступил! Это был генерал Д. Волкогонов, который через несколько лет обернулся пламенным демократом, обличителем советской эпохи и сокрушителем идейного наследия коммунистической эры. Поговаривали, он мстил за раскулаченного деда. Деталь, согласитесь, знаменательная и заставляющая задуматься о человеческом факторе, который сыграл не последнюю роль в том, что вместо трансформации и планового демонтажа устаревшей общественно-политической структуры мы получили мстительный разгром, переходящий в торжествующий хаос… Вообще, чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что именно семейные фобии и предрассудки определяют отношение человека к миру, людям, стране. Школа может только слегка подправить искажения личности, заложенные в семье. Так что повышенный интерес советских кадровиков к предкам и социальному происхождению гражданина, претендующего на должность, не такая уж глупость. Впрочем, как видим, и это не помогло…
Итак, в 1984-м повесть была окончательно запрещена. Точнее, не разрешена, что, в сущности, было одно и то же. Получив сочувственный отказ и выйдя из высокого генеральского кабинета, я шел по широкому как улица, коридору, украшенному золоченой гербовой лепниной. На душе была тоска от тяжкого осознания непрошибаемости стены, заслонившей моей солдатской повести путь к читателям. И вдруг мне дорогу лениво перебежала откормленная мышь. Как? Здесь – в самом сердце обороноспособности державы? Да, здесь – в ГлавПУРе. Мышь. И мое сердце сжалось в предчувствии близких перемен…
8. Спасибо, герр Руст!
Я смирился и, как принято теперь выражаться, переключился на другие литературные проекты. Вышла моя повесть «ЧП районного масштаба», ее стали обсуждать, экранизировать, инсценировать, а меня причислили к «прорабам перестройки», правда, ненадолго. Я довольно быстро сообразил, что улучшить жизнь с помощью разрушения нельзя. Однажды после встречи с читателями, где я с молодой горячностью волновался о судьбах Отечества и протестовал против тотального отрицания советского прошлого, интеллигентная библиотекарша с потомственно грустными глазами тихо заметила: «А на фотографии в “Юности” вы такой милый…»
Следующую серьезную попытку легализовать «Сто дней до приказа» я предпринял лишь в начале 1987-го, будучи уже автором нашумевших повестей «ЧП районного масштаба» и «Работа над ошибками», о которой спорили похлеще, чем нынче о сериале «Школа», снятом юной режиссершей со смешной самодельной фамилией. Вообще, замечу между прочим, придуманный, ненатуральный псевдоним каким-то таинственным образом искажает развитие творческой личности, направляя в ложное, надуманное, ненастоящее русло. Это сознавал, кстати, чуткий к слову Борис Пастернак, отлично понимавший, что Господь не одарил его роскошным именем, как собратьев по перу Есенина и Маяковского, но при всей своей горней выспренности он остался верен родовой фамилии. А ведь Борис Пастернак – это примерно то же самое, что Борис Репа. А поди ж ты!
Но вернемся к судьбе «Ста дней…». Будучи делегатом XX съезда ВЛКСМ и выступая с высокой трибуны, я открыл форуму глаза на проблему «дедовщины» (о которой был прекрасно осведомлен каждый прошедший армию делегат) и поведал о горькой судьбе моего произведения. С ответным словом выступил Герой Советского Союза афганец Игорь Чмуров и темпераментно обвинил меня в клевете на армию. Многотысячный зал аплодировал ему стоя. Я сначала пытался демонстративно сидеть, но, поймав укоризненный взгляд руководителя нашей московской делегации, тоже встал и, чуть не плача, стал аплодировать человеку, обвинившему меня во лжи. А ведь на дворе был не 37-й, а 87-й – и никто за отказ аплодировать вместе с залом меня бы не расстрелял… Что бы сделал, скажем, в таком случае Солженицын? Вышел бы шагами командора из зала и тут же дал гневное интервью Би-би-си. Что бы сделал, например, Евтушенко? Не выходя из зала, он бы написал возмущенные стихи, которые прочитал бы на ближайшем вечере поэзии в Лужниках: «Когда румяный комсомольский бог…» и так далее. Но я так не мог, я чувствовал ответственность перед людьми, меня поддержавшими, не хотел подвести тех, кто мне помогал, предоставляя трибуну съезда. Я знал правила игры и следовал им. Для яркой писательской биографии это, наверное, плохо, но есть еще и человеческие отношения, которые для меня важнее.
Однако события развивались стремительно. Вскоре немец Руст посадил на Красной площади свой самолетик, спокойно миновав все пояса противовоздушной обороны. Воспользовавшись этим неофициальным визитом, а может, и организовав его, Горбачев разогнал военную верхушку, недовольную генсеком и справедливо усматривавшую в его дилетантском миротворчестве угрозу безопасности страны. Армия была парализована. И Дементьев, даже не поставив никого в известность, кроме надзиравшего за свободной прессой Яковлева, запланировал повесть в очередной номер «Юности». Ему позвонили из недавно еще всесильной военной цензуры и предупредили: «Снимайте “Сто дней…”! Мы все равно не пропустим!» – «Вы бы лучше Руста не пропустили!» – ответил Дементьев. И я надолго стал врагом армии № 1. До сих пор многие офицеры, заслышав мое имя, начинают играть желваками, хотя потом, выпив и разговорившись, обязательно сообщают, что все, мной описанное, еще цветочки, а мне следует знать и про ягодки, которые полными горстями они трескали в своей командирской жизни…
В Москву я привез из армии почти сто новых стихотворений. Таких, например:
Пора тревог полночных —
Армейские года.
И как-то жаль «так точно»,
Смененное на «да».
Мои сочинения вызвали интерес у литературных изданий, и меня стали охотно печатать. Поэтов, сочиняющих искренние стихи об армии, в ту пору было уже мало, не больше, чем нынче патриотов на «Эхе Москвы». Кроме того, я вернулся из армии с намерением писать прозу. Мотив – страстное желание рассказать «правду» о том, что я увидел в армии. Повесть «Сто дней до приказа» была начата в 1979 году, а закончена в 1980-м. Свою первую прозу я писал карандашом, положив лист на жирно расчерченную картонку. Линии просвечивали сквозь бумагу, и строчки выходили ровными, а не загибались вниз или вверх – в зависимости от настроения. Первое время приходилось часто пользоваться ластиком. Сначала вещь называлась «Не грусти, салага! Армейская повесть». На пересыльном пункте во Франкфурте-на-Одере по радио без конца крутили жалобную, в духе еще не родившегося «Ласкового мая» песенку:
Не грусти, салага!
Срок отслужишь свой,
Так же, как и я,
Поедешь ты домой.
В дальние края, в дальние края
Едут, едут парни-дембеля…
Начиналась будущая повесть вполне документально: «…У нашего замполита – литературная фамилия. Булгаков…» И это была чистая правда. Следы неумелой «всамделишности» сохранились и в окончательном варианте. Реальный майор Гудов превратился в Дутова, а подлинный взводный лейтенант Оленич – в очкарика Косулича. Прапорщик Высовень в полку тоже имелся, но рука моя не поднялась перекорежить такую замечательную фамилию! Позже главпуровские блюстители обвиняли меня, мол, я, чтобы унизить советских офицеров, надавал им смешных фамилий. Вот уж чепуха!
Но по мере работы над повестью бес художественности все более овладевал мной. Прототипы, сгущаясь, становились образами, воспоминания о собственных армейских мытарствах обрастали чужими судьбами и подсмотренными подробностями, превращались в историю старослужащего Кормашова. Я не оговорился: главному герою я дал имя студента, ходившего в литобъединение, которое я вел в пединституте, и очень гордился, что в этой фамилии брезжит купринский Ромашов. По ходу работы выяснилось, что в «Юности» уже выходила повесть о моряках «Не грусти, салага!», и я недолго думая назвал свое почти законченное детище «Сто дней до приказа», со значением присовокупив – «Солдатская повесть». Мол, раньше люди, читая «Красную звезду», смотрели на армию глазами политработников, а вот я даю вам честную картину, увиденную со второго яруса казарменной койки!
Надо ли объяснять, что моя солдатская повесть не укладывалась в тогдашний канон «воениздатовской» прозы. Возможно, если бы я вырос в среде московской научно-чиновной интеллигенции с ее пижонским фрондерством и диссидентскими симпатиями, я бы отдал эту явно «чуждую» вещь на Запад. Тогда моя жизнь сложилась бы совсем по-другому. Но я, повторюсь, был настоящим советским человеком, верящим в конечную справедливость системы, а потому простодушно принялся носить повесть по нашим журналам – «Юность», «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир», «Наш современник»… Сотрудники этих изданий, люди чрезвычайно инакомыслящие, смотрели на меня как на придурка, нарушившего всеобщее благочиние неприличной выходкой. То, о чем они шептались на кухнях, я не только написал, но еще вдобавок вместо того, чтобы ограничиться тихими «самиздатовскими» радостями, приволок в советский журнал. Ну не идиот! Помню, заведующая отделом журнала «Знамя» Наталья Иванова (ныне она критик истошно либерального тренда) затащила меня в редакционный закоулок и негодовала свистящим шепотом, в том смысле, что, принеся эту провокационную антисоветчину, я хотел бросить тень на главного редактора Героя Социалистического Труда Вадима Кожевникова, автора бессмертного романа «Щит и меч». В другом издании заведующая прозой дама с кинжальным маникюром и декольте, доходящим до венерина бугорка, утверждала, что прекрасно знает жизнь современной армии: никакой дедовщины там нет в помине.
Понятно, рукопись довольно быстро была переправлена куда следует, и оттуда сразу наябедничали в Союз писателей, членом которого я уже стал, выпустив две книги стихов. Оттуда, откуда следует, позвонили секретарю по прозе Ивану Фотиевичу Стаднюку, автору знаменитого «Максима Перепелицы».
– Иван Фотиевич, – спросили оттуда, – что это у тебя там за диссидент такой завелся, армию очерняет?
– Какой еще диссидент?
– Поляков…
– Юра?
– Юрий Михайлович, русский, 1954 года рождения, член КПСС, как ни странно…
– Ну какой он диссидент! – засмеялся Фотиевич. – Он секретарь нашей комсомольской организации. Хороший парень. О фронтовой поэзии пишет…
Действительно, в те годы я занимался исследованиями фронтовой поэзии, особенно – творчества Георгия Суворова, погибшего в 1944-м при прорыве ленинградской блокады около города Нарвы. В 1981-м я защитил кандидатскую диссертацию на эту тему, а в 1983-м выпустил книжку «Между двумя морями» – о стихах и судьбе Суворова. В отличие от иных моих коллег по литературному цеху я совершенно не стыжусь того, что сочинял при советской власти. Фронтовую поэзию я горячо любил и писал о ней от всего сердца. Полагаю, многие советские литераторы, спешно перепрофилировавшиеся в антисоветских, не любят прежние времена прежде всего за свою былую неискренность.
Недавно я подсчитал: у меня дюжина стихотворений о 1941 годе. Впрочем, что тут удивляться: тема Великой войны была для моих сверстников-поэтов, если хотите, «поколениеобразующей». Мы выросли, оформились под могучим влиянием «стихотворцев обоймы военной», а шире – под впечатлением громадного народного подвига, еще живого и близкого, как дыхание недавней очистительной грозы. Не зря же лучший поэт моего поколения Николай Дмитриев писал:
В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, и все же
В какой-то мере все мы тоже
Вернувшиеся с той войны…
Он за книгу, где были напечатаны эти строки, получил премию Ленинского комсомола, а я за цикл стихов о войне «Непережитое» в 1980 году – премию имени Владимира Маяковского. Но уже тогда нас укоряли, мол, зачем вы касаетесь того, чего не видели? Зачем пишете о том, чего не пережили? Оставьте это фронтовикам! Один из сверстников даже в рифму попрекнул:
Катись проторенной дорогой,
О чем угодно воду лей,
Но меру знай – войну не трогай,
Отца родного пожалей!
Пришлось выступать в 1984-м со статьей «Право на боль», где я написал: «Есть боль участника, но есть боль и соотечественника. Человеку, чье Отечество перенесло то, что выпало на долю нашей страны, нет нужды заимствовать чужую боль, потому что она принадлежит всем и передается от поколения к поколению, равно как и гордость за одержанную Победу… Мирные поколения должны знать о войне все, кроме самой войны. Откройте сборник любого поэта, рожденного, как принято говорить, „под чистым небом“, и вы непременно найдете стихи о войне… Откуда она, эта „фронтовая“ лирика 70-80-х годов, написанная людьми, не знающими, что такое передовая (линия, а не статья), не ходившими в атаку (разве только учебную)?…Дело, видимо, в том, что исторический и нравственный опыт Великой войны вошел в генетическую память народа, стал свойством, чуть ли не передающимся по наследству в числе других родовых черт…»
Вот на эту-то генетическую память и повели охоту уже тогда, в 1980-е. Сначала осторожно: «Ну что с того, что я там был? Я все забыл, я все избыл…» – писал Юрий Левитанский о своем фронтовом опыте. Он-то имел в виду другое, пытался объяснить, как сложно трансформируется в человеческой памяти прошлое. Но кто-то понимал эти слова буквально. И Левитанский дожил до того времени, когда участие в войне перестало быть доблестью. В начале 1990-х я стал свидетелем омерзительного происшествия. В дубовом зале ЦДЛ до неприличия шумно гуляла компания новых русских «кавказского разлива». Обедавший рядом Левитанский сделал им замечание, мол, здесь так орать не принято. «А ты-то кто такой?» – «Я поэт!» – «Вот и сиди, поэт, пока цел!» – «Как вы смеете со мной так разговаривать. Я фронтовик!» – «Фронтовики в могиле, а ты, тыловая крыса, заткнись!» – и плеснули ему в лицо водкой. Левитанскому стало плохо, его увели под руки и отпаивали валерьянкой. Милицию никто вызывать не стал, да она бы не приехала. В стране царила анархия. И вряд ли в ту минуту поэт думал о том, что и его когда-то сказанные неосторожные слова о войне тоже способствовали сходу лавины исторического цинизма, из-под которой мы начали выкарабкиваться только в нулевые годы.
В 1990-е развернулась настоящая битва за память. Войну пытались выставить кровавой разборкой двух диктаторов, стоившей миру миллионов жизней. Хатынь в нашей исторической памяти пытались заменить на Катынь, и не без успеха. Когда я стоял возле Василия Блаженного, а на меня, обтекая храм, двигался полумиллионный «Бессмертный полк», я думал о том, что в битве за память наметился перелом в нашу пользу. Теперь главное, чтобы в Ставке не оказалось предателей. Такое мы проходили, и не раз.
7. Муки согласования
А «Сто дней до приказа» тем временем попали на столы больших начальников. В том числе и тех, что запретили печатать в «Дне поэзии» Гумилева. Вскоре меня начали приглашать в инстанции. На беседы. В ГлавПУР, ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС, КГБ…
Со мной общались неглупые люди, разбиравшиеся в проблемах тогдашней армии гораздо лучше, чем я. Никто, представьте, на меня не кричал, не угрожал, не выпытывал, на кого я работаю и сколько серебреников получил за предательство. Мне спокойно объясняли, что публикация повести в таком виде может принести Отечеству вред, и рекомендовали, используя отпущенные мне природой способности, написать об армии иначе, что будет, конечно, отмечено премией и благотворно отразится на моей литературной карьере.
Кстати, многие из моих чиновных собеседников, вздыхая, говорили: будь их воля, они напечатали бы повесть, но военная цензура не пропустит. Тогда ходил характерный анекдот: на цензуру упала атомная бомба – не пропустили… Был и такой забавный случай. Один главпуровский генерал сказал мне, что не все Поляковы так безответственно относятся к армии. Есть еще один Юрий Поляков, написавший очень добрую и романтичную книгу о фронтовике Георгии Суворове.
– Вам бы с ним познакомиться и поучиться у него! – посоветовал генерал.
Узнав, что с тем, «хорошим», Поляковым я знаком, можно сказать, с рождения, он был поражен, хотя удивляться тут было нечему. Сочетание критичности с искренним романтизмом и доверчивостью было как раз типичной особенностью человека, вскормленного советской цивилизацией. Именно эта особенность воспитания и определила потом удивительное обстоятельство: миллионы умных, образованных людей безоглядно поверили опереточному Горбачеву и стенобитному Ельцину. Так было. Однако надо знать позднюю советскую систему ныне окарикатуренную не без моего участия. Сурова, даже беспощадна она была к тем, кто, отвергнув правила игры и отеческую заботу, боролся с ней, вливаясь в ряды диссидентов, немногочисленные, как кружок любителей эсперанто, тоже, кстати, пострадавших в 1930-е, когда запахло войной. А бес их знает, что они там пишут на своем буржуазном искусственном языке?
А вот с искренне заблуждавшимися (к таковым причислили и меня) советская власть работала, убеждала, заинтересовывала. Тем более что проблема неуставных отношений волновала и начальство, ей, болезной, посвящались секретные совещания и закрытые приказы министра обороны, с ней боролись. Читатели, понимавшие иносказательный язык тогдашней прессы, легко могли найти отзвуки этой борьбы с «дедовщиной» в военной печати. Она неутомимо и тщетно призывала армейский комсомол «активнее участвовать в процессе воспитания в воинах чувства товарищеского локтя, советской морали и ответственности за порученное дело». Между прочим, за неделю до увольнения в запас майор Царик дал мне дембельское задание – написать для «дивизионки» статью о вреде «неуставняка». «Ты можешь, но слова подбирай, понял!» Ох, и попотел я, сочиняя против «дедовщины» инвективу, даже не упоминая о наличии неуставных отношений в армии. Мордобой, унижения, издевательства в моей версии именовались «действиями, досадно противоречащими армейскому коллективизму и взаимовыручке». Но я был советским литератором и справился.
Тем временем повесть довольно успешно обсудили в Союзе писателей, ЦК ВЛКСМ обратился в ГлавПУР с просьбой рассмотреть возможность ее публикации. В писательской многотиражке «Московский литератор», где я в ту пору работал редактором, под заголовком «Призыв» был опубликован фрагмент. Нельзя сказать, что я остался один на один с государственной машиной. Мне помогали. Первый секретарь СП РСФСР С.В. Михалков писал письма военному начальству. Обсуждая повесть на заседании Комиссии по военно-художественной литературе МО СП РСФСР, старшие товарищи поддержали. Передо мной пожелтевшие странички протокола этого заседания от 21 ноября 1983 года:
«Я. Мустафин, старший редактор издательства “Советский писатель”. Явления неуставных отношений, так называемой годковщины, к сожалению, еще распространены у нас в армии. И очень хорошо, что Поляков написал об этом страстно, по-партийному остро.
Н. Черкашин, лауреат премии Ленинского комсомола. Повесть чрезвычайно актуальна, а ее острота как раз той направленности, к которой нас призывает сегодня партия. Ее необходимо напечатать, потому что она поможет в работе офицерам, заставит о многом задуматься тех, кто носит или готовится надеть военную форму.
В. Мирнев, заведующий отделом прозы журнала “Москва”. Здесь больше говорили о социальной значимости повести Ю. Полякова, я же хочу подчеркнуть ее хороший художественный уровень, она интересно выстроена, ярко прорисованы образы, автор умело работает со словом. Короче говоря, это – проза!
Ю. Поляков. Армейская тема, кто читал мои вещи – знает, всегда волновала меня. И я убежден, что здоровые силы в солдатском коллективе всегда сильнее, не надо только замалчивать, уходить от реальности. Современный молодой читатель не Станиславский, он не будет кричать “не верю!”, – а просто отложит неправдивую книгу в сторону. Я сознательно повел рассказ от имени старослужащего, чтобы показать: борьба с “годковщиной” идет не только извне, со стороны командиров и политработников, но и изнутри, в самом солдатском коллективе. Но я старался показать этот процесс во всей его диалектичности, а значит – и во всей его неоднозначности. И если моя повесть хоть немного поможет искоренению неуставных отношений, я буду считать свою задачу писателя и коммуниста выполненной».
В итоге, посовещавшись, высокое начальство решилось опубликовать «Сто дней…» в журнале «Советский воин», который был в ту пору одним из заметных литературно-художественных изданий. Такие мэтры, как Бондарев, Стаднюк, Алексеев, Бакланов, Исаев, Дудин и многие другие, охотно печатались на его страницах. Потом планировалось под руководством политработников обсудить мое сочинение в каждой воинской части, хорошенько наподдать автору за сгущение красок и неуместную иронию над ратными буднями, однако с поставленной проблемой согласиться и отмобилизовать личный состав на борьбу с неуставными отношениями… Решение было уже почти принято, но тут категорически выступил против один из заместителей начальника ГлавПУРа. Он заявил на коллегии, что публикация повести нанесет урон боевой мощи СССР и что он немедленно обратится с особым мнением в военный отдел ЦК КПСС.
В те годы ценилось единодушие при принятии ответственных решений, ибо в случае ошибки наказать всех ответственных сразу было довольно трудно. Нет ничего удивительного в том, что кто-то выступил против публикации. Удивительно другое – кто выступил! Это был генерал Д. Волкогонов, который через несколько лет обернулся пламенным демократом, обличителем советской эпохи и сокрушителем идейного наследия коммунистической эры. Поговаривали, он мстил за раскулаченного деда. Деталь, согласитесь, знаменательная и заставляющая задуматься о человеческом факторе, который сыграл не последнюю роль в том, что вместо трансформации и планового демонтажа устаревшей общественно-политической структуры мы получили мстительный разгром, переходящий в торжествующий хаос… Вообще, чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что именно семейные фобии и предрассудки определяют отношение человека к миру, людям, стране. Школа может только слегка подправить искажения личности, заложенные в семье. Так что повышенный интерес советских кадровиков к предкам и социальному происхождению гражданина, претендующего на должность, не такая уж глупость. Впрочем, как видим, и это не помогло…
Итак, в 1984-м повесть была окончательно запрещена. Точнее, не разрешена, что, в сущности, было одно и то же. Получив сочувственный отказ и выйдя из высокого генеральского кабинета, я шел по широкому как улица, коридору, украшенному золоченой гербовой лепниной. На душе была тоска от тяжкого осознания непрошибаемости стены, заслонившей моей солдатской повести путь к читателям. И вдруг мне дорогу лениво перебежала откормленная мышь. Как? Здесь – в самом сердце обороноспособности державы? Да, здесь – в ГлавПУРе. Мышь. И мое сердце сжалось в предчувствии близких перемен…
8. Спасибо, герр Руст!
Я смирился и, как принято теперь выражаться, переключился на другие литературные проекты. Вышла моя повесть «ЧП районного масштаба», ее стали обсуждать, экранизировать, инсценировать, а меня причислили к «прорабам перестройки», правда, ненадолго. Я довольно быстро сообразил, что улучшить жизнь с помощью разрушения нельзя. Однажды после встречи с читателями, где я с молодой горячностью волновался о судьбах Отечества и протестовал против тотального отрицания советского прошлого, интеллигентная библиотекарша с потомственно грустными глазами тихо заметила: «А на фотографии в “Юности” вы такой милый…»
Следующую серьезную попытку легализовать «Сто дней до приказа» я предпринял лишь в начале 1987-го, будучи уже автором нашумевших повестей «ЧП районного масштаба» и «Работа над ошибками», о которой спорили похлеще, чем нынче о сериале «Школа», снятом юной режиссершей со смешной самодельной фамилией. Вообще, замечу между прочим, придуманный, ненатуральный псевдоним каким-то таинственным образом искажает развитие творческой личности, направляя в ложное, надуманное, ненастоящее русло. Это сознавал, кстати, чуткий к слову Борис Пастернак, отлично понимавший, что Господь не одарил его роскошным именем, как собратьев по перу Есенина и Маяковского, но при всей своей горней выспренности он остался верен родовой фамилии. А ведь Борис Пастернак – это примерно то же самое, что Борис Репа. А поди ж ты!
Но вернемся к судьбе «Ста дней…». Будучи делегатом XX съезда ВЛКСМ и выступая с высокой трибуны, я открыл форуму глаза на проблему «дедовщины» (о которой был прекрасно осведомлен каждый прошедший армию делегат) и поведал о горькой судьбе моего произведения. С ответным словом выступил Герой Советского Союза афганец Игорь Чмуров и темпераментно обвинил меня в клевете на армию. Многотысячный зал аплодировал ему стоя. Я сначала пытался демонстративно сидеть, но, поймав укоризненный взгляд руководителя нашей московской делегации, тоже встал и, чуть не плача, стал аплодировать человеку, обвинившему меня во лжи. А ведь на дворе был не 37-й, а 87-й – и никто за отказ аплодировать вместе с залом меня бы не расстрелял… Что бы сделал, скажем, в таком случае Солженицын? Вышел бы шагами командора из зала и тут же дал гневное интервью Би-би-си. Что бы сделал, например, Евтушенко? Не выходя из зала, он бы написал возмущенные стихи, которые прочитал бы на ближайшем вечере поэзии в Лужниках: «Когда румяный комсомольский бог…» и так далее. Но я так не мог, я чувствовал ответственность перед людьми, меня поддержавшими, не хотел подвести тех, кто мне помогал, предоставляя трибуну съезда. Я знал правила игры и следовал им. Для яркой писательской биографии это, наверное, плохо, но есть еще и человеческие отношения, которые для меня важнее.
Однако события развивались стремительно. Вскоре немец Руст посадил на Красной площади свой самолетик, спокойно миновав все пояса противовоздушной обороны. Воспользовавшись этим неофициальным визитом, а может, и организовав его, Горбачев разогнал военную верхушку, недовольную генсеком и справедливо усматривавшую в его дилетантском миротворчестве угрозу безопасности страны. Армия была парализована. И Дементьев, даже не поставив никого в известность, кроме надзиравшего за свободной прессой Яковлева, запланировал повесть в очередной номер «Юности». Ему позвонили из недавно еще всесильной военной цензуры и предупредили: «Снимайте “Сто дней…”! Мы все равно не пропустим!» – «Вы бы лучше Руста не пропустили!» – ответил Дементьев. И я надолго стал врагом армии № 1. До сих пор многие офицеры, заслышав мое имя, начинают играть желваками, хотя потом, выпив и разговорившись, обязательно сообщают, что все, мной описанное, еще цветочки, а мне следует знать и про ягодки, которые полными горстями они трескали в своей командирской жизни…