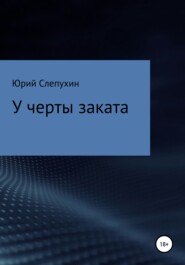По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сладостно и почетно
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Герстенмайер, – повторил полковник. – Что-то мне эта фамилия напоминает…
– Он был довольно известный берлинский адвокат, специалист по коммерческому праву. В его конторе я начинал практику, еще в конце двадцатых годов. Он тогда баллотировался в рейхстаг от народной партии.
– В конце двадцатых? Я в то время пытался поправить свои дела биржевым маклерством; возможно, на этой почве мы с ним и встречались. Если он занимался коммерческим правом, то вполне возможно. А где он сейчас?
– О, он умер в начале войны. Так вот, Дорнбергер женат на его дочери, там мы познакомились.
– Ах так. Значит, вы ходатайствовали просто за приятеля, – фраза прозвучала не как вопрос, скорее как констатация, и не слишком одобрительная.
– Не совсем так, признаться. Дело в том, что об этом меня попросил Остер. Не знаю, почему он сам не счел удобным обратиться к Ольбрихту.
– Он что, связан с абвером, этот ваш физик?
– Его хотели связать. Похоже, ничего не получилось.
– И здесь осечка. Зря, значит, вытаскивали…
– Не скажите. Просто подход, очевидно, оказался ошибочным… Дорнбергер – это, знаете… личность весьма любопытная. Мог сделать блистательную карьеру в науке, мне говорили специалисты.
– Но хоть человек-то порядочный?
– Временами – до глупости. Это ведь тоже поддается использованию. Я думаю, на Бендлерштрассе им будут довольны.
– Хитрецы, – буркнул Тресков. – Фабиан, остановите-ка машину, разомнем ноги… Вы так гоните, что мы явимся как раз к обеду, а я уже с трудом выношу эти торжественные трапезы с генерал-фельдмаршалом во главе стола… Бог меня прости, офицеру не к лицу такие высказывания о прямом начальнике – но до чего мне становится неприятна эта двуличная лиса…
Адъютант дипломатично промолчал. Выключив зажигание, он осторожно свел машину с асфальта и затормозил на широкой обочине. Стало очень тихо, запахло пылью и луговыми травами. Шоссе проходило здесь по более открытому месту, лес остался позади; справа, за полотном железной дороги, пологими волнами уходила к югу холмистая равнина – луга, березовые перелески. День был солнечный, но ветреный, с бегущими облачками, и окраска холмов все время менялась, они то сумрачно темнели, то снова загорались яркой зеленью.
– Красивая земля, – задумчиво сказал Тресков, стоя на краю кювета. – Чертовски неухоженная, но красивая. Есть в ней какая-то… первозданность.
Шлабрендорф, тоже завороженный зрелищем непривычно бескрайнего простора, молча кивнул. Потом он повернул голову, долго смотрел вдоль шоссе.
– Хеннинг, вы, вероятно, в курсе – мои познания в военной истории довольно фрагментарны, – это ведь и есть дорога Наполеона?
– Она самая. Туда и обратно.
– А… Бо-ро-дино – где-то в этих краях? Впрочем, нет, это должно быть ближе к Москве…
– Да, это восточнее. Намного восточнее. В позапрошлом году я там был, в районе Можайска. Русскую оборону там взламывали панцер-гренадеры Руофа. Масса их полегло. А памятник восемьсот двенадцатого года я даже сфотографировал.
– Теперь, надо полагать, построят еще один. Я слышал, у русских тоже были огромные потери, – добавил Шлабрендорф.
– Потери в обороне всегда меньше потерь в наступлении. Но главное, русские хоть знают, за что гибнут…
Полковник помолчал, потом сказал неожиданно:
– А Толстой все-таки прав.
– Толстой? – переспросил Шлабрендорф с удивлением. – В чем именно он прав?
– Я просто вспомнил его рассуждения о насморке Наполеона. Как вы считаете, Фабиан, этот наш детонатор – мог он изменить историю Германии?
– Еще как изменил бы.
– Тогда вот вам и ответ, почему не сработал: просто не пришло время.
– Хеннинг, вы и впрямь мистиком становитесь. Как будто начитались не Толстого, а Сведенборга.
– Я не шучу, Фабиан. Мне представляется все более справедливой мысль, что ход истории вообще зависит от нас лишь в самой ничтожной степени. Если то или иное историческое событие должно произойти – оно произойдет, кто бы и какими бы средствами ни пытался этому воспрепятствовать. Если, наоборот, время для какого-то перелома еще не настало, то вы ничем не приблизите этого момента – как бы ни старались. В такой ситуации все ваши усилия кончаются неизменным провалом, причем зачастую самым нелепым. Вроде самопроизвольной деактивации.
– Не знаю, насколько справедлива теория исторического предопределения, но ее опасность бесспорна.
– Опасность?
– Да, потому что она оправдывает бездействие. Точнее, она его предписывает. В самом деле – какой смысл что-то делать, если конечный результат от тебя не зависит…
Тресков покачал головой.
– Фабиан, вы чего-то недопонимаете. Вы ведь католик? Тогда совсем странно. Скажите-ка, разве крестьянин, засевая свое поле, уверен в урожае? Тогда ведь, по-вашему, тоже надо сказать – какой смысл сеять, если конечный результат зависит от града или засухи… Нет, человек обязан действовать. Обязан, независимо от того, увенчаются его действия успехом или не увенчаются. Шансы тут ровно один к одному – всегда либо «да», либо «нет». Смысл истории раскрывается только в ретроспективе, современнику он не виден. Человек действует наугад; когда его действие совпадает с требованием исторического момента, оно дает результат. Когда не совпадает – результат нулевой. Но не действовать вообще… – Он не договорил и пожал плечами.
– Выходит, истории угодно было сохранить Германии фюрера, – иронически сказал Шлабрендорф. – Знать бы только, с какой целью.
– Вот этого мы, боюсь, уже не узнаем. Потомкам будет виднее. Впрочем, кое-какие догадки у меня есть.
– Поделитесь, если не секрет.
– Какие же у меня от вас секреты. Видите ли, я часто думал – откуда он вообще взялся, этот чертов национал-социализм. Нет, я все знаю: страх перед революцией, финансовая поддержка со стороны промышленной олигархии и все такое. Но это, понимаете, на поверхности – а вот глубинный смысл? Должен же быть в истории какой-то смысл, вам не кажется? Иначе тогда надо действительно верить в случайность. Либо случайность, либо смысл – вот об этом Толстой и писал. Так вот, по поводу нацизма! Я, знаете ли, в конце концов пришел к выводу, что это попросту своего рода нагноение, духовный нарыв человечества. Или если не человечества, то уж, во всяком случае, нашей европейской цивилизации. Как вам такая гипотеза?
– Ну… что-то в ней есть, – согласился Шлабрендорф.
– Уверяю вас. Ведь что такое нарыв? Чертовски болезненная и неприятная штука, но – полезная. Полезная по конечным результатам, понимаете, поскольку выводит из организма накопившуюся дрянь. Но этот нарыв, чтобы организм окончательно очистился и выздоровел, должен созреть. А пока не созрел, ничего вы с ним не сделаете. Будет только хуже. Вам известно, что генерал Хаммерштейн собирался арестовать фюрера еще в сентябре тридцать девятого года?
– Помилуйте, Хеннинг, – лейтенант фон Шлабрендорф улыбнулся. – Я ведь сам рассказывал вам про встречу с Форбсом в отеле «Адлон». Именно об этом дурацком замысле я и должен был тогда проинформировать сэра Джорджа.
– Да, замысел был дурацкий. И не только потому, что строился на вздорном плане заманить фюрера в Кельн: почему, спрашивается, он должен был принять это предложение? Но дело не в этом. Предположим, Хаммерштейну удалось задуманное. Представляете, каким ореолом мученика это окружило бы память о Гитлере? В памяти народа он остался бы святым! Его запомнили бы как человека, который покончил с инфляцией и разрухой, дал работу миллионам немцев, раздвинул границы, наконец достиг молниеносной победы в Польше… Да что говорить о тридцать девятом годе! Если начистоту, Фабиан, я склонен думать, что большинство нашего народа и сейчас – даже сейчас, после Сталинграда! – верит фюреру и в конечном счете готово простить ему даже этот катастрофический Восточный поход. Если бы тогда, в марте, бомба сработала – смогли бы вы выступить перед страной и открыто сказать: «Это сделал я»? Нет, исключим страх перед гестапо; предположим, режим рухнул мгновенно и весь государственный аппарат распался, с этой стороны вам уже ничто не грозит. Признались бы вы в таком случае? Я, например, скажу честно: нет, не рискнул бы…
Разговаривая, они медленно шли по пыльной обочине, удаляясь от машины. Впереди, слева от шоссе, громоздилась за кюветом огромная ржавая глыба русского пятибашенного Т-35. Снаружи «сухопутный дредноут» выглядел целым, вооружение было снято, люки распахнуты настежь. Из решетки вентиляторных жалюзи позади кормовых башен пророс бурьян – семена, видно, занесло туда вместе с пылью. Дойдя до брошенного танка, Тресков остановился и указал на него Шлабрендорфу:
– Стоит тут с августа сорок первого. Клюге тогда командовал еще Четвертой армией; мы ехали вместе, он увидел и приказал своему адъютанту сфотографировать. А потом говорит мне: «Вот символ большевистской России – колосс на глиняных ногах, неповоротливый гигант, оказавшийся не в состоянии себя защитить»… Я бы на его месте давно уже распорядился разрезать это и увезти. Как-никак полсотни тонн стали. А то ведь теперь этот «символ» начинает выглядеть весьма двусмысленно.
– Едва ли Клюге помнит, что говорил когда-то по этому поводу, – заметил Шлабрендорф. – Честно говоря, удивляюсь вашему терпению – работать с таким человеком…
– Игра стоит свеч. Все-таки – иметь на нашей стороне лишнего генерал-фельдмаршала… Беда, однако, в том, что Клюге – помимо всего прочего – еще и чертовски неустойчивый тип. Бывают такие женщины, знаете, которых легко сбить с толку. Вот и он тоже. Пока находится под одним влиянием – он такой, сменится влияние – и он тут же станет иным. Отсюда непредсказуемость поступков. Я чувствую себя при нем в роли часовщика: все время приходится подкручивать пружину. Вот стоило съездить в отпуск, приезжаю – сразу чувствую, что уже что-то не то, уже его кто-то успел обработать. Не исключено, что так и провиляет хвостом до самого конца…
Полковник повернул обратно к машине, Шлабрендорф еще раз задумчиво оглядел грозную заржавленную громаду мертвого танка и пошел следом.
– Я вот еще что хочу сказать, – продолжал Тресков. – Мы тогда, в марте, не учли одной очень важной детали. Сталинград многих отрезвил, это так, но у многих он породил и бешеную жажду реванша. Вспомните, какое было ликование, когда русских выбили обратно из Харькова. А когда Геббельс в Спортпаласте кричал: «Встань, Германия, отомсти за мертвых на Волге!» – вы же слышали этот исступленный рев толпы, эту нескончаемую бурю аплодисментов – поверьте, Фабиан, все это было искренне…
– Мы как раз говорили о заразительности эмоций.