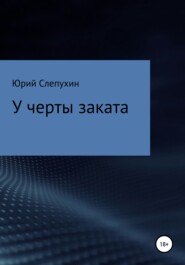По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сладостно и почетно
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да! И деньги, и положение! Я его понимаю, сама люблю комфорт и обеспеченную жизнь; тем более я преклоняюсь перед людьми, которые уезжали, сумев отказаться от всего этого. И объявлять их предателями, как это делаешь ты…
– Я далек от мысли объявлять их предателями, – терпеливо возразил Дорнбергер. – Не надо приписывать мне то, чего я не говорил. Очень хорошо, что существует немецкая политическая эмиграция; она в известной степени реабилитирует Германию в глазах мира; если бы не братья Манн, Фейхтвангер, Цвейг – ну, не знаю, кто там еще, Брехт, – нас, немцев, отождествляли бы с нацизмом без оговорок. Я только говорю, что сам я так поступить не мог бы. Эти люди избрали такой путь борьбы – очень хорошо! Но есть и другие пути, поэтому не надо считать тот единственным и обязательным для всех. Для меня он неприемлем.
– Ладно, мой милый, я не собираюсь тебя уговаривать. Оставайся в своей обожаемой Германии, раз уж ты такой патриот! Отечество – лучше не придумать.
– Да нет, – он усмехнулся, – есть куда лучшие. Я, например, в детстве мечтал о Новой Зеландии… с тех пор как прочитал биографию Резерфорда. Мягкий климат, всегда тепло, никаких хищников… райская земля! Но, видишь ли, Ренхен, отечество не выбирают, вот в чем загвоздка…
В Берлин они вернулись вместе. Рената прямо с Потсдамского вокзала отправилась на студию, а Эрих поехал в Груневальд – упаковать книги.
С тяжелым сердцем отпер он входную дверь. В комнатах, несмотря на теплый день, было холодно, пахло пылью и нежильем, голые стены со скупо развешанными кубистическими полотнами наводили уныние. Дом, построенный в двадцатые годы архитектором Мендельсоном и им же декорированный в модном тогда стиле «баухауз» (стеклянные столы, бройеровские кресла из хромированных труб и осветительная арматура, похожая на реквизит фильмов Ланга), считался когда-то образцом современного жилища; попадая сюда впервые, гости Ренаты шумно восхищались функциональностью решения интерьеров, самому же Эриху казалось, что все это слишком смахивает на приемную зубного врача. Но тогда хоть здесь была жизнь…
Он поднялся наверх, постоял у двери спальной, нерешительно повернул ручку. Низкая квадратная кровать была застлана пожелтевшими газетами, из стоящей в углу высокой майоликовой вазы свесилось какое-то экзотическое растение, давно мертвое и неприятно похожее на Издохшего осьминога. А в остальном все было так же, тускло отсвечивали пыльные зеркала, на светло-серой стене белел в узкой хромированной рамке продолговатый лист ватмана с небрежно очерченным одной линией контуром обнаженной женщины. Эрих попытался вспомнить имя известного когда-то художника (подпись выглядела неразборчивым иероглифом), но не вспомнил. Интерлюдия в Эссене была, конечно, ни к чему, подумал он, отводя взгляд от рисунка. Следовало уехать сразу, ну или хотя бы на другой день…
Все было по-прежнему и в его комнате. Он скользнул взглядом по стеллажу с книгами – а стоит ли, собственно, с ними возиться? – и прошел к окну. За пыльным стеклом лежали в солнечной дымке отлогие, поросшие соснами холмы Груневальда, ему вдруг стало жаль этой тишины, этих холмов и этого дома, который давно стал для него чужим. Странно, подумал он, никогда не замечал за собой такой глупой чувствительности.
Спустившись в котельную, он отыскал несколько пустых картонных коробок из-под «перзиля», потом вернулся к себе и стал не глядя укладывать книги и комплекты журналов, папки и истрепанные тетради лабораторных дневников, все вперемешку. Если доведется когда-нибудь разбирать все это, работа будет иметь больший смысл… Но вообще сомнительно, чтобы кто-то – книги или он сам – уцелел к тому времени.
Когда полки опустели, он сел у окна в трубчатое кресло и вытянул больную ногу. Возня с книгами утомила его, он теперь вообще быстро уставал – начинало колотиться сердце, не хватало воздуха. В гараж мне этого сегодня уже не перетащить, подумал он, придется приехать сюда еще раз. Да, после «котла» здоровье уже не то. Ну и черт с ним, зачем ему теперь здоровье.
Закурив, он посмотрел в окно и подумал, что, если бы не те сосны, отсюда была бы видна красная черепичная крыша виллы, где живет Планк. Или жил по крайней мере: великого старца, возможно, эвакуировали уже в более безопасное место – в порядке охраны национального культурного достояния. Как эдакую драгоценную мумию. Восемьдесят пять лет, страшно подумать. Многих ли из нас хватит на половину этого срока?
Да, им – старикам – повезло. Прожить долгую и целиком отданную любимому делу жизнь… У них, надо полагать, тоже были свои проблемы, но никому из них не пришлось усомниться в нравственной стороне того, чем они занимались. Мы, вероятно, первое поколение усомнившихся – и ужаснувшихся. Первое, но не последнее. Потому что этого уже не остановить.
Что из того, что открытие опоздало на десяток лет и эта война закончится без применения уранового оружия? Она тоже не последняя. А рядом с ужаснувшимися (иной скажет – трусами?) всегда найдутся фанатики «бесстрашной научной мысли», для которых никогда не встанет вопрос: допустимо или недопустимо…
Машинально он протянул руку к стоящему рядом большому консольному радиокомбайну и нажал кнопку. К его удивлению, шкала тускло засветилась – дом, оказывается, не был отключен от сети. Когда прогрелись лампы, казенно-бодрый голос забарабанил было о несгибаемом германском духе, но Эрих щелкнул переключателем и раскрыл дверцу фонотеки. Второй концерт Брамса стоял слева, как и тогда, и даже все шесть пластинок оказались на месте – Рената, к счастью, не добралась до этого альбома, иначе половина была бы перебита. Впрочем, она, кажется, вообще Брамса не любит.
Да, ничего не удалось, все пошло прахом. Вот и это тоже. Не главное, конечно, но когда не остается и этого… Должно же у человека что-то быть – или любимая работа, или сознание выполненного долга, или – пусть хотя бы как последнее убежище – что-то личное. А впрочем, нет, и это ничего бы не изменило.
Он сидел в этой пустой комнате, пахнущей пылью и одиночеством, среди коробок с упакованным и никому не нужным итогом жизни, и слушал нечеловечески прекрасную музыку из иного мира. Мира, где у людей еще что-то было, где люди во что-то верили и на что-то надеялись. До чего мы слепы и недальновидны – именно недальновидны, и это при всей пытливости человеческого разума! Впрочем, что говорить о неумении провидеть будущее, если мы даже неспособны осмыслить прошлое, всем видимое, доступное для самого детального исследования! Ведь даже сейчас нам так и не понять до конца – что все же случилось в эпоху «торжества разума», чем этот блистательный и гордый своими триумфами девятнадцатый век подготовил и, сам того не заметив, сделал неизбежной тотальную катастрофу двадцатого…
Глава 4
Полковник Хеннинг фон Тресков, начальник оперативного отдела штаба группы армий «Центр», угодил под пули в самом, казалось бы, безопасном от партизан месте – на полпути между Оршей и Смоленском. Последняя деревенька, правда, несколько зловеще называясь «Красное», и сидевший за рулем адъютант пошутил по этому поводу, что местный гебитскомиссар явно нерадив: как правило, «золотые фазаны» из Восточного министерства проявляют особую бдительность по части топонимики захваченных территорий. Полковник буркнул в ответ, что данный населенный пункт переименовать не так просто. Тут, конечно, по логике само напрашивается «Браунау» – но нельзя, кощунство, фюрер может обидеться…
Ехали они без сопровождения охраны, дело было днем, а окрестные леса постоянно прочесывались, и вообще в этих краях последнее время было спокойно – насколько, конечно, может быть вообще спокойно в России. Когда из молодого березняка слева от шоссе ударили выстрелы (по звуку Тресков сразу узнал старую русскую винтовку образца 1891), лейтенант Шлабрендорф пригнулся к рулю и до упора вдавил педаль газа. Утробно взревев форсированным двигателем, открытый «Мерседес» ринулся вперед, отбросив седоков на спинки сидений. Сзади, уже слабее, хлопнуло вслед еще несколько выстрелов.
– Наше счастье, что у них не было автоматов, – заметил полковник, когда машина перелетела невысокий бугор, на мгновенье словно оторвав колеса от земли, и понеслась вниз. – Странно, однако, что они вообще здесь. Вот вам и Красное.
– Где же им еще быть, – резонно возразил лейтенант. Сбросив газ, он достал из кармана платок и, сняв очки в тонкой золотой оправе, принялся методично протирать стекла, придерживая руль коленом.
– Нет, я хочу сказать, что последнее время не было сообщений. К тому же – зона усиленной охраны.
– О, русские умеют просачиваться…
Некоторое время оба молчали. Полковник сидел неподвижно, глядя прямо перед собой, его темное от загара лицо с глубоко посаженными глазами и упрямо сжатым тонкогубым ртом было мрачно, почти скорбно.
– Возможно, случайно забредший отряд, – сказал он негромко, словно думая вслух. – Как, вы говорили, в советской печати принято называть партизан – «народные мстители»?
– Народные мстители, – подтвердил адъютант. – Если мне правильно переводят.
– Что ж, будем справедливы, им есть за что мстить. Но признайтесь, Фабиан, когда они открыли огонь, – у вас не мелькнула мысль, что судьба склонна к мрачным шуткам?
– Мне было не до философствования – слишком испугался. Я штатский человек, Хеннинг, воинские доспехи не сделали меня воином.
– Ну, если вы думаете, что профессиональный солдат не подвержен чувству страха, то могу вас разуверить. Я тоже испугался, но мысль об иронии судьбы меня все же посетила. Было бы, согласитесь, чертовски забавно… если бы эти русские мстители ухлопали своих германских коллег.
– Нам было бы поделом, господин полковник. За некачественную работу.
Хеннинг фон Тресков помолчал, глядя на бегущий навстречу разбитый и потрескавшийся асфальт Минского шоссе. Машину сильно качало, и укрепленное на пробке радиатора кольцо с вписанной в него трехлучевой звездой все время перемещалось вверх-вниз, словно прицел в руках неумелого наводчика.
– Когда приедем, распорядитесь проверить передние амортизаторы, – сказал полковник. – На редкость бестолковый парень этот мой новый водитель… Уж о таких-то вещах мог бы позаботиться сам. Да, Фабиан, сработали мы с вами некачественно, что правда то правда.
– Правда и то, что нас подвела английская техника. Этот коварный Альбион…
Англичане и в самом деле крепко их подвели со своей прославленной техникой. Мощную взрывчатку какого-то нового типа (она была похожа на липкую замазку) и полагающиеся к ней бесшумные кислотные детонаторы прислал помощник Канариса Ганс Остер; абверовец, который доставил в Смоленск этот подарок, всячески расхваливал британское изделие: удобно, надежно, безопасно в обращении… Самое забавное, что так оно, вероятно, и есть. Тресков, не очень доверяя не имеющему навыка Шлабрендорфу, лично проверил и взрывчатку, и взрыватели, истратив несколько штук из ограниченного запаса. Каждый срабатывал ровно через тридцать минут – хоть часы проверяй. А в нужный момент произошла осечка. Да какая!
Гитлер прибыл в Смоленск утром тринадцатого марта, после совещания пообедал и сразу же отправился обратно. Фон Тресков, поехавший на аэродром вместе с другими штабными, в последний момент попросил полковника Брандта из свиты фюрера прихватить в Растенбург посылочку для генерал-лейтенанта Штиффа – две бутылки коньяка, у старого камрада семейная дата, ему будет приятно… Брандт заверил, что передаст непременно, сунул пакет в портфель и пошел к трапу.
Самолет должен был взорваться над границей генерал-губернаторства, но он уже миновал Варшаву, а полет продолжался нормально. Потом в штаб поступило сообщение, что фюрер благополучно прибыл в «Волчье логово». Обычно невозмутимый фон Тресков ворвался к своему адъютанту с серым лицом:
– Шлабрендорф, это дерьмо не сработало! Сейчас в Растенбург вылетает курьер фельдсвязи – я позвоню на аэродром, чтобы задержали, отправляйтесь в ставку и найдите Брандта. Заберите у него пакет – придумайте что-нибудь: или что вас прислал Штифф, или что произошла ошибка – словом, что хотите, но только быстрее, может быть вы еще успеете…
Опасность заключалась не в том, что посылка попадет к самому Штиффу – тот был в курсе; Брандт мог на досуге развернуть невостребованный пакет, чтобы полюбопытствовать, какой марки коньячком балуют себя штабники на Восточном фронте. К счастью, Шлабрендорф успел вовремя и Брандт, не выразив удивления, передал ему посылку. До этого момента Шлабрендорф держался, а потом нервы не выдержали. Очутившись наконец в двухместном купе поезда Растенбург – Берлин, он, уже не соображая, какой опасности подвергает себя и других пассажиров, запер дверь и вскрыл пакет с бомбой. Вытащив и разобрав взрыватель, он не поверил своим глазам: запал, оказывается, сработал, ударник был спущен – а взрыва не произошло. Как потом объяснил ему один химик, детонирующее вещество по какой-то неясной причине разложилось, перестало быть активным…
– Альбион Альбионом, – сказал полковник, – но все это, ей-богу, начинает припахивать мистикой. У нас отказывает взрыватель многократно проверенного типа, через несколько дней граф Герсдорф пытается рвануть себя вместе с фюрером на смотре в цейхгаузе – а тот покидает помещение на две минуты раньше…
– Ну, там он мог что-то почуять, – заметил Шлабрендорф. – У мерзавца, надо отдать ему справедливость, и впрямь есть шестое чувство. Чует опасность издалека, как кобель – землетрясение. Это вполне объяснимо в свете парапсихологии – представьте себе душевное состояние человека с набитыми взрывчаткой карманами, который через минуту должен будет нажать кнопку. Его мозг, несомненно, что-то излучает… А излучение может подействовать на особо восприимчивую к таким штукам натуру. Вам приходилось бывать в толпе, охваченной какой-то одной сильной эмоцией – скажем, страхом или восторгом? Это ведь заразительно. Так что бедняга граф явно излучал… и тем самым спугнул птичку. Вот случай с нашим взрывателем для меня действительно необъясним ни с какой стороны.
– Вам же сказали, имела место самопроизвольная деактивация фульмината.
– Да, но почему? Мало, что ли, вы их перепробовали. У вас был хоть один случай отказа?
– Химия, – буркнул полковник. – Чертовски загадочная штука, Фабиан. Всегда ее опасался. Кстати – тот ваш химик, удалось его вытащить?
– Какой химик, простите?
– Вы зимой просили Ольбрихта помочь вытащить из-под Сталинграда какого-то химика.
– Ах, тот! Да, его оттуда эвакуировали. Только он не химик, а физик.
– Вот как. А вы, помнится, говорили, что он занимался изотопами?
– Да, Хеннинг, но это физика.
– Какая же, к черту, физика, если я отлично помню, как нам в академии морочили голову этими изотопами на лекциях по химии!
– Значит, то были другие изотопы, химические. Но что капитан Дорнбергер – физик, это совершенно точно. Я хорошо его знаю, он зять моего бывшего принципала, доктора Герстенмайера.