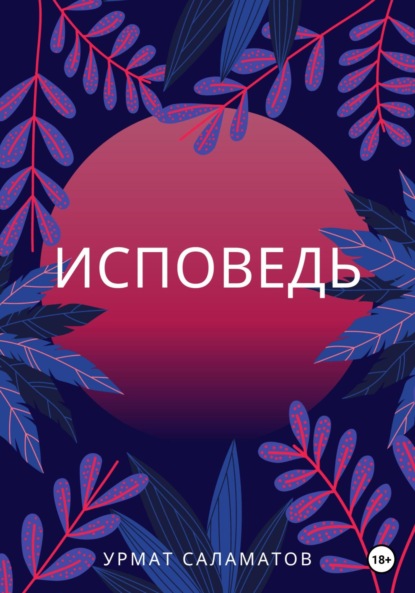По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Исповедь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Исповедь
Урмат Саламатович Саламатов
На страницах сборника вы встретите рассказы которые повествуют о перипетиях, что раз и навсегда меняют жизни. О любви родственников и то, чем они жертвуют ради любимых людей. О любви неизведанной, о родственных душах и необъяснимых искрах, что раз сверкнув сжигают всю оставшуюся жизнь. Об отцах и их любви к детям. О бытовых заботах, что мешают нам мечтать. О девочке, которая переживает трудности в семье. О том, что выше понимания, стереотипов, предрассудков.
Урмат Саламатов
Исповедь
Последний день солнца
рассказ
Где–то видела «технику счастливой жизни» – пишешь все синяки внутри себя на бумаге, а потом сжигаешь листочек. Говорят, помогает – прошлое отпускает. Ну что ж пробую!..
1
Родители ругались. Постоянно. Как звери за территорию. Слово за слово и уже кричали с пеной у рта. Истерили. Шипели, как кипятильники без воды. Обязательно ломали что–нибудь – посуду или мебель. Махали руками, закрывали ладонями лица, вздымали головы, закатывали глаза. Как в театре. И я – актриса второго плана, которую не замечали главные герои драмы, самоотверженно отыгрывала свою роль – металась между ними, пытаясь успокоить и примирить. А заканчивали всегда тем, что Папа багровел до потери здоровья и вне себя обвинял Маму в бесплодии. Когда она не в силах ничего ответить, прятала лицо и уходила в другую комнату, он минут десять ходил кругами от одной стены к противоположенной, недовольно качал головой и еле слышно шептал что–то. Брови его, будто спаянные воедино не могли разойтись. В таком состоянии он ложился спать. До утра тяжело, отрывисто дышал и стонал во сне.
Уложив Папу и, убедившись, что ему ничего смертельного не угрожает, я прокрадывалась в объятия Мамы. Прижималась к груди, гладила по спине и пыталась успокоить. После ссор она по обыкновению не спала ночами. Смотрела отсутствующим взглядом через пол, будто дьявола в глаза проклинала. А на меня и не взглянет. Слова не выронит. Лишь изредка произносила: «Спи родная. Я еще чуть–чуть посижу…». Иногда я засыпала, но чаще не могла оставить ее одну и всхлипывала вместе с ней, чувствуя себя виноватой…
В день моего рождения Мама потеряла много крови и чудом выкарабкалась. Врачи долго боролись, но сохранить божественную искру не смогли. С тех пор она утратила возможность носить под сердцем детей. Это очень огорчало Папу. Он стал выпивать. И драться…
Папа в юности был чемпионом города по карате. Не думаю, что он растерял навыки, просто ему нравилось, когда его бьют. Что–то он от этого получал, как будто батареи внутри себя подзаряжал. Бывало кричат на улице: «Бей его!», «Сильнее!», «Во! Ух, хорошо». Мы с Мамой выбегали на балкон поглядеть что случилось, а там Папа против троих дерется. Ну, как дерется?.. «Бей его!» – те трое кричат, а «Сильнее!» и «Во! Ух, хорошо» – Папа. На утро весь в синяках, ссадинах сидел в кресле, читал газету, а у самого улыбка не сходит с лица, как будто выиграл в лотерею.
Мы даже научились предугадывать, когда состоятся Папины бои. Сначала он грустил. Понурив голову мог часами смотреть в газету, не переворачивая страниц. Часто не отвечал на мои вопросы, не откликался на зов Мамы пока она не ткнет его в плечо. И даже тогда, он будто в тумане долго искал глазами, переспрашивал и только потом отвечал. Затем, он ссорился с Мамой. Уходил из дома, чтобы найти противника и избить своим лицом его кулаки. Так повторялось по кругу и непременно в этой последовательности. Одно вытекало из другого.
Только сейчас, спустя тридцать лет, мне стало понятно почему Папа давал себя бить. Точнее, хочется верить – он винил себя за то, что ведет себя так с любящей женой на глазах любимой дочери. Мне думается, он не мог рассказать о своем чувстве вины, извиниться перед нами, чтобы не казаться слабым. Ах, эти дурацкие стереотипы о том, что мужчина не должен извиняться. Не извиняться значит быть сильным. Брутальным. Это бабушка его таким воспитала. Но, даже ей не удалось изменить натуру и переписать душу Папы.
Его мучили последствия своих действий – агрессии. Он понимал, что каждая ссора рушит семью, но ничего не мог с собою поделать, когда злился. А из–за того, что доктора поставили крест на его мечтах о сыне, он большую часть времени злился. Неосознанно. Не специально. Он совершал поступок, а потом убивался, укоряя себя за то, что не смог с собою совладать и проклинал себя за низость – за то, что опустился до уровня животного, оскорбляя и обвиняя любимых в том, в чем они не виноваты. Он не мог сам избавиться от этих мыслей, сам себя наказать или избить физически. Поэтому он находчиво маскировал драками свои лечебные терапии. Находил людей, которые помогали ему избавиться от мыслей, выбивая их, из его головы.
Вообще, мужчинам конечно легче. Они могут напиться. Подраться. И еще кучу вещей им можно, чтобы выпустить накопившееся и ослабить давление на плотину души. Нам – женщинам с этим приходится тяжелее. Да и вообще, нам в жизни труднее: стирать, гладить, готовить, дом в чистоте содержать и, умирая с тряпкой в руках еще быть красивой – желательно, когда моешь пол, чтобы лицо не потело, а то макияж потечет, на колени не вставать, чтобы платье не помять и губы от обиды не кусать – помаду зря не переводить. Про роды, детей, кормление – вся в молоке, многогодовой недосып вообще молчу. Семейный очаг хранить тоже мы должны и, если тухнет от того, что в него мужчина мочится – все равно мы виноваты. А если, совершенно вдруг, так, невзначай, плохо стало на душе, то только поплакать позволено. И все. Вот Мама и плакала. Много плакала. И я. Слезы уже не помогали. И не рассказывала она никому. Ни бабушке с дедушкой. Ни подругам. И со мною не говорила. Наверняка думала – маленькая еще. А я тогда уже – будучи пятиклассницей – все понимала. Несправедливо. И мне было обидно за нее до царапающих, черных кошек внутри. Главное, было бы за что на нее сердиться! Вот, в чем была ее вина? В том, что Бог не давал ей детей? А?.. И сделать она ничего не могла. Бедная. А ведь, никто не мог. Ни врачи, ни целители, ни народная медицина с их проверенными штучками. Вот и ходили все – страдали. Папа от того, что не было наследника. Мама от того, что подвергалась моральным пыткам из–за неспособности осчастливить мужа и подарить ему сына. Она постоянно винила себя во всем и была уверена, если сумела бы вопреки воле с небес родить братика, то черная полоса сменилась бы белой. И вся семья зажила бы счастливо. Без ссор. Без драк. Без постоянной, ядовитой, отравляющей злости внутри каждого из нас.
Мне всегда не хватало тех минут, когда ты полностью свободна. Ничего не волнует и ты отдаешься с головой в то, что делаешь. Я никогда не каталась на качелях вдоволь. Вот шла домой со школы, видела качели и думала: «Дай–ка покачаюсь». Раскачивалась и начинала радоваться тому, что колышутся бантики на голове, разлетаются косы, развивается платьишко. Я ощущала себя маленькой, пыльной тумбочкой, с которой дуновения ветра сдувают накопившуюся пыль, и чем сильнее я раскачивалась, тем чище, свободней становилась. Я запрокидывала голову и видела чистое – без единого облачка – голубое небо. Мне казалось, что не законы физики, а именно оно – небо качает меня своими невидимыми, необъятными руками. Стоило мне закрыть глаза, чтобы насладится полетом, вдруг, я как наяву видела сцены домашних ссор. Пробуждаясь, будто от плохого сна, я спрыгивала с качели и бежала домой. По пути трясла головой, чтобы прогнать дурные мысли. Те самые, которые по наследству передались мне от Папы. Только вот, от них так просто не избавиться. Они–то и есть настоящие убийцы развлечений. Чем бы я ни была занята, даже чем–то очень интересным, они – мысли, не оставляли в покое. Тогда, у них даже появились цвета. Серые – ссора, крики, оскорбления. Тёмно–серые – драка, синяк, разбитая губа. И черные – свернула шею (паралич), порвалась селезенка от удара (кровоизлияние, трубка), вытек глаз (слепота) или смертельный исход (повесилась, выпрыгнула из окна, перерезала вены). Конечно, цвета этих мыслей существовали только в моей голове. И я научилась терпеть серые мысли. Закрывать глаза на темно–серые. Но когда приходили черные я невольно вздрагивала, сердце билось – не успокоить, грудь сдавливало так, что тяжело дышалось. Тогда бросала все и бежала домой. И вот знала – дело во мне, но проскальзывало предательское: «А, вдруг!..», и я уже мчалась на помощь, не жалея сандалий и белых колготок.
В реальности, в нашей семье цвета мыслей никогда не воплощались в жизнь дальше серых. Не хвастаюсь. Просто это – так! Честно!
Так я и жила в то время. Хоть и было невыносимо, а все же лучше, чем сейчас… Э–эх! Если бы я только знала, посмела бы желать?..
Иногда жутко хотелось погулять с одноклассницами, поболтать о неважных пустяках, поиграть в «догонялки» с мальчишками или в «резиночки» с девочками, а не могла. Только начинала вливаться в коллектив, как окутывали эти самые – дурные мысли и я, как льва увидевшая бежала домой. Так и получила свои прозвища – чудачка, дикарка. А, вот еще хорошее вспомнила – полоумная. Впервые, услышав это слово я понятия не имела, что оно означает. Когда меня нарекли полоумной я подумала, что это комплимент. Подумала, оно значит – полом умная, женским полом умная. Даже спасибо сказала. Радует, что тихо произнесла, и никто не услышал.
Ладно бы, если терпела все эти презрительные взгляды неодобрения, осуждения ради какой–то великой цели. Любви, например. А тут… приходила домой, где холодная война в разгаре. Слова под запретом, иначе битва проиграна. Кто добрым взглядом наградил врага, тот предал себя. Во имя чего бы то ни было милость проронил – расстрел. Желчью захлебываются и прям до умопомрачения соревнуются. Как в игре – «Кто дольше», только на кону больше. А черти – восседающие на шкафу зрители – смеются, кувыркаются, хлопают в ладоши, пляшут и радуются представлению, как рождественской песне в злобе.
В эти моменты обострения со мной были холодны. Редко говорили предложениями. Били словом, словно кнутом секли. Коротко. Хлестко. Тем самым не давали повода врагу радоваться от пророненных слов, которые собирало, словно сонар, чуткое ухо бойкотируемой стороны.
И ничего не могла я сделать с ситуацией в доме, что разум мой подавлял и душу терзал. А от этого и сама страдала. По ночам ворочалась, не спала, бесконечными мыслями отравленная. И в школе на уроках многое пролетало мимо ушей. Ничто не радовало. Ничего не хотелось. И даже, когда интересно было не могла забыть про Мамины слезы и страдания Папы. Когда смешное что–то случалось не могла смеяться во весь голос, только хихикну пару раз и то становилось не по себе. Как будто предала, променяла семью, любимых ради потех мимолетных. Тут горе у семьи – несчастна она, а мне видите ли не до этого, я веселюсь.
Учителя те, что из хороших видели неладное и заботливо оставляли после уроков. Наедине пытали, как пленного своими расспросами. А что я могла им сказать?.. Ничего. А что учителя смогли бы сделать? Ничего. Чем смогли бы помочь, если я им все рассказала? Ничем. И все равно спасибо им за внимание. Приятно было ощущать себя видимой. А ведь, были и злые учителя: «Але! Очнись, Жезай! Все время где–то летаешь. Небось, все о принце мечтаешь?». Эх, знала бы Марина Витальевна, что мечтала я о братике, который положил бы конец нашим семейным ненастьям, никогда бы не стала так говорить. Но она и знать не хотела. Никогда не останавливалась, пока не доходила до крайности – ее личного триумфа. Пока не обидит каждую клетку существа моего. Пока не сыграет на сокровенных струнах души мелодию, оскверняющий сам инструмент. Пока не заставит убиваться и плакать. А когда достигала цели – испивала кровь до костей, в назидание другим, не успокаивая меня, хладнокровно продолжала урок. Чуть не забыла, вот еще, ее фирменное: «Знай! Дурочек принцы не любят. Будешь так сидеть, обязательно дурой вырастешь. Поверь мне, я знаю. Видела таких. Сначала сидят в школах вот так, как ты. А потом, когда подрастут на панель идут… И вид у тебя усталый. Че ночью делаешь? Работаешь что ли?». И обязательно кто–нибудь из одноклассников выкрикивал: «Грузчиком». Весь класс смеялся, а я со стыда и обиды сгорала, солеными соплями давилась, щеки обжигали горькие слезы и все рукава до предплечья были мокрые от них. Сама виновата. Нет бы встать и на весь класс осадить шутника. Правдой своей жизни пристыдить горе–учительницу. Вылить чувства свои, чтобы их тяжестью утопить навсегда проклятых врагов. Чтоб в соленом море жизни моем штормовом захлебнулись их крохотные души. Но нет. Сидела в клубочек сжавшись, голову опустив, молчала как небо немо, когда обращаешься к нему с мольбами.
2
Как сейчас помню тот день…
Я, как обычно, прибежала домой впопыхах, вся в тревоге от своих страшных мыслей. Не успела снять сандалий, как Мама обругала за грязь на колготках и следы брызг на юбке.
– Что за вид?! Посмотри на себя. Ты что в луже купалась?
Мама была в своем черном платье–тунике, которое одевала только на выход. В прихожей смиренно дожидались нежных ног Мамы того же цвета туфли, также давно не видавшие света. Это наблюдение заставило меня справится о Папе.
– Он ушел – безапелляционно отрезала Мама.
– Куда? – робко спросила я.
– Откуда я знаю. Переодевайся скорей, опаздываем уже! – сдернула с меня портфель.
– Куда?
– Куда! Куда! Одевайся тебе говорят.
Далее, я повиновалась без возражений, но молчание только усиливало тревогу. Неизвестность всегда порождала во мне дурные мысли и сомнения. Мама была чрезвычайно возбуждена. Быстро двигалась. Невпопад перебирала ногами в одну, то в другую стороны, словно многочисленные нерешенные задачи, требующие неустанного внимания, перекрывала другая, вновь пришедшая на ум и более важная мысль. Когда искала мои колготки, она опрокинула на пол сложенные в шкафу вещи и не стала укладывать их обратно. Это было очень на нее не похоже. Складывалось впечатление, что нас преследуют и мы не успеваем убежать. «Будь Папа рядом мы не стали бы спасаться бегством. Может мы бежим из–за него? От него?» – вдруг промелькнуло в голове. Не успела я ответить на свои вопросы, как упала на колени и протянув руки к матери стала плакать и просить:
– Пожалуйста Мам, давай останемся… Я не хочу никуда уходить. А Папа?
– Совсем больная что ли? Что Папа?
– Я знаю, он ведет себя плохо. Иногда. Но, он хороший. Пожалуйста, Мама, мы не можем его бросить. Он не сможет без нас.
Мама встала на колени и обняла меня, прижав к груди.
– Не хочу, чтобы ты от него уходила. Не хочу его терять. Не хочу… Не хочу. Не хочу!
– Дунька! – сказала Мама и засмеялась. – Все, перестань. Никуда мы от Папы не уходим. Наоборот, ради него идем. В одно очень интересное место… самой не терпится увидеть. И тебе понравится. Нет времени объяснять. Пусть это будет сюрпризом для нас обоих. Давай скорее. Опаздываем.
– Обещаешь?.. – я вскинула голову и всмотрелась ей в глаза.
– Обещаю! – она улыбнулась и тонкими, холодными пальцами легонько ущипнула меня за щеку.
Мы наскоро оделись и отправились в путь навстречу неизведанному. Тому повороту в жизни, преодолев который, оставляешь весь пройденный путь позади в незримом прошлом. После, которого дорога жизни делится на «до» и «после».
Мы ехали в автобусе. Никого из пассажиров не осталось, кроме нас. Водитель заглушил мотор и в недоумении уставился на Маму через стекло заднего вида. Она, как обычно, сильно задумалась и не заметила, что мы приехали. Не успела я одернуть ее, как водитель крикнул: «Але! Конечная, как бы?!». Мы наспех покинули утопающий корабль, капитан которого закрыл посудину и бросился в местную столовую. Оказавшись за городом, где маленькие горы из окон нашей квартиры стали большими, Мама достала из сумки клочок бумажки. Развернула его и, прочитав адрес, стала глядеть по сторонам. После, справилась у прохожего о маршруте. Тот долго что–то объяснял, а в конце указал пальцем в сторону единственного, крохотного домика на вершине небольшой горы.
Мама посмотрела на нужный нам домик. Тяжело вздохнула. Затем, поблагодарив за помощь, сделала несколько шагов и замерла в раздумьях. Резко встрепенувшись со словами: «Ай, ладно! Раз уж приехали… Не ехать же обратно» потянула меня в сторону аула, через который лежал путь к вершине горы.
На протяжении всего пути местные жители – бабушки, сидящие на самодельных, деревянных скамейках, дедушки, идущие мимо сгорбившись и заложив руки за спину, пастухи на конях, погоняющие отару овец, мальчишки, играющие в футбол, пиная пластмассовую бутылку вместо мяча, женщины, копающиеся с тяпками в огороде – с улыбкой приветствуя, подсказывали нам путь. И даже с их помощью нам пришлось идти больше часа по грязи бездорожья. Торчащие из земли камни то и дело норовили нас опрокинуть наземь. Я поскользнулась и потянула Маму за собой. Она ушибла колено. Схватившись руками за ногу корчилась от боли и горько охала. Массируя ногу, я предложила ей вернуться домой и хотела позвать на помощь, но она отказалась. И уже через несколько минут была полна решимости идти дальше. «Наверное, очень интересное место» – подумала я.
Когда аул остался позади, пред нами предстала небольшая сопка. Узкая тропинка вела к домику на вершине. Заросшая поросль, очистила от грязи нашу обувь и покрасила мои колготы в зеленый цвет пока мы дошли.
Сказать, что подъем – крутой – ни сказать ничего. Мы стояли перед дверью деревянного домика и не могли отдышаться. Взмокшие до нижнего белья, с заложенными от давления ушами слышали, как бьются наши сердца. И все же, я успела запомнить окрашенные в синий цвет окна – единственный отголосок искусственности в этом месте. Все остальное в одноэтажном домике – стены, крыша, навес, крыльцо, лестница – были выполнены из дерева. Дом был таким старым, что даже древесина потеряла свой первоначальный цвет и стала маслянисто–черной. Казалось, что он выстоял так долго только из–за того, что сильный ветер обижен на этот домик и видеть его не желает.
Не успели мы взойти на крыльцо, лестница заскрипела как веселый, но бездарный оркестр, состоящий из трех человек и одного инструмента. В дверях появилась маленького роста бабка с виду лет шестидесяти, укутанная в белый, вязаный, шерстяной платок поверх джемпера. Обута была в блестящие лакированные галоши, будто новые. Ноги прикрывала широкая, толстого покроя юбка, цветом напоминавшая запекшуюся кровь.
Урмат Саламатович Саламатов
На страницах сборника вы встретите рассказы которые повествуют о перипетиях, что раз и навсегда меняют жизни. О любви родственников и то, чем они жертвуют ради любимых людей. О любви неизведанной, о родственных душах и необъяснимых искрах, что раз сверкнув сжигают всю оставшуюся жизнь. Об отцах и их любви к детям. О бытовых заботах, что мешают нам мечтать. О девочке, которая переживает трудности в семье. О том, что выше понимания, стереотипов, предрассудков.
Урмат Саламатов
Исповедь
Последний день солнца
рассказ
Где–то видела «технику счастливой жизни» – пишешь все синяки внутри себя на бумаге, а потом сжигаешь листочек. Говорят, помогает – прошлое отпускает. Ну что ж пробую!..
1
Родители ругались. Постоянно. Как звери за территорию. Слово за слово и уже кричали с пеной у рта. Истерили. Шипели, как кипятильники без воды. Обязательно ломали что–нибудь – посуду или мебель. Махали руками, закрывали ладонями лица, вздымали головы, закатывали глаза. Как в театре. И я – актриса второго плана, которую не замечали главные герои драмы, самоотверженно отыгрывала свою роль – металась между ними, пытаясь успокоить и примирить. А заканчивали всегда тем, что Папа багровел до потери здоровья и вне себя обвинял Маму в бесплодии. Когда она не в силах ничего ответить, прятала лицо и уходила в другую комнату, он минут десять ходил кругами от одной стены к противоположенной, недовольно качал головой и еле слышно шептал что–то. Брови его, будто спаянные воедино не могли разойтись. В таком состоянии он ложился спать. До утра тяжело, отрывисто дышал и стонал во сне.
Уложив Папу и, убедившись, что ему ничего смертельного не угрожает, я прокрадывалась в объятия Мамы. Прижималась к груди, гладила по спине и пыталась успокоить. После ссор она по обыкновению не спала ночами. Смотрела отсутствующим взглядом через пол, будто дьявола в глаза проклинала. А на меня и не взглянет. Слова не выронит. Лишь изредка произносила: «Спи родная. Я еще чуть–чуть посижу…». Иногда я засыпала, но чаще не могла оставить ее одну и всхлипывала вместе с ней, чувствуя себя виноватой…
В день моего рождения Мама потеряла много крови и чудом выкарабкалась. Врачи долго боролись, но сохранить божественную искру не смогли. С тех пор она утратила возможность носить под сердцем детей. Это очень огорчало Папу. Он стал выпивать. И драться…
Папа в юности был чемпионом города по карате. Не думаю, что он растерял навыки, просто ему нравилось, когда его бьют. Что–то он от этого получал, как будто батареи внутри себя подзаряжал. Бывало кричат на улице: «Бей его!», «Сильнее!», «Во! Ух, хорошо». Мы с Мамой выбегали на балкон поглядеть что случилось, а там Папа против троих дерется. Ну, как дерется?.. «Бей его!» – те трое кричат, а «Сильнее!» и «Во! Ух, хорошо» – Папа. На утро весь в синяках, ссадинах сидел в кресле, читал газету, а у самого улыбка не сходит с лица, как будто выиграл в лотерею.
Мы даже научились предугадывать, когда состоятся Папины бои. Сначала он грустил. Понурив голову мог часами смотреть в газету, не переворачивая страниц. Часто не отвечал на мои вопросы, не откликался на зов Мамы пока она не ткнет его в плечо. И даже тогда, он будто в тумане долго искал глазами, переспрашивал и только потом отвечал. Затем, он ссорился с Мамой. Уходил из дома, чтобы найти противника и избить своим лицом его кулаки. Так повторялось по кругу и непременно в этой последовательности. Одно вытекало из другого.
Только сейчас, спустя тридцать лет, мне стало понятно почему Папа давал себя бить. Точнее, хочется верить – он винил себя за то, что ведет себя так с любящей женой на глазах любимой дочери. Мне думается, он не мог рассказать о своем чувстве вины, извиниться перед нами, чтобы не казаться слабым. Ах, эти дурацкие стереотипы о том, что мужчина не должен извиняться. Не извиняться значит быть сильным. Брутальным. Это бабушка его таким воспитала. Но, даже ей не удалось изменить натуру и переписать душу Папы.
Его мучили последствия своих действий – агрессии. Он понимал, что каждая ссора рушит семью, но ничего не мог с собою поделать, когда злился. А из–за того, что доктора поставили крест на его мечтах о сыне, он большую часть времени злился. Неосознанно. Не специально. Он совершал поступок, а потом убивался, укоряя себя за то, что не смог с собою совладать и проклинал себя за низость – за то, что опустился до уровня животного, оскорбляя и обвиняя любимых в том, в чем они не виноваты. Он не мог сам избавиться от этих мыслей, сам себя наказать или избить физически. Поэтому он находчиво маскировал драками свои лечебные терапии. Находил людей, которые помогали ему избавиться от мыслей, выбивая их, из его головы.
Вообще, мужчинам конечно легче. Они могут напиться. Подраться. И еще кучу вещей им можно, чтобы выпустить накопившееся и ослабить давление на плотину души. Нам – женщинам с этим приходится тяжелее. Да и вообще, нам в жизни труднее: стирать, гладить, готовить, дом в чистоте содержать и, умирая с тряпкой в руках еще быть красивой – желательно, когда моешь пол, чтобы лицо не потело, а то макияж потечет, на колени не вставать, чтобы платье не помять и губы от обиды не кусать – помаду зря не переводить. Про роды, детей, кормление – вся в молоке, многогодовой недосып вообще молчу. Семейный очаг хранить тоже мы должны и, если тухнет от того, что в него мужчина мочится – все равно мы виноваты. А если, совершенно вдруг, так, невзначай, плохо стало на душе, то только поплакать позволено. И все. Вот Мама и плакала. Много плакала. И я. Слезы уже не помогали. И не рассказывала она никому. Ни бабушке с дедушкой. Ни подругам. И со мною не говорила. Наверняка думала – маленькая еще. А я тогда уже – будучи пятиклассницей – все понимала. Несправедливо. И мне было обидно за нее до царапающих, черных кошек внутри. Главное, было бы за что на нее сердиться! Вот, в чем была ее вина? В том, что Бог не давал ей детей? А?.. И сделать она ничего не могла. Бедная. А ведь, никто не мог. Ни врачи, ни целители, ни народная медицина с их проверенными штучками. Вот и ходили все – страдали. Папа от того, что не было наследника. Мама от того, что подвергалась моральным пыткам из–за неспособности осчастливить мужа и подарить ему сына. Она постоянно винила себя во всем и была уверена, если сумела бы вопреки воле с небес родить братика, то черная полоса сменилась бы белой. И вся семья зажила бы счастливо. Без ссор. Без драк. Без постоянной, ядовитой, отравляющей злости внутри каждого из нас.
Мне всегда не хватало тех минут, когда ты полностью свободна. Ничего не волнует и ты отдаешься с головой в то, что делаешь. Я никогда не каталась на качелях вдоволь. Вот шла домой со школы, видела качели и думала: «Дай–ка покачаюсь». Раскачивалась и начинала радоваться тому, что колышутся бантики на голове, разлетаются косы, развивается платьишко. Я ощущала себя маленькой, пыльной тумбочкой, с которой дуновения ветра сдувают накопившуюся пыль, и чем сильнее я раскачивалась, тем чище, свободней становилась. Я запрокидывала голову и видела чистое – без единого облачка – голубое небо. Мне казалось, что не законы физики, а именно оно – небо качает меня своими невидимыми, необъятными руками. Стоило мне закрыть глаза, чтобы насладится полетом, вдруг, я как наяву видела сцены домашних ссор. Пробуждаясь, будто от плохого сна, я спрыгивала с качели и бежала домой. По пути трясла головой, чтобы прогнать дурные мысли. Те самые, которые по наследству передались мне от Папы. Только вот, от них так просто не избавиться. Они–то и есть настоящие убийцы развлечений. Чем бы я ни была занята, даже чем–то очень интересным, они – мысли, не оставляли в покое. Тогда, у них даже появились цвета. Серые – ссора, крики, оскорбления. Тёмно–серые – драка, синяк, разбитая губа. И черные – свернула шею (паралич), порвалась селезенка от удара (кровоизлияние, трубка), вытек глаз (слепота) или смертельный исход (повесилась, выпрыгнула из окна, перерезала вены). Конечно, цвета этих мыслей существовали только в моей голове. И я научилась терпеть серые мысли. Закрывать глаза на темно–серые. Но когда приходили черные я невольно вздрагивала, сердце билось – не успокоить, грудь сдавливало так, что тяжело дышалось. Тогда бросала все и бежала домой. И вот знала – дело во мне, но проскальзывало предательское: «А, вдруг!..», и я уже мчалась на помощь, не жалея сандалий и белых колготок.
В реальности, в нашей семье цвета мыслей никогда не воплощались в жизнь дальше серых. Не хвастаюсь. Просто это – так! Честно!
Так я и жила в то время. Хоть и было невыносимо, а все же лучше, чем сейчас… Э–эх! Если бы я только знала, посмела бы желать?..
Иногда жутко хотелось погулять с одноклассницами, поболтать о неважных пустяках, поиграть в «догонялки» с мальчишками или в «резиночки» с девочками, а не могла. Только начинала вливаться в коллектив, как окутывали эти самые – дурные мысли и я, как льва увидевшая бежала домой. Так и получила свои прозвища – чудачка, дикарка. А, вот еще хорошее вспомнила – полоумная. Впервые, услышав это слово я понятия не имела, что оно означает. Когда меня нарекли полоумной я подумала, что это комплимент. Подумала, оно значит – полом умная, женским полом умная. Даже спасибо сказала. Радует, что тихо произнесла, и никто не услышал.
Ладно бы, если терпела все эти презрительные взгляды неодобрения, осуждения ради какой–то великой цели. Любви, например. А тут… приходила домой, где холодная война в разгаре. Слова под запретом, иначе битва проиграна. Кто добрым взглядом наградил врага, тот предал себя. Во имя чего бы то ни было милость проронил – расстрел. Желчью захлебываются и прям до умопомрачения соревнуются. Как в игре – «Кто дольше», только на кону больше. А черти – восседающие на шкафу зрители – смеются, кувыркаются, хлопают в ладоши, пляшут и радуются представлению, как рождественской песне в злобе.
В эти моменты обострения со мной были холодны. Редко говорили предложениями. Били словом, словно кнутом секли. Коротко. Хлестко. Тем самым не давали повода врагу радоваться от пророненных слов, которые собирало, словно сонар, чуткое ухо бойкотируемой стороны.
И ничего не могла я сделать с ситуацией в доме, что разум мой подавлял и душу терзал. А от этого и сама страдала. По ночам ворочалась, не спала, бесконечными мыслями отравленная. И в школе на уроках многое пролетало мимо ушей. Ничто не радовало. Ничего не хотелось. И даже, когда интересно было не могла забыть про Мамины слезы и страдания Папы. Когда смешное что–то случалось не могла смеяться во весь голос, только хихикну пару раз и то становилось не по себе. Как будто предала, променяла семью, любимых ради потех мимолетных. Тут горе у семьи – несчастна она, а мне видите ли не до этого, я веселюсь.
Учителя те, что из хороших видели неладное и заботливо оставляли после уроков. Наедине пытали, как пленного своими расспросами. А что я могла им сказать?.. Ничего. А что учителя смогли бы сделать? Ничего. Чем смогли бы помочь, если я им все рассказала? Ничем. И все равно спасибо им за внимание. Приятно было ощущать себя видимой. А ведь, были и злые учителя: «Але! Очнись, Жезай! Все время где–то летаешь. Небось, все о принце мечтаешь?». Эх, знала бы Марина Витальевна, что мечтала я о братике, который положил бы конец нашим семейным ненастьям, никогда бы не стала так говорить. Но она и знать не хотела. Никогда не останавливалась, пока не доходила до крайности – ее личного триумфа. Пока не обидит каждую клетку существа моего. Пока не сыграет на сокровенных струнах души мелодию, оскверняющий сам инструмент. Пока не заставит убиваться и плакать. А когда достигала цели – испивала кровь до костей, в назидание другим, не успокаивая меня, хладнокровно продолжала урок. Чуть не забыла, вот еще, ее фирменное: «Знай! Дурочек принцы не любят. Будешь так сидеть, обязательно дурой вырастешь. Поверь мне, я знаю. Видела таких. Сначала сидят в школах вот так, как ты. А потом, когда подрастут на панель идут… И вид у тебя усталый. Че ночью делаешь? Работаешь что ли?». И обязательно кто–нибудь из одноклассников выкрикивал: «Грузчиком». Весь класс смеялся, а я со стыда и обиды сгорала, солеными соплями давилась, щеки обжигали горькие слезы и все рукава до предплечья были мокрые от них. Сама виновата. Нет бы встать и на весь класс осадить шутника. Правдой своей жизни пристыдить горе–учительницу. Вылить чувства свои, чтобы их тяжестью утопить навсегда проклятых врагов. Чтоб в соленом море жизни моем штормовом захлебнулись их крохотные души. Но нет. Сидела в клубочек сжавшись, голову опустив, молчала как небо немо, когда обращаешься к нему с мольбами.
2
Как сейчас помню тот день…
Я, как обычно, прибежала домой впопыхах, вся в тревоге от своих страшных мыслей. Не успела снять сандалий, как Мама обругала за грязь на колготках и следы брызг на юбке.
– Что за вид?! Посмотри на себя. Ты что в луже купалась?
Мама была в своем черном платье–тунике, которое одевала только на выход. В прихожей смиренно дожидались нежных ног Мамы того же цвета туфли, также давно не видавшие света. Это наблюдение заставило меня справится о Папе.
– Он ушел – безапелляционно отрезала Мама.
– Куда? – робко спросила я.
– Откуда я знаю. Переодевайся скорей, опаздываем уже! – сдернула с меня портфель.
– Куда?
– Куда! Куда! Одевайся тебе говорят.
Далее, я повиновалась без возражений, но молчание только усиливало тревогу. Неизвестность всегда порождала во мне дурные мысли и сомнения. Мама была чрезвычайно возбуждена. Быстро двигалась. Невпопад перебирала ногами в одну, то в другую стороны, словно многочисленные нерешенные задачи, требующие неустанного внимания, перекрывала другая, вновь пришедшая на ум и более важная мысль. Когда искала мои колготки, она опрокинула на пол сложенные в шкафу вещи и не стала укладывать их обратно. Это было очень на нее не похоже. Складывалось впечатление, что нас преследуют и мы не успеваем убежать. «Будь Папа рядом мы не стали бы спасаться бегством. Может мы бежим из–за него? От него?» – вдруг промелькнуло в голове. Не успела я ответить на свои вопросы, как упала на колени и протянув руки к матери стала плакать и просить:
– Пожалуйста Мам, давай останемся… Я не хочу никуда уходить. А Папа?
– Совсем больная что ли? Что Папа?
– Я знаю, он ведет себя плохо. Иногда. Но, он хороший. Пожалуйста, Мама, мы не можем его бросить. Он не сможет без нас.
Мама встала на колени и обняла меня, прижав к груди.
– Не хочу, чтобы ты от него уходила. Не хочу его терять. Не хочу… Не хочу. Не хочу!
– Дунька! – сказала Мама и засмеялась. – Все, перестань. Никуда мы от Папы не уходим. Наоборот, ради него идем. В одно очень интересное место… самой не терпится увидеть. И тебе понравится. Нет времени объяснять. Пусть это будет сюрпризом для нас обоих. Давай скорее. Опаздываем.
– Обещаешь?.. – я вскинула голову и всмотрелась ей в глаза.
– Обещаю! – она улыбнулась и тонкими, холодными пальцами легонько ущипнула меня за щеку.
Мы наскоро оделись и отправились в путь навстречу неизведанному. Тому повороту в жизни, преодолев который, оставляешь весь пройденный путь позади в незримом прошлом. После, которого дорога жизни делится на «до» и «после».
Мы ехали в автобусе. Никого из пассажиров не осталось, кроме нас. Водитель заглушил мотор и в недоумении уставился на Маму через стекло заднего вида. Она, как обычно, сильно задумалась и не заметила, что мы приехали. Не успела я одернуть ее, как водитель крикнул: «Але! Конечная, как бы?!». Мы наспех покинули утопающий корабль, капитан которого закрыл посудину и бросился в местную столовую. Оказавшись за городом, где маленькие горы из окон нашей квартиры стали большими, Мама достала из сумки клочок бумажки. Развернула его и, прочитав адрес, стала глядеть по сторонам. После, справилась у прохожего о маршруте. Тот долго что–то объяснял, а в конце указал пальцем в сторону единственного, крохотного домика на вершине небольшой горы.
Мама посмотрела на нужный нам домик. Тяжело вздохнула. Затем, поблагодарив за помощь, сделала несколько шагов и замерла в раздумьях. Резко встрепенувшись со словами: «Ай, ладно! Раз уж приехали… Не ехать же обратно» потянула меня в сторону аула, через который лежал путь к вершине горы.
На протяжении всего пути местные жители – бабушки, сидящие на самодельных, деревянных скамейках, дедушки, идущие мимо сгорбившись и заложив руки за спину, пастухи на конях, погоняющие отару овец, мальчишки, играющие в футбол, пиная пластмассовую бутылку вместо мяча, женщины, копающиеся с тяпками в огороде – с улыбкой приветствуя, подсказывали нам путь. И даже с их помощью нам пришлось идти больше часа по грязи бездорожья. Торчащие из земли камни то и дело норовили нас опрокинуть наземь. Я поскользнулась и потянула Маму за собой. Она ушибла колено. Схватившись руками за ногу корчилась от боли и горько охала. Массируя ногу, я предложила ей вернуться домой и хотела позвать на помощь, но она отказалась. И уже через несколько минут была полна решимости идти дальше. «Наверное, очень интересное место» – подумала я.
Когда аул остался позади, пред нами предстала небольшая сопка. Узкая тропинка вела к домику на вершине. Заросшая поросль, очистила от грязи нашу обувь и покрасила мои колготы в зеленый цвет пока мы дошли.
Сказать, что подъем – крутой – ни сказать ничего. Мы стояли перед дверью деревянного домика и не могли отдышаться. Взмокшие до нижнего белья, с заложенными от давления ушами слышали, как бьются наши сердца. И все же, я успела запомнить окрашенные в синий цвет окна – единственный отголосок искусственности в этом месте. Все остальное в одноэтажном домике – стены, крыша, навес, крыльцо, лестница – были выполнены из дерева. Дом был таким старым, что даже древесина потеряла свой первоначальный цвет и стала маслянисто–черной. Казалось, что он выстоял так долго только из–за того, что сильный ветер обижен на этот домик и видеть его не желает.
Не успели мы взойти на крыльцо, лестница заскрипела как веселый, но бездарный оркестр, состоящий из трех человек и одного инструмента. В дверях появилась маленького роста бабка с виду лет шестидесяти, укутанная в белый, вязаный, шерстяной платок поверх джемпера. Обута была в блестящие лакированные галоши, будто новые. Ноги прикрывала широкая, толстого покроя юбка, цветом напоминавшая запекшуюся кровь.
Другие электронные книги автора Урмат Саламатович Саламатов
Дуккха




 0
0