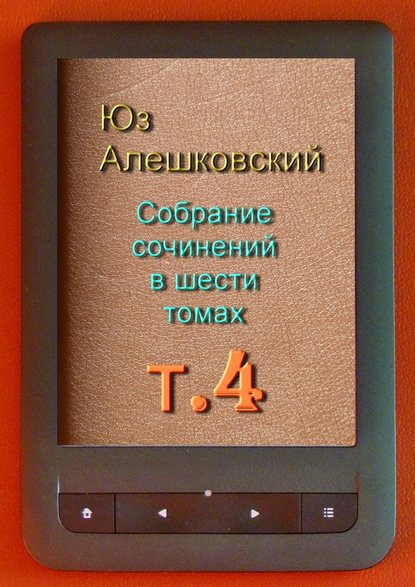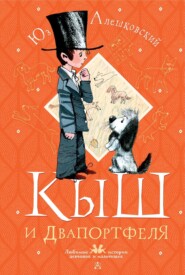По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собрание сочинений в шести томах. Том 4
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да! Я хохотал, не понимая происхождения такого смеха, относя его к помешательству, потрясению, уродству своей души. Ведь надо было не смеяться, как от еврейского анекдота, а рыдать на весь брянский лес, чтобы кровь леденела у живых существ от моего горя и ужаса. Но я летел и задыхался от смеха. Приступы хохота вдруг пощадили меня, но, когда я снова представлял, как мой командир (впоследствии оказалось, что так оно и было на самом деле) говорит немцам: «Ну уж хуюшки, ребята, своими ногами я в плен не пойду», и немцы, вынужденные с этим считаться, несут его на своих хребтинах (плечах), наживая грыжи, не бросать же на дороге такую добычу, такого задарма доставшегося осетра, веселый смех снова одолевал меня. И не он ли в конце концов, спасая душу от отчаяния, придавал мне сил и помог тогда же на бегу выбрать для спасения командира и своего лучшего будущего друга, воз, единственное правильное решение из всех, что, несмотря на хохот, разрывали мозги на части? Я растряс дрыхшего переводчика, засунул его, как кота в мешок, в фашистскую генеральскую форму, умоляя ни о чем не расспрашивать, ибо будет поздно, я все расскажу по дороге, сам напялил на себя свой фельдфебельский мундир, схватил автомат и пару пистолетов. Никто, между прочим, так и не проснулся. Все дрыхли между боями по-чапаевски, и мы полетели наперерез, через хилый березняк, минуя еловую дремучую чащу, слава богу, все под гору, под гору и, упредив немцев, поспели-таки им навстречу.
Увидев из-за кустов, как они плетутся, меняя руки, смахивая со лбов взопревших пот и зло уговаривая Федю идти своими ногами, на что он отвечал им излюбленным жестом руки, я снова задохнулся от хохота, но это уже были последние его спазмы. Теперь надо было безошибочно и артистично, чему нас, разведчиков, всегда учил наш командир, делать то, что виделось мне единственным выходом из положения, причем избегая боя, оставляя смертельный бой на самый худой конец, напоследок. На душе у меня стало светло и легко.
Даже бой, даже смерть в том бою, наша и командира, была бы уже победой.
Только не плен, Федя, только не плен, такой нелепый, смешной и, наверное, позорный. Я говорю, дорогие, «наверное», ибо в жизни нашей частенько случаются такие неподвластные мудрому и осторожному предусмотренью вещи, что определять их чисто по-прокурорски и по-комиссарски, что одно и то же, просто неприлично. Позор не тем, кто, подобно Феде, случайно попадал в плен, а позор Сталину и его безмозглым жополизам типа Ворошилова и Буденного, позор позору еврейского народа Кагановичу за то, что они – выродки – не упредили любыми способами Гитлера и бросили миллионы моих братьев-солдат фактически на произвол судьбы, на окружение, плен и уничтожение. Вот кому позор! Помните это в своей Америке, когда вы миритесь с бандитскими штучками нашей компартии в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и в Европе, помните, дорогие, чтобы с вами не повторилось то, что пережили люди Страны Советов за свою историю. Но не будем уходить в сторону. Лучше вы взгляните на нас со стороны. Выглядело это представление примерно следующим образом: я двинул как следует по шее нашему переводчику, чтобы он перестал дрожать, как овца, от страха. Мы вышли из-за ельничка с полными фуражками белых грибов (их была тьма-тьмущая в том лесу) … Немецкий генерал прогуливался по старой привычке завзятого грибника в сопровождении младшего по чину, тоже якобы любителя собирать грибки. Автоматы свои немцы сложили на носилки, рядом с Федей, и были фактически безоружны.
– Рявкай на них, – шепчу своему «генералу», – рявкай, не то живым не уйдет отсюда никто, остальное сделаю я, рявкай!
И наш переводчик Козловский, когда мы свалились немцам как снег на голову, рявкнул с генеральской раздражительностью:
– Что за карнавал, сволочи, смирна-а!
Бедняги и ужасные неудачники вытянулись в струнку, и мне этого мгновения было достаточно. «Ложись, стреляю!» – заорал я безумно громко по-немецки. Солдаты бросились наземь. Я держал их на мушке автомата.
Козловский перерезал финкой ремни на руках и ногах Феди и вытащил кляп у него изо рта – мерзко грязный носовой платок с вышитым в уголке пожеланием: «Будь здоров, Франц!»
– Вот за это я люблю жизнь, – как сейчас помню, первым делом сказал Федя и пояснил, что он любит ее за неожиданную смену гибельных ситуаций спасительными и, если уж на то пошло, то и наоборот, иначе не было бы никому и никогда спасения. Вторым делом он обшаманил (обыскал) лежащих немцев, забрал гранаты и пистолеты. Автоматы их перешли к нам. Козловский потирал руки и говорил, что все мы получим по ордену Красного Знамени, а возможно, по Александру Невскому 1-й степени. Но у меня и у Феди заныло в душе от нехороших предчувствий. Надеюсь, вы поняли, дорогие, чем это для нас пахло, если бы до командования, особенно до политотдела и гнусной контрразведки, дошла история с пленением Феди? Пока Козловский шаманил в свою очередь пленных, снимал с них, гнида, часы, кольца и отбирал сигареты, мы с Федей прикидывали: как нам теперь быть? Привести с ложными подробностями «языков» к генералу? Открылась бы самовольная отлучка из расположения части без оружия, но с удочками, пленение командира полковой разведки, дрыхшее без задних ног боевое охранение и так далее. Все это открылось бы, ибо немцы, мы прекрасно понимали, не преминули бы отомстить таким образом своим хитрым захватчикам. Я склонялся к варианту освобождения немцев. Пусть идут себе к чертовой матери обратно. Я в первом же бою верну этот долг фронту и убью четверых-пятерых немцев сверх плана. В конце концов, обращались они с Федей вполне прилично, исключая Франца, который, между прочим, от страха наложил в штаны большую кучу и отвратительно вонял, дрожа на траве всем телом. Пусть, говорю, идут себе. Ведь они тоже любят жизнь за смену гибели спасением и наоборот. Ведь и на войне может быть место великодушию и широкому жесту. Я говорил так открыто и смело со своим командиром, ибо мы дружили еще со школьной парты. «Такой вариант мне нравится, – отвечал Федя, – но неужели не ясно, что Козловский с ходу нас заложит за орден Красной Звезды, и тогда – каюк: расстрел или в лучшем случае штрафняк».
Да, подумал я, согласившись, такая мразь, как Козловский, заложит нас непременно, причем со всеми потрохами (кишки, внутренности). Интересно, как бы вы поступили на нашем месте, дорогие? Ликвидировали бы и фрицев, и Козловского? Не думаю. Если бы я мог эту сволочь не брать с собой, если бы не был мне мал генеральский мундир и если бы я знал немецкий язык, как знал его он, то, конечно, я попытался бы все сделать сам, и тогда отпустили бы мы к чертовой матери четверых идиотов, посмеялись бы от ужаса страшного воспоминания и остались бы, как говорится, при своих. Однако если бы да кабы, то не было бы в России кагэбы (наше гестапо). Пока мародер Козловский шаманил, не брезгуя, обосравшегося Франца, мы перебирали варианты и остановились на лучшем: героем вылазки должен стать Козловский, но Федя доложит начальству все, как оно было. Солжем мы только в одном: в преувеличении заслуг якобы смельчака и артиста – переводчика. Пусть он треплется в части и расписывает свою решающую роль во взятии четверых «языков».
Он был полный идиотина, и я на обратном пути внушил ему, что пленение командира всего-навсего инсценировка, заманка немцев в ловушку для того, чтобы, не сделав ни одного выстрела и не выдав дислокации в лесу полковой разведки, захватить важных гусей из спецкоманды, обслуживавшей новый тип танка. Козловский, трепясь, будет, таким образом, у нас на крючке. В общем, одна версия, решили мы, для комполка, другая для солдат.
Фрицы наши шли в плен не то чтобы охотно – они радовались, как дети, которых папы сняли с уроков и вели в гости. Францу пришлось прополоскать в реке свои штаны, сапоги и подштанники, но все равно несло от него дерьмом, как от деревенского сортира в сырую погоду. В общем, все тогда обошлось великолепно. Комполка, любивший Федю всей душой, орал, топал на него ногами, обещал сорвать погоны, отнять ордена и отдать нас обоих под трибунал, но потом налил нам спирта, сказал справедливо, что на войне все бывает и если уж судить, то судить надо кое-кого другого, на кого он сейчас не будет указывать пальцем. Безусловно, он намекал на Сталина – отвратительного и ненавистного предателя армии и страны. Я знаю, что именно так, с ненавистью и презрением, относились к нему здравомыслящие, не отупевшие от вонючей пропаганды и большевистской лжи солдаты и офицеры. Все-таки мы тогда спасали Родину. Сталина же, к нашему сожалению и к его счастью, спасли по дороге.
Итак, кончилась наша трагическая рыбалка благополучно. Козловского комполка представил к ордену, повышению в звании и отправил в другую часть.
Из следующей главы этого письма вы узнаете, что было потом, после войны, ибо написанное я должен сегодня отправить прямо в Вену с отъезжающими людьми. Не торопитесь понять, как я это делаю и почему я живу в Москве у Вовы. Всему свое время, да и читать мои письма, вероятно, интересней, чем вы мучаетесь в догадках, а что же будет дальше, что? Более того. Я теперь начинаю понимать, дорогие, почему я всю жизнь жил и живу с большим любопытством, а порой и с азартом: мне, безусловно, интересно, что же будет дальше? Мы восстановили на свою шею, оторвав средства от собственного народа, Китай. Теперь не знаем, как от него избавиться. Вкачали миллиарды в Индонезию и просрали ее. Залезли в Африку, в Азию, запутались в бороде Кастро, мутим воду везде, где только она мутится, держим на штыках и под гусеницами танков пол-Европы. Мы орем на каждом шагу: «Да здравствует светлое будущее!» – когда с каждым днем становится все темнее и темнее. В нашем сраном городе, как и в тысячах еще более отвратительных городов, давно уже ни мяса, ни колбасы, ни масла не видно, не то что светлого будущего. Так что же будет дальше? Не дай бог, думаю я иногда, впадая в уныние души, дожить мне до того дня, когда опять какой-нибудь умник залезет на Мавзолей с полной кучей в маршальских штанах от страха и призовет, перед тем как спуститься в бомбоубежище, миллионы своих братьев и сестер расплатиться жизнью, кровью и нечеловеческой мукой за беспардонно глупую политику и ужасающие авантюры. Что же будет дальше, думаю я с еще большим унынием, когда я вижу толпы своих братьев-пролетариев у винных магазинов и пивных ларьков, где их единственная радость – распить с дружками портвейновую отраву, «словить кайф», как они говорят, потрепаться о хоккее, чтобы потом, задрыхнув у телевизоров, проснуться с отравленной сивухой и пивом головой и с красными зенками (глаза) и переть в цеха, унимая по дороге тошноту, которую непременно вызывают с похмелья остоебенившие (набившие оскомину) лозунги вроде: «Народ и партия едины», «Социалистическая демократия – высший тип демократии», «Слава труду», «Слава КПСС». А когда я наблюдаю за пятнадцатилетними сопляками, за подонками с пустыми, оголтелыми, уже залитыми той же бормотухой глазами, наблюдаю за выражением бесцельности и бессмысленности на их лицах, полузакрытых длинными, слипшимися, давно немытыми патлами, когда вижу, случается, как нагло и по-свински они терроризируют девочек, нормальных парней и невинных прохожих, потому что уже сейчас для них самое сладкое наслаждение – чужое унижение и чужая боль, мне страшно думать: что будет дальше? Если наши политруки скажут им: «Во всем виноваты евреи, американцы, немцы, китайцы, чехи, японцы, румыны и египтяне!
Бейте их, братья и сестры!» – то, безусловно, эти скотоподобные существа с душами, вытравленными в самом начале своей жизни мертвыми словами лозунгов и призывов, заревут, распаляясь от предчувствия крови и наживы, и затопают копытами в бешеном и злобном нетерпении. Не забывайте и вы там о своих детях…
Пожалуй, я лучше сразу начну третье письмо, чем играть в игрушки с главами, частями и так далее. Вы правы, дорогие, в намеках своего ответа на мое первое письмо, что у нас в стране, да и среди эмигрантов, развелось слишком много писателей и что для меня было бы полезней думать не о главах, а о серьезных вещах. Может быть. Но сначала нужно выяснить, что именно вы считаете серьезными вещами, а что таковыми считаю я. У любого из тех, кого вы обидно называете бумагомарашками, так наболело в душе от многолетнего держания языка в одном месте, что нет иной возсти избавиться от накопленных мыслей и чувств, чтобы от них не пухла голова и не разрывалось сердце, как, посчитав себя для интереса писателями, взяться за перо и уйти с головой в лист бумаги. Вы также убедительно просите меня лучше относиться к городу, в котором я почти родился, вырос и в настоящий момент прописан.
Хорошо, что у вас хватило ума не повторять в ответе слово «сраный-пересраный». А вдруг я называю его так с большой любовью и жалостью?
Что тогда? Вам всего этого не понять, и больше не злите меня в письмах молниеносными суждениями о том, в чем вы разбираетесь не больше, чем наши политруки в гуще жизни. Не надо. Затем Наум и Циля просят меня прекратить рассказы о моем лучшем друге Феде, ибо он не интересует их ни с какой стороны, и наоборот, Сол и Джо умоляют сообщить, как развивались события впоследствии. Так вот, пусть каждый из вас читает интересные для себя места.
Неинтересными можете подтереться. Пока на пятьдесят пятом году советской власти в нашем изумительном, в нашем лучезарном, сытом, приветливом, чистом и свободном городе не появилась каким-то чудом туалетная бумага, мы так поступали с центральными и местными газетами. Добавлю, чтобы не потерять основную мысль: не было в мире подтирки более мягкой, чем бумага из последнего собрания сочинений Сталина. Ее хватило нам на два, кажется, года.
Сейчас нам иногда присылают туалетную бумагу из Москвы внимательные дети. Ее по-прежнему не хватает на душу населения. Ну вот что вы, зло меня сейчас разобрало, понимаете в нашей жизни, что? Вы можете себе представить следующее. В один прекрасный день исчезают из московских магазинов (мы отовариваемся в основном там) лезвия. Бриться нечем. Ходят всякие слухи. В том числе – все бритвы скупили евреи и переправили в Израиль резать горло арабам. На заводах начинают частным образом из лучшей, почти драгоценной стали делать опасные бритвы и торговать ими. Вдруг через год, так же непостижимо, как и пропали, проклятые лезвия снова наполняют прилавки. На моем веку блудными вещами становились: мясорубки, утюги, колготки детские, валенки, калоши, сигареты, копченая колбаса, свиная тушенка, мотоциклы, губная помада, презервативы (гондоны), вата (вы бы знали, как тогда мучились девушки и женщины), лыжи, нижнее белье, электролампы – всего не перечислишь.
Я берусь утверждать, что не было на свете вещи, не исчезнувшей хоть раз хотя бы на короткий срок из продажи. Это наши вонючие газеты называют проблемами и трудностями роста. Нет такой вещи. Но ведь существуют где-то, например у вас, вещи и продукты, даже не думающие попадать обратно в нашу мерзкую торговую сеть. Вобла, скажем, довоенные бублики с маком, необычайная колбаса «собачья радость», ратиновые пальто, ситец, теннисные мячики, речная рыба, тресковое филе, кукурузное масло и так далее Федя, добавлю, считает, что вещи иногда, как и люди, не могут не чувствовать дьявольской природы советской власти и так называемого социализма. Им при этом или не хочется жить вообще, или они куда-то намыливаются (эмигрируют). Но хорошо. Перед тем как продолжить рассказ о Феде и его жизни, я поясню вам, дорогие, почему и как я оказался в Москве у сына Вовы.
Вы помните, мы тогда (я, Вова, Вера и Федя) выпили и закусили. Я настоял на том, что до выхода на пенсию никакого разрешения – ни формального, ни сердечного – Вове не будет. Он вошел в мое положение без обиды. Я же не отговаривал его вообще от эмиграции. Итак, он уехал.
Буквально через три дня меня вызывает к себе парторг. Сидит за столом, мерзавец. Не вышел, как обычно, навстречу, не поприветствовал, вроде бы по-свойски, бодро и весело: «Привет беспартийным передовикам».
Нет. Наш парторг сверлил меня розовыми, горевшими в полутьме кабинета глазками, и у него по-крысиному подрагивала верхняя губка. Я не стал садиться. Спасибо, сказал я, постою, привык, работа у меня, сами знаете, стоячая.
– А ведь ты, Давид Александрович, – говорит крыса, – оказывается, человек с двойным дном!
Я ему отвечаю для начала так (ибо нисколько не сомневался, о чем пойдет речь):
– Прошу говорить «вы» и выражаться конкретней. Меня ждет станок.
– Мы теперь знаем, чем вы, Давид Александрович, нафаршированы.
Последнее слово парторг произнес картаво.
– Ну и как, – спрашиваю спокойно, – фарш мой на вкус?
– Антисоветчиной и мировым сионизмом от него попахивает, точнее, разит, а если еще точнее – шибает! Вот у меня на столе запись ваших застольных разговорчиков. Передай я эту бумагу сейчас куда следует, и вы все четверо, включая вашу жену, сгниете в Мордовии! Вы думали скрыть от нас отъезд сына в Израиль!.. Вам бы сорвать последний куш с завода, наполучить подарков и уйти неразоблаченным на пенсию? Не выйдет, господа сионисты, вы ответите за все перед коллективом завода! Теперь я понимаю, почему ты не в партии, двурушник! Прикидывался простачком, пятилетки выполнял в три года, интересы рабочих в месткоме отстаивал, а сам небось осведомлял своих земляков о положении наших дел!
– Не надо, – говорю, – запугивать меня как пацана, не надо, я не мальчик и не знаю, что там в бумаге у вас написано.
– Тут записаны клевета твоего сына на Советский Союз и его бредни насчет возвращения евреев на историческую родину.
– Ни о чем таком, – отвечаю, помня Федину науку глухо ни в чем не сознаваться, – говорено не было, а то, что Израиль и Палестина – историческая родина евреев, всем давно известно.
– Нет! Историческая родина всех простых людей доброй воли – Советский Союз, а вы там трепались, что даже у русских нет теперь родины, что истребила ихнюю родину советская, дьявольская власть! Трепались?
– Нет, – говорю, – трепались только о хоккее и плохом качестве местной водки. Сами-то, – говорю, – небось в закрытом обкомовском ларьке берете? А что касается доноса, то за стеной у меня живет мразь, которую я побрезговал однажды раздавить двумя ногтями! Просто я харкнул ему недавно в рожу, как харкнул бы всякому подонку, издевающемуся над женщинами и детьми. Вот к кому, – говорю, – вы прислушиваетесь! Вот как, – добавляю, – беседуете со старым карусельщиком, этими вот руками заложившим первые кирпичи в фундаменте завода. Говорите, чего вы от меня хотите, выкладывайте, чем вы сами нафаршированы!
– Я, – говорит крыса, – нафарширован идеями Ленина, идеями коммунизма, а также решениями последнего съезда партии и октябрьского пленума ЦК КПСС. Я также нафарширован пролетарским интернационализмом, стремлением к разрядке напряженности и сохранению мира во всем мире. Наш народ не свернет со столбовой дороги истории. Вашему брату не повернуть историю вспять. Вам не заменить нашего передового фарша тем, чем нафаршировали вас сионисты и ЦРУ.
Одним словом, через неделю на заводском митинге в честь дня солидарности с народами Анголы и Мозамбика ты, Давид Александрович, должен выступить с угрозой в адрес мировой реакции, продажной верхушки американских профсоюзов, Пентагона и происков сионистов в нашем городе. Вчера еще пять любителей фаршированной рыбы подали заявление о выезде. Если ты, Давид, выступишь, учти, я тебе добра желаю, эта бумага пойдет в сортир. Я понимаю, что вещи там бездоказательны и дела с их помощью не возбудишь, хотя твой дружок Пескарев хорошо известен нашим органам. Мы думали, что он притих после отсидки и реабилитации. Мы ошибались. Он – настоящая пятая колонна нашего города. Так вот, если ты выступишь, извини, я был несколько резок, все же у нас сейчас идеологическая война не на жизнь, а на смерть, мы с почетом проводим тебя на пенсию и оставим в Совете ветеранов труда. Я понимаю, что, проработав всю жизнь на заводе, ты не имеешь ничего общего с мировой финансовой олигархией и еврейским капиталом. Тебя совращают в лице сына безыдейная молодежь и махровые антисоветчики, не простившие Родине мелкой обиды, типа Федора Пескарева. Неужели ты хочешь оказаться среди отбросов истории, а не с нами, уже вступившими, как говорит Леонид Ильич, в первую фазу коммунистической формации? Чем плохо тебе при развитом социализме? Все у тебя есть. Есть у нас и трудности, но они общие. Это же прекрасно, когда у людей общие трудности.
– Не надо, – отвечаю для начала, перебив крысу, – зря трепаться. Ты ведь вчера с охоты примотал (приехал). Кабанчиков пару вы там с дружками и блядями уделали. «Столичной» винтовой водочкой запили и черной икоркой до самых муде (органы) перемазались. Так что не ври, парторг. Нет у тебя с нами ничего общего. Все отдельное: от колбасы до санаториев, столовых, промтоваров и автомашин с персональными шоферюгами. И самое страшное для тебя и тебе подобной шоблы – не допустить ни за что на свете ликвидации этой отдельной жизни. Самое страшное для тебя – общая с народом жизнь. Я ведь помню тебя жалким сопляком, смахивавшим хлебные крошки в ладонь в заводской столовке. Помню, как, вроде кота, терся ты об ноги цехового и заводского начальства. Помню, как, распознав в тебе злобного, завистливого и верного лакея, бывший парторг почесал у тебя за ушами и ты замурлыкал на теплой лежанке в профкоме завода. Помню тебя, выпрыгивавшего на трибуны всех митингов с выгнутой дугою спиной и шипением в адрес империализма, Солженицына, Мао Цзэдуна, Пиночета, Сахарова и Моше Даяна. Помню великий день твоей жизни, в августе шестьдесят восьмого года, когда ты от нашего имени послал в ЦК телеграмму о готовности рабочих завода организовать военную дружину для отправки в Прагу с целью спасения братского рабочего класса от все тех же сионистов и фашистов Западной Германии. На твое имя пришла тогда телеграмма от Суслова. Спасибо, мол, справимся сами. Но тебя заметили, ты стал парторгом завода. Ты, наконец, начал соблазнять баб поездками на охоту, шмутками и своим влиянием на ход городских дел. Бабе так просто дать тебе невозможно. Ты жалок и плюгав. Все твои бляди получили без очереди квартиры, и мое преступление в том, что я, кое-что зная об этом, молчал. Проклят будь мой отсохший тогда язык. Ты, – добавляю, – нафарширован не ленинскими идеями, а удовольствием от сытой, бесплатной и праздной жизни.
Ты понимаешь, что после всего сказанного мне обратного пути нет. Но хочу предупредить тебя: на митинге я могу повторить все и кое-что другое. Иных речей больше не будет. Ты понял? А если ты попытаешься сделать зло мне или Федору Пескареву, то список всех твоих злоупотреблений, вымогательств, шантажа, борделей и браконьерских штучек будет отправлен в газету итальянских коммунистов «Унита». И тогда тебе, крысе, крышка. Этот список завел на тебя не я, но в нем есть и мои собственные свидетельства. Я не коммунист, слава богу, мне плевать на дела вашей партии, но как честный человек я не мог не сообщить рабочему классу все, что знаю о тебе и твоем двойном дне. По головке тебя не погладят. Придется тебе жениться на Рите Шварцман из планового отдела, которой ты заделал ребеночка, и линять в Израиль. Впрочем, я напишу, чтобы такое говно не брали на Землю обетованную.
Сейчас я иду и подаю заявление об уходе на пенсию. Срать (по большому) я хотел на твои посулы, садовый домик, будильник и самовар, которые завод выдает своим престарелым рабам за выкачанные из них силы, здоровье и время жизни. Не нужно мне мизерных крох от всей моей многолетней прибавочной стоимости.
Крысенок (парторг на моих глазах превратился в него из крысы) быстренько соображал, как ему быть, что отвечать, слышал нас кто-нибудь или нет.
– Кроме того, – сказал я, – не вздумай мне пакостить. Я имею влиятельных родственников в Америке, торгующих с нами товарами первой необходимости. Не ставь под угрозу крупный товарооборот между нашими странами, иначе придется тебе покандехать (перебраться) из этого кабинетика обратно в цех, к шлифовальному станочку. Он скучает по тебе. Ты понял, засранец, старого карусельщика? Понял, что я не шучу?
Извините, дорогие, за то, что я выдал вас тогда за видных барышников (коммерсантов), но заговорила во мне вдруг бесстрашная кровь полкового разведчика, согрелась и забурлила, родимая, после долгих лет пребывания в холодном и свернутом виде, возмутилась от невыносимости выслушивать от какой-то крысы поучения, угрозы и блевотину партийных заклинаний. Я высказывал ему свои мысли тихим, спокойным голосом, не удивляясь почему-то своей безрассудности, риску и тому, что так легко я порываю с заводом, откуда, казалось, только смерть или жуткая хвороба прогонят меня на пенсию, на заслуженный отдых.
– Разговор у нас состоялся серьезный и откровенный, – говорит крысенок, беря себя в руки и снова превращаясь на моих глазах в крысу. Правда, в слегка потрепанную, слегка ошпаренную кипятком моих слов, но все-таки в жизнестойкую, злобную и упрямую крысу. – Из этого разговора мне стало ясно одно: вы, Давид Александрович, собрались уезжать, – продолжает парторг.
– Да, – подтверждаю, – и послезавтра еду…
Вы бы видели, как он вылетел от изумления из-за стола, как захлопал веками, красненькими веками без ресниц и переспросил:
– В Израиль?
– Нет, – отвечаю, – на рыбалку я уезжаю. Порыбачу и вернусь. В Израиль я пока не собираюсь.