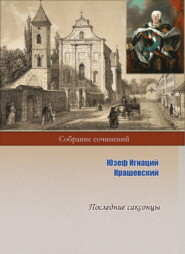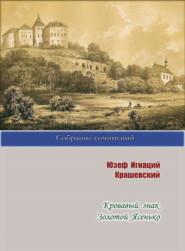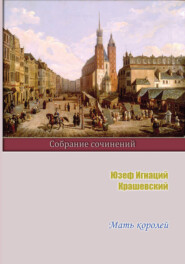По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Варшава в 1794 году (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этом нашем шляхетском свете, который в стольких изъянах можно упрекнуть, понятие солидарности всего тела было ещё сильно и нерушимо. Вся шляхта была одной семьёй, крепко связанной тысячью узлов крови и связей.
Смело можно сказать, что не было двух шляхетских семей, которые бы очень далёкого между собой родства вывести не могли. Поэтому шляхтич, едучи хотя бы от Балты до Гнезна, не нуждался нигде в гостинице, заезжал непосредственно на двор пана брата, а где не находилось шляхтича, сворачивал в монастырь либо в дом приходского священника. И было неслыханной вещью, чтобы перед ним где-нибудь закрыли двери. Лет двадцать назад можно было родственников не видеть, почти их не знать; если пришла необходимость к ним обратиться, шляхтич запрягал в калымажку кобылу и ехал прямо в особняк, в уверенности, что его оттуда не выпихнут. Селили его там часто в сером конце, это правда, но родственник его обнимал и делал что мог, чтобы достойная кровь не пропадала.
Мой отец родился от Несиловской, а семья это была могущественная и сенаторская…
Мы знали, что между живущим паном воеводой и нами есть близкие родственные отношения и, хотя мы никогда в жизни его не видели, когда было мне уже время выбираться из дома для учёбы, отец в действительности колебался ехать в Вильно, но написал письмо к пану воеводе, честно и откровенно ему свидетельствуя, что мне образования, какого бы желал, дать не может, поэтому склоняется к его милости.
Мы ждали ответа, по причине которого покойная мать молилась каждый день.
Прошло несколько недель, что в те времена вовсе не было удивительным, потому что и почты ходили вяло и люди писать не очень любили. Также оказалось, что письмо отца пана воеводу в Вильне не застало.
Наконец пришёл ответ с большой печатью. Я хорошо помню, что отец положил его на столе, не очень спеша распечатывать, а мать потихоньку не соглашалась со Здровацким.
Когда дошло до чтения, оказалось гораздо лучше, чем мы могли ожидать.
Письмо было сердечное, нежное, добродушное, воевода радовался, что молодой Сируц с его сыном почти того же возраста может воспитываться…
Радость была в доме великая, но и хлопот не меньше, так как, отправляя в Вильно, надлежало дать приличное одежду. Портной, сапожник, швеи имели много работы. Когда всё было готово, получив благословение матери, горько поплакав, сел я с отцом в бричку и поехали мы в Вильно. Моё сердце билось от страха… из глаз текли слёзы… я не много видел и слышал, что делалось вокруг меня, когда отец привёл в покои пана воеводы – но всё это прошло быстро, когда я услышал мягкий голос старого Несиловского и почувствовал в моей ладони дружескую руку его сына, приветствовавшего меня как неизвестного брата. Не знаю, были ли они высокомерными с другими, но верно то, что ко мне оказались наилучшими на свете. В этом доме я нашёл родительскую заботу и сердечность. Мой отец уплакался от радости и благодарности. На меня не произвело это, может, такого впечатления, как на него, ибо, как ребёнок, представлял я себе мир в ясных красках, он знал его лучше и удивился, найдя его лучше, чем мечтал… Дом Несиловского также был счастливым исключением.
Панские шляхетские дворы столько раз уже описывали, что их по этим традициям знают все; воеводы также был подобен многим другим. В нём господствовал польский элемент, смешанный с французским. Первый ему давал благородную основу, другой – европейское поведение и формы. Воевода одевался ещё по-польски, но отлично говорил по-французски и манеры имел людей высшего общества. Сама пани, главным образом, эту французишну прививала и поддерживала. Поэтому и сын был воспитан наполовину французом, наполовину поляком.
Того же дня взяли меня на экзамен и оказалось, что моя пиярская французишна так была смешна, что её нужно было вырвать с корнем и на её месте посадить новую. Тогда я воспитывался с паном Юлианом, догнав его в науке и, как он, готовясь к военному поприщу. Между нами была только та разница, что он планировал ещё путешествовать по Европе и задержаться на более долгое время в Страсбурге, а я по воле отца немедленно должен был вступить в войско. Пан Юлиан, с которым мы были в наилучших дружеских отношениях, очень тянул меня в это путешествие за собой, писал, по-видимому, моему отцу, чтобы он разрешил, всё же, оказалось, отец велел мне благодарить и ехать в Варшаву.
С рекомендательным письмом от воеводы оказался я в полку Дзялынкого, стоявшего в то время в столице. Я прибыл туда в наигрустнейшую пору, когда в честной, но напрасной борьбе король должен был присоединиться к Тарговице…
Я не мог сравнить состояние тогдашней столицы с праздничной её внешностью во времена Четырёхлетнего сейма, но меня чрезвычайно привлекли грусть и замешательство на всех лицах… отчаяние, сетования и яростное разделение народа на два, в самой заядлой неприязни друг другу, лагеря.
Те, что были в Варшаве самыми горячими патриотами до этой поры, на новость о присоединении короля к Тарговице, уходили с проклятиями и гневом за границу. Партия якобы республиканцев, которые на вид собирались защищать бывшую свободу и права, с фанатизмом хватали власть, используя её для самого жестокого преследования. Москали, от которых на протяжении несколько лет Польша отвыкла, с издевательством, гордостью, насмешкой, угрозами снова пришли в столицу. Их приверженцы, одетые в русские мундиры, покрытые орденами, окружённые иностранными стражами превосходили всех на улицах.
Оттого, что хотели частично распускать, реорганизовать и уменьшить войско, трудно было даже попасть в него и я скорее случайно очутился на службе, чем был принят в неё. Это произошло потихоньку, за большие деньги и с немалыми трудностями.
Никогда, может быть, в действительности партия-победитель не обходилась более жестоко с ранеными на поле боя соотечественниками, как тарговичане со страной, над которой по милости русских войск установили контроль, начиная с короля, которого поили желчью и отобрали у него всякую власть, даже до последнего солдата, дали почувствовать всем, что Коссаковский и Потоцкий имеют за собой поддержку императрицы Екатерины.
Я мало мог в те времена обдумать и обсудить, но даже меня поразило это немилосердное обхождение со страной.
Во имя свободы царил в мире самый жестокий деспотизм.
Никто не удивится, когда я признаюсь, что, в то время двадцатилетний, в первые минуты прибытия в Варшаву, обрадованный мундиром, видом столицы, стольким новым, предметами и людьми, мало обращал внимания, очень мало чувствовал то, что меня окружало. Постепенно меня потом охватывала тревога и боль…
Каждый день отбивались от моих ушей жалобы на правящих тарговичан и их обхождение со страной. Даже детский ум привлекло это противоречие беспощадного деспотизма, который хотел распространять республиканские свободы.
Трепещущий король, полностью безвластный, сидел в замке, на нахальные письма Щесного отвечая полными требований стилизациями своей канцелярии. Русские генералы отдавали ему честь, но тарговичане вовсе не скрывали намерений якобы свержения с престола…
Этот мясопуст ослепших панов республиканцев продолжался столько, сколько было нужно России, чтобы на враждебных друг другу людях отомстить за Четырёхлетний сейм… Не называли сейм иначе, как заговором, покушением конституцией и революцией…
Наступил этот ужасный сейм, на который короля должны были почти насильно вытянуть из Варшавы. Гордые тарговичане оказались взятыми в ловушку.
Короткое мгновение их правления прошло, Москва дала почувствовать, что она одна тут приказывает и распоряжается. Как молния упал на предателей приговор нового раздела страны, которого, слепые, они до конца не допускали.
Было что-то ужасное даже для самых равнодушных, наименее понимающих, что делалось на этом гродненском сейме, который добивал Польшу… но почти в те же минуты, когда на сессии подписали немой приговор Польше, пробудились чувства общего ужаса, возмущения, отчаяния такого яростного, что нельзя было сомневаться, что за собой потянет несвоевременный взрыв.
Эта катастрофа пришла слишком рано после воспоминаний о Четырёхлетнем сейме, падала на горячие ещё, неостывшие надежды, а сопровождало её обхождение Москвы со страной, такое жестокое, что все, кто жил, как бы в один голос воскликнули: «Лучше умереть, чем терпеть такое унижение и неволю!»
Нигде, может быть, эти события не произвели такого впечатления, как у нас в войске… Говорили о его роспуске, о сокращении, о распространении по стране, о резком преобразовании в российские войска…
Несмотря на чрезвычайный надзор российских властей, заговор возник почти со дня раздела… Во всех повторялась одна мысль – восстание… война…
Никто не рассчитывал сил, была необходимость спасения национальной чести, если не родины. Нужно было смыть кровью позор тех людей, что подписали приговор собственной стране.
По всем пробежал будто электрический разряд…
* * *
Мне было тогда двадцать два года, не мог, поэтому, быть допущенным ни к совещаниям, ни к какой тайне, но душой и сердцем я принадлежал к обществу всех моих коллег, ожидающих только знака к борьбе. Я не знаю, были ли москалям видимы какие-нибудь приготовления, для нас же были они явными…
Во второй половине марта уже в стане москалей в Варшаве была видна какая-то тревога и чрезвычайные средства осторожности, предпринятые для удержания порядка в столице…
Горожане ходили хмурые, словно не зная и не узнавая друг друга на улице и бросая друг на друга взгляды согласия – среди военных и ними нашлись неожиданные знакомства и небывалая приязнь…
Размещался я в то время в квартире при Медовой улице, в доме Карася, где мне кровные Манькевичи дали комнатку наверху. Старый Манькевич приехал сюда для лечения глаз, его сопровождала жена, а оттого, что болезнь была упрямой, уже год пребывая и привыкнув к месту, не думали его оставлять. Манькевич, старый шляхтич, но человек с головой и необыкновенными дарами мысли, жил очень умеренно, по-литовски, кормил также и меня от доброго сердца и забавлялся тем, что должен был знать о том, что происходило.
Он был очень осторожным, дабы не подвергать себя опасности от москалей, всё-таки опасение за себя побеждал горячий патриотизм, живой и беспокойный ум.
Старик ходил с зелёной заслонкой над слабыми глазами, с палкой, потому что был очень тучный, но в доме усидеть не мог и с того времени, как сюда прибыл, столько завёл знакомств, что с новостями проблем не было. А умел их добывать от каждого так ловко, что сам, смеясь, уверял: «Мой господин! Когда я выпытываю, говорят мне даже то, чего не знают. Это так, – сразу он объяснял, – так, потому что неоднократно поведал мне человек такую вещь, которая для него была непонятной, а для меня весьма значащей». Манькевич нанял себе весь этот дом (не дворец этого названия) и по той причине, как рассказывал, что не мог вынести проживания с людьми, которых бы не знал и которые бы ему могли колышки на голове тесать. Наняв дом, он пораздавал и посдавал комнаты, которые ему были не нужны, но уже тут чувствовал себя паном. Таким образом мне досталась комнатка, потому что старый Манькевич приходился мне дедушкой и очень любил меня.
Манькевичи детей не имели… при себе, одна их замужняя дочка жила в Литве.
Не было более ревностного собирателя новостей, сведений и сплетен, памфлетов и брошюр, чем старый Манькевич. Он ломал себе глаза, вписывая, что только доставал, в большую книгу, которую всегда держал под подушкой. Во времена Тарговицы, времена сейма и теперь, что показывалось в Вене или вышло из тайных типографий в Варшаве – всё это он должен был иметь… Он был немного скупым, но на таких бумажках никогда не экономил. За книги тарговицкого раздела он заплатил дукаты, а хотя ответ на них не много стоил, талеры и за это давал для комплекта. А то, что имел исключительную память, читал потом всё это как молитву.
Рядом с этой лихорадочной заинтересованностью делами страны, в судьбах которой никогда не отчаивался, Манькевич имел боязнь к русскому почти такую же сильную, как патриотизм. Не гнушался никогда им, но для него достаточно было вида вдалеке замеченного мундира, чтобы замолчать и закрыться в доме и посмотреть под кроватями, прежде чем снова отпускал поводья.
Притом генералам, офицерам и даже фельдфебелям, встречая их на улице, уступал дорогу и кланялся очень вежливо.
Когда иногда жена смеялась над ним, отвечал ей тихо:
– Такая моя система… дьявольская свечка… Да! Дьявольская свечка…
Зато в душе ненавидел их тем больше, чем ниже вынужден был кланяться.
Как сейчас помню, было это вечером семнадцатого или восемнадцатого марта… Время было отвратительное, стегал ветер с мокрым снегом… на улицу было не выйти, я возвратился домой пораньше. Манькевич дал мне прочесть брошюру Nil desperandum (ни в чём не нужно отчаиваться), которую тайно передавали из рук в руки друг другу.
Я скучал над ней у сальной свечи, когда меня позвали вниз на ужин… Мы ели тогда всегда ужин по-литовски, составленный из двух блюд, потому что Манькевич любил есть вкусно, а бабушка Манькевичева умела отлично управлять кухней. Тарелка ароматных зраз стояла уже на столе, бок о бок с кашей из бекона… а старик, сидя, барабанил пальцами по столику и не ел. Он был удивительно задумчив. Жена также, с заложенными на груди руками, задумчивая, только головой качала, словно борясь с мыслями. Войдя, я сразу заметил что-то необычное.
С обеда мы не виделись.
– Что же ты в городе слышал? Гм? – спросил Манькевич.
– В городе? – спросил я. – Ничего нового.