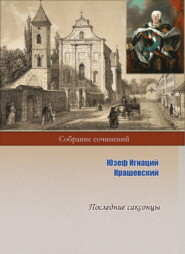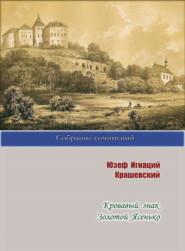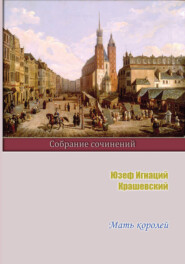По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Варшава в 1794 году (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Варшава в 1794 году (сборник)
Юзеф Игнаций Крашевский
В историческом романе «Варшава в 1794 году» автор обращается к эпохе восстания Костюшки. Главный герой романа, капитан Сируц, он же рассказчик и участник восстания, день за днём описывает события 1794 года, такими, какими они были в Варшаве. Также немалое место занимает любовь.
Роман «Елита» является 13 романом из исторической серии Крашевского «История Польши». Он рассказывает о последних годах правления Владислава Локотка, о предательстве Наленчей и битве с крестоносцами при Пловцах.
Юзеф Крашевский
Варшава в 1794 году
Сборник
Jоzef Ignacy Kraszewski
Warszawa 1794
Jelita
© Бобров А. С., 2016
* * *
Варшава в 1794 году
Брониславу Залескому, как дружескую весточку, посылает автор.
11 марта 1873 года
Sunt lachrymae rerum[1 - Есть слёзы для бед (лат.) Из «Энеиды» Вергилия.]…
Есть в жизни народов минуты горячки и пробуждения, которые, несмотря на их последствия (ибо те бывают самые разные), сами вливают новые силы во всё общество, вдохновляют её власти, спаивают и сближают людей и на долгие годы оставляют после себя не только память пережитых дней, но, как бы запах чувств, которыми расцветали.
Часто после них наступают часы покаяния и терпения, усталости и изнурения, но, несмотря на это, как электрической искрой, даже среди этого состояния оказывает воздействие напоминание о прошлом. В истории нашей страны таких ясных минут напряжения, пробуждения, поднятия духа мы насчитываем в последнем столетии несколько. Эпоха Четырёхлетнего сейма, восстание Костюшки, короткий первый момент возрождения Королевства, годы 1812, 1830 и 1863 принадлежат к ним. Каждый из этих моментов имел соответствующий себе характер, но все вместе взятые братскими чертами были похожими друг на друга. Люди в это время, словно какой-то не своей силой, зачерпнутой из тайного источника, менялись, росли, набирали силы, становились благородными и в их жизни потом пережитый год также оставался вечной звездой, к которой все думали возвратиться.
Кто же из нас не знал этих людей, переживших бои прошлого, ходящих потом, как чужаки, среди не своего мира и живущих одним часом, в котором сосредоточилась их жизнь? Помню, было это в счастливые дни молодости, я познакомился в деревне в одном из родственным с нами домов с паном капитаном Сируцом. Был он, по всей видимости, далёким каким-то кузеном самой пани дома и, по этому титулу называемый ею дядюшкой, проживал на Литве у семьи Б.
Был это вид резидента, но титул родственника и уважение, какие к нему все имели, досадное это положение делали сносным. Капитан Сируц очень неохотно показывался в обществе, особенно, когда в доме были гости; оттого, что дом всегда ими изобиловал, редко его можно было убедить пойти в гостиную. Он занимал пару комнат во флигеле, имел тип маленького своего хозяйства, мальчика для прислуживания, лошадь и возок, и в доме почти как гость выглядел.
Имея маленький капиталик, он не нуждался ни в какой настоящей милости, потому что мог им поддерживаться, но в городке не рад был жить, любил тишину и одиночество; тут он был паном своего времени и любил семейство Б, поэтому согласился на жертву пары покоев во флигеле. Нелегко, однако, по-видимому, к этому сразу пришло и должно было позволить ему испробовать эту жизнь, прежде чем с ней освоился. Капитан боялся всякого вида неволи, подданства, прислуживания, боялся быть смешным резидентом, ещё больше стать кому-то в тягость и, только лишь очень сильно убедив себя, что ему тут будет хорошо и людям с ним не хуже, осел в Вежбовнах.
Такого молчаливого человека мне не случалось в жизни встречать… он был скупым на слова даже до смешного, а иногда на протяжении целых дней едва кто от него пару невнятных слов, сказанных потихоньку, услышит.
Внешность была приличной и милой… На первый взгляд он выглядел на старого военного, обученного в хорошей школе. В пожилом уже возрасте, он держался просто, ходил мерным шагом, хотя не без некоторого изящества в движениях, одевался чрезвычайно старательно и чисто, почти элегантно, и лицо имел серьёзное, сердечное, милое и полное сладости, какое редко на старость после жизни остаётся. Кроме выражения некоторой застенчивости и боязни, когда он находился в многочисленном обществе, никогда ничего не отражалось на лице старого вояки, за исключения какой-то тоскливой задумчивости…
Достаточно любил читать, особенно исторические вещи, но читал медленно, внимательно и когда ему книжка с первых страниц не нравилась, предпочитал уж вовсе её не читать, чем принуждать себя.
Впрочем, никаких особенных пристрастий и привычек не имел – иногда охотился, но не распалялся к охоте, играл, не скучая, за игрой, выезжал верхом без страсти к лошадям. Человек, по-видимому, безразличный и выжитый, хотя это ему сердца не отнимало к людям и любви к ним.
Привязывался к нему каждый, кто дольше с ним побыл. Он со своей стороны не навязывался никому, не склонный был к фамильярности, на вид холодный, но когда однажды к кому-то пристал, хотя словами ему не показывал приязни, чувствовалось, что сердце было ей полно. В Вежбовнах уже научились так приспосабливаться к его привычкам, что оставили ему как можно большую свободу. Капитан приходил, когда хотел, уходил, когда ему нравилось, выезжал, возвращался и иногда целыми неделями, хотя был в доме, не показывался во дворе. Он имел на протяжении года несколько таких приступов какой-то меланхолии, в силу которой он бежал от людей…
Обычно в близкой среде и когда из него не вытягивали слово, потому что это был самый худший способ узнать у него чего-либо, тогда сам потихоньку говорил, рассказывал таким образом очень милые приключения из своей жизни и службы. Знал он очень многих людей, был в хороших отношениях с самыми выдающимися, и из сношений с ними остались воспоминания гораздо более яркие, чему у других. Схватывал, видно, сторону жизни и физиономию более истинно и глубже умел вникнуть в характеры. Но эти его признания вполголоса были редкими, осторожными, боязливыми и любое наименьшее препятствие, дисгармоничная нота, неловко вставленное слово… замыкало его уста.
Тогда также, когда капитан начинал говорить, все молчали… боялись дышать и слуги научились ходить на цыпочках.
Проживавший в Вежбовнах, привязался он тут и к старикам и к детям. Особенно их любил… и нас, которые в то время подрастали.
Молодёжь была для него, как бы предметом интересных лекций, приводимых, видимо, с некоторой целью и мыслью, потому что особенно обращал внимание на её чувства, на слова, которые выявить могли живущую память прошлого сраны и обязанностей к ней.
За исключением этих чрезвычайных минут возбуждения, редкого разговора и улыбки, Сируц проводил жизнь одиноко, замкнуто, спокойно и, был обращён больше к прошлому, нежели к современности…
Маленькая кучка людей заманивала его иногда в усадьбу, от особенно шумной толпы он убегал. В дни именин, в масленицы, в кануны праздников, попрощавшись с хозяевами, он выезжал куда-нибудь в околицу и не возвращался пока не успокаивалось.
Добиться от него что-то, когда не имел охоты рассказывать, было невозможным…
На вопросы отвечал он пожатием плеч, странным складыванием губ и, наконец, поспешным бегством с плаца.
Я имел к нему достаточно удачи, однако никогда его ни о чём не спрашивал, несмотря на горячее любопытство… Мы вместе ходили в молчании на прогулки, собирали цветы, смотрели, сидя в лесу, на поваленных брёвнах, в зелёные гущи, за которой заходящее солнце ярко проблёскивало, и возвращались в усадебку иногда после двух часов медитации, разговаривая немного живей.
Капитан говорил (когда на то пошло) с подбором некоторых слов, неторопливо, обдумывая, тихо, и следя, какое производил впечатление.
Как к иным вещам, так и к рюмке Сируц не имел пристрастия, не отказывался ни от водки перед обедом, ни от небольшого количества хорошего вина – пьянка же вызывала у него невыразимое отвращение. Однако же, когда вечером в маленьком кругу подавали бутылку старого венгерского вина и маленькие к ней напёрстки, а любители этого напитка, con amore, медленно смаковали его, наслаждаясь им, Сируц охотно удерживал плац и… в это время уста его развязывались, приходили даже весёлость и остроумие. А на утро возвращался к своей сумрачности и, словно стыдился вчерашней откровенности, был грустный и понурый. Уж мне этого припоминать не годилось.
Все его воспоминания обычно относились к одной эпохе – впрочем, жизнь уже как бы не существовала, была забыта и заслонена – если говорил, то только о костюшковской… Мы знали, что этот год 1794 он прожил между Варшавой и лагерем – для него это было светлое время, единственное время, в которое исчерпал всё, что может дать жизнь. С резнёй Праги закончилась для него эта жизнь и начались размышления и покаяния… Год этот он имел в памяти день за днём, час за часом…
Но также, кроме судьбы солдата и страны, в этот год, по всей видимости, разрешилась судьбы его сердца и надежды на счастье.
На протяжении довольно долгого отрезка времени я видел Сируца каждые несколько месяцев. Он ничуть не изменился, не постарел, выглядел так, что уже казался какой-то хорошей мумией, засушенной навсегда. У меня было время окончить школу и приступить к учёбе в университете… мы были теперь с ним в наилучших отношениях. В году 1829, едучи в Вильно, я на пару дней заехал в Вежбовны… Там как раз нашлось несколько особ, но из ближайшего нашего кружка… Второго вечера… хозяин приказал принести после ужина заплесневелую бутылку венгерского вина… началась при ней чрезвычайно оживлённая беседа.
Сируц был в этот день в расположении, в каком я его ещё не видел, улыбался, трубку за трубкой брал, остроумничал и имел соответствующий себе образ подшучивания, из тишине стрелял, как из-за забора, шуткой, и умолкал.
Сам он никогда не смеялся, пожалуй, принимал мину человека, как бы чрезмерно беспокойного. Хладнокровно шутили над влюблённым паном Павлом, даже пан Сируц помогал.
– А! Мне это странно, что вы надо мной шутите, пане капитан, – воскликнул Павел, – такой сухарик, что никогда в жизни не улыбнулся женщине и в глаза ей не смотрел, которому также ни одна женщина никогда не улыбнулась, кто не знает любви, разве что по слухам…
Сируц открыл рот.
– Вы так думаете? – спросил он.
– Не иначе, – капитан замолчал и выпил.
Только после полуночи отозвалось в нём то, что ему нанесли – словно не был человеком, и мы обязаны этому чрезвычайному раздражению, что он рассказал нам свою историю под самым строжайшем заверением сохранения её в тайне… Но, но капитан Сируц давно уж не живёт…
Позднее я имел ловкость из других источников дополнить то, что он мне о себе рассказал – и из этого получилась следующая повесть… полностью историческая.
* * *
– Я родился, – говорил капитан, – в памятный год первого раздела Польши…
Могу сказать, что от колыбели жил я тем стоном, который издавало совершаемое насилие. Быть может, что в иных кругах быстро освоились с несчастной долей страны, в бедных шляхетских усадьбах в Литве память этого вторжения и позорного Гроднеского сейма, узаконившего разделы, жила постоянно, пробуждая возмущение, горе, желание возмездия… Мои родители имели маленькую деревеньку в Лидском, в которой нас было двое, сестра и я, и довольно долгов в придачу. Счастьем для меня, из прошлого достались нам родственные связи и много богатых родственников, а в эти времена обязанности крови были понимаемы совсем иначе. Сейчас порвались эти узы, не обходящие никого, тогда не решался бы самый холодный человек показать безразличие к обедневшему родственнику.
Юзеф Игнаций Крашевский
В историческом романе «Варшава в 1794 году» автор обращается к эпохе восстания Костюшки. Главный герой романа, капитан Сируц, он же рассказчик и участник восстания, день за днём описывает события 1794 года, такими, какими они были в Варшаве. Также немалое место занимает любовь.
Роман «Елита» является 13 романом из исторической серии Крашевского «История Польши». Он рассказывает о последних годах правления Владислава Локотка, о предательстве Наленчей и битве с крестоносцами при Пловцах.
Юзеф Крашевский
Варшава в 1794 году
Сборник
Jоzef Ignacy Kraszewski
Warszawa 1794
Jelita
© Бобров А. С., 2016
* * *
Варшава в 1794 году
Брониславу Залескому, как дружескую весточку, посылает автор.
11 марта 1873 года
Sunt lachrymae rerum[1 - Есть слёзы для бед (лат.) Из «Энеиды» Вергилия.]…
Есть в жизни народов минуты горячки и пробуждения, которые, несмотря на их последствия (ибо те бывают самые разные), сами вливают новые силы во всё общество, вдохновляют её власти, спаивают и сближают людей и на долгие годы оставляют после себя не только память пережитых дней, но, как бы запах чувств, которыми расцветали.
Часто после них наступают часы покаяния и терпения, усталости и изнурения, но, несмотря на это, как электрической искрой, даже среди этого состояния оказывает воздействие напоминание о прошлом. В истории нашей страны таких ясных минут напряжения, пробуждения, поднятия духа мы насчитываем в последнем столетии несколько. Эпоха Четырёхлетнего сейма, восстание Костюшки, короткий первый момент возрождения Королевства, годы 1812, 1830 и 1863 принадлежат к ним. Каждый из этих моментов имел соответствующий себе характер, но все вместе взятые братскими чертами были похожими друг на друга. Люди в это время, словно какой-то не своей силой, зачерпнутой из тайного источника, менялись, росли, набирали силы, становились благородными и в их жизни потом пережитый год также оставался вечной звездой, к которой все думали возвратиться.
Кто же из нас не знал этих людей, переживших бои прошлого, ходящих потом, как чужаки, среди не своего мира и живущих одним часом, в котором сосредоточилась их жизнь? Помню, было это в счастливые дни молодости, я познакомился в деревне в одном из родственным с нами домов с паном капитаном Сируцом. Был он, по всей видимости, далёким каким-то кузеном самой пани дома и, по этому титулу называемый ею дядюшкой, проживал на Литве у семьи Б.
Был это вид резидента, но титул родственника и уважение, какие к нему все имели, досадное это положение делали сносным. Капитан Сируц очень неохотно показывался в обществе, особенно, когда в доме были гости; оттого, что дом всегда ими изобиловал, редко его можно было убедить пойти в гостиную. Он занимал пару комнат во флигеле, имел тип маленького своего хозяйства, мальчика для прислуживания, лошадь и возок, и в доме почти как гость выглядел.
Имея маленький капиталик, он не нуждался ни в какой настоящей милости, потому что мог им поддерживаться, но в городке не рад был жить, любил тишину и одиночество; тут он был паном своего времени и любил семейство Б, поэтому согласился на жертву пары покоев во флигеле. Нелегко, однако, по-видимому, к этому сразу пришло и должно было позволить ему испробовать эту жизнь, прежде чем с ней освоился. Капитан боялся всякого вида неволи, подданства, прислуживания, боялся быть смешным резидентом, ещё больше стать кому-то в тягость и, только лишь очень сильно убедив себя, что ему тут будет хорошо и людям с ним не хуже, осел в Вежбовнах.
Такого молчаливого человека мне не случалось в жизни встречать… он был скупым на слова даже до смешного, а иногда на протяжении целых дней едва кто от него пару невнятных слов, сказанных потихоньку, услышит.
Внешность была приличной и милой… На первый взгляд он выглядел на старого военного, обученного в хорошей школе. В пожилом уже возрасте, он держался просто, ходил мерным шагом, хотя не без некоторого изящества в движениях, одевался чрезвычайно старательно и чисто, почти элегантно, и лицо имел серьёзное, сердечное, милое и полное сладости, какое редко на старость после жизни остаётся. Кроме выражения некоторой застенчивости и боязни, когда он находился в многочисленном обществе, никогда ничего не отражалось на лице старого вояки, за исключения какой-то тоскливой задумчивости…
Достаточно любил читать, особенно исторические вещи, но читал медленно, внимательно и когда ему книжка с первых страниц не нравилась, предпочитал уж вовсе её не читать, чем принуждать себя.
Впрочем, никаких особенных пристрастий и привычек не имел – иногда охотился, но не распалялся к охоте, играл, не скучая, за игрой, выезжал верхом без страсти к лошадям. Человек, по-видимому, безразличный и выжитый, хотя это ему сердца не отнимало к людям и любви к ним.
Привязывался к нему каждый, кто дольше с ним побыл. Он со своей стороны не навязывался никому, не склонный был к фамильярности, на вид холодный, но когда однажды к кому-то пристал, хотя словами ему не показывал приязни, чувствовалось, что сердце было ей полно. В Вежбовнах уже научились так приспосабливаться к его привычкам, что оставили ему как можно большую свободу. Капитан приходил, когда хотел, уходил, когда ему нравилось, выезжал, возвращался и иногда целыми неделями, хотя был в доме, не показывался во дворе. Он имел на протяжении года несколько таких приступов какой-то меланхолии, в силу которой он бежал от людей…
Обычно в близкой среде и когда из него не вытягивали слово, потому что это был самый худший способ узнать у него чего-либо, тогда сам потихоньку говорил, рассказывал таким образом очень милые приключения из своей жизни и службы. Знал он очень многих людей, был в хороших отношениях с самыми выдающимися, и из сношений с ними остались воспоминания гораздо более яркие, чему у других. Схватывал, видно, сторону жизни и физиономию более истинно и глубже умел вникнуть в характеры. Но эти его признания вполголоса были редкими, осторожными, боязливыми и любое наименьшее препятствие, дисгармоничная нота, неловко вставленное слово… замыкало его уста.
Тогда также, когда капитан начинал говорить, все молчали… боялись дышать и слуги научились ходить на цыпочках.
Проживавший в Вежбовнах, привязался он тут и к старикам и к детям. Особенно их любил… и нас, которые в то время подрастали.
Молодёжь была для него, как бы предметом интересных лекций, приводимых, видимо, с некоторой целью и мыслью, потому что особенно обращал внимание на её чувства, на слова, которые выявить могли живущую память прошлого сраны и обязанностей к ней.
За исключением этих чрезвычайных минут возбуждения, редкого разговора и улыбки, Сируц проводил жизнь одиноко, замкнуто, спокойно и, был обращён больше к прошлому, нежели к современности…
Маленькая кучка людей заманивала его иногда в усадьбу, от особенно шумной толпы он убегал. В дни именин, в масленицы, в кануны праздников, попрощавшись с хозяевами, он выезжал куда-нибудь в околицу и не возвращался пока не успокаивалось.
Добиться от него что-то, когда не имел охоты рассказывать, было невозможным…
На вопросы отвечал он пожатием плеч, странным складыванием губ и, наконец, поспешным бегством с плаца.
Я имел к нему достаточно удачи, однако никогда его ни о чём не спрашивал, несмотря на горячее любопытство… Мы вместе ходили в молчании на прогулки, собирали цветы, смотрели, сидя в лесу, на поваленных брёвнах, в зелёные гущи, за которой заходящее солнце ярко проблёскивало, и возвращались в усадебку иногда после двух часов медитации, разговаривая немного живей.
Капитан говорил (когда на то пошло) с подбором некоторых слов, неторопливо, обдумывая, тихо, и следя, какое производил впечатление.
Как к иным вещам, так и к рюмке Сируц не имел пристрастия, не отказывался ни от водки перед обедом, ни от небольшого количества хорошего вина – пьянка же вызывала у него невыразимое отвращение. Однако же, когда вечером в маленьком кругу подавали бутылку старого венгерского вина и маленькие к ней напёрстки, а любители этого напитка, con amore, медленно смаковали его, наслаждаясь им, Сируц охотно удерживал плац и… в это время уста его развязывались, приходили даже весёлость и остроумие. А на утро возвращался к своей сумрачности и, словно стыдился вчерашней откровенности, был грустный и понурый. Уж мне этого припоминать не годилось.
Все его воспоминания обычно относились к одной эпохе – впрочем, жизнь уже как бы не существовала, была забыта и заслонена – если говорил, то только о костюшковской… Мы знали, что этот год 1794 он прожил между Варшавой и лагерем – для него это было светлое время, единственное время, в которое исчерпал всё, что может дать жизнь. С резнёй Праги закончилась для него эта жизнь и начались размышления и покаяния… Год этот он имел в памяти день за днём, час за часом…
Но также, кроме судьбы солдата и страны, в этот год, по всей видимости, разрешилась судьбы его сердца и надежды на счастье.
На протяжении довольно долгого отрезка времени я видел Сируца каждые несколько месяцев. Он ничуть не изменился, не постарел, выглядел так, что уже казался какой-то хорошей мумией, засушенной навсегда. У меня было время окончить школу и приступить к учёбе в университете… мы были теперь с ним в наилучших отношениях. В году 1829, едучи в Вильно, я на пару дней заехал в Вежбовны… Там как раз нашлось несколько особ, но из ближайшего нашего кружка… Второго вечера… хозяин приказал принести после ужина заплесневелую бутылку венгерского вина… началась при ней чрезвычайно оживлённая беседа.
Сируц был в этот день в расположении, в каком я его ещё не видел, улыбался, трубку за трубкой брал, остроумничал и имел соответствующий себе образ подшучивания, из тишине стрелял, как из-за забора, шуткой, и умолкал.
Сам он никогда не смеялся, пожалуй, принимал мину человека, как бы чрезмерно беспокойного. Хладнокровно шутили над влюблённым паном Павлом, даже пан Сируц помогал.
– А! Мне это странно, что вы надо мной шутите, пане капитан, – воскликнул Павел, – такой сухарик, что никогда в жизни не улыбнулся женщине и в глаза ей не смотрел, которому также ни одна женщина никогда не улыбнулась, кто не знает любви, разве что по слухам…
Сируц открыл рот.
– Вы так думаете? – спросил он.
– Не иначе, – капитан замолчал и выпил.
Только после полуночи отозвалось в нём то, что ему нанесли – словно не был человеком, и мы обязаны этому чрезвычайному раздражению, что он рассказал нам свою историю под самым строжайшем заверением сохранения её в тайне… Но, но капитан Сируц давно уж не живёт…
Позднее я имел ловкость из других источников дополнить то, что он мне о себе рассказал – и из этого получилась следующая повесть… полностью историческая.
* * *
– Я родился, – говорил капитан, – в памятный год первого раздела Польши…
Могу сказать, что от колыбели жил я тем стоном, который издавало совершаемое насилие. Быть может, что в иных кругах быстро освоились с несчастной долей страны, в бедных шляхетских усадьбах в Литве память этого вторжения и позорного Гроднеского сейма, узаконившего разделы, жила постоянно, пробуждая возмущение, горе, желание возмездия… Мои родители имели маленькую деревеньку в Лидском, в которой нас было двое, сестра и я, и довольно долгов в придачу. Счастьем для меня, из прошлого достались нам родственные связи и много богатых родственников, а в эти времена обязанности крови были понимаемы совсем иначе. Сейчас порвались эти узы, не обходящие никого, тогда не решался бы самый холодный человек показать безразличие к обедневшему родственнику.