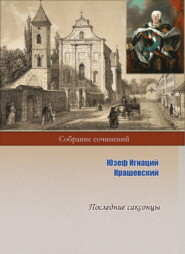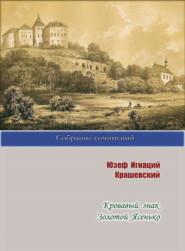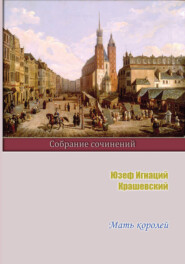По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Безымянная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Со Свободой я познакомился почти с его прибытия в Варшаву, наша дружба росла с каждым днём, не имел он от меня тайн… Я знал его знакомства… Людей, с которыми он жил, круги, в которых он обычно вращался, дома, в которых он бывал наиболее часто, мещан и господ ближе ему знакомых… я мог бы поклясться, что этот человек не имел врагов. Кого бы он своей добротой и сладостью не разоружил, кого же и чем бы мог восстановить против себя? Для меня и для всех эта жестокая смерть его осталась непонятной загадкой… Я служил тогда ещё в войске, – добавил гость, – и шёл именно в казармы, когда на улице заметил толпу людей, бегущих к Беднарской и кто-то бросил мне новость, что там совершено какое-то преступление… что убили какого-то иностранца, музыканта… Меня кольнуло то, что я помнил, что там жил Свобода. Я побежал за другими. Толпа уже окружала дом… но до середины ещё никто не достал… потому что ворота заперли… Я узнал, что Свобода два дня уже не показывался, это возбудило подозрение, а что двери были закрыты, приставили лестницу к окну и увидели в комнатке… лужу крови и лежащий труп… Я как раз вошёл, когда городские прислужники выломали двери, знакомый мне урядник взял меня с собой. При входе меня поразило ужасное зрелище…
На незастеленном ложе, рядом с открытым клавикордом и нотами, которые он начал писать (перо лежало на полу), мы увидели его в полном вечернем одеянии, сверху расстёгнутого, но с лицом как бы спящим и спокойным… Одна рука у него была свешена, другой же во время удара схватился за грудь и осталась так конвульсивно стиснутая… Но, как если бы не защищался, ни сопротивлялся убийце, как бы добровольно поддался или был спящим во время нападения, не было следа никакого насилия, борьбы, резни… Ничего вокруг мы не нашли разбитым, пошарпанным… На полу чернела капля крови, на одежде – струя застывшей крови, а в грудь в самое сердце был вбит по самую рукоять стилет…
Убийца, не имея времени или смелости вынуть из раны оружие, оставил его, как бы на свидетельство по себе. О самоубийстве даже нельзя было и думать, хотя были и такие, что его в нём подозревали. Я, что видел лежащие останки, уверен, что сам он убить себя не мог. Нельзя также было это нападение приписать жадности, так как на что бы польстился убийца у бедного? Дорогой перстень на пальце, бриллиантовая булавка в одежде – подарки друзей и учениц, остались нетронутыми, хотя были очень видны… В открытом ящике маленький денежный запас лежал также нетронутым. Несмотря на это, шкатулка разбита, стол отодвинут, все тайники, видимо, были обысканы и обворованы, а что всего удивительней – в камине видна была куча пепла от сожжённых бумаг.
Убийца, который по неизвестным причинам, уничтожив какие-то письма, записки… и боясь, может, чтобы по их пепельным остаткам не отгадали чего-то ещё, затоптал и затушил ногами, так, что на пепле я нашёл отчётливый отпечаток мужской обуви… Меня это поразило, я, может быть, один, вошедший, заметил след стопы, мне казалось, что нога была маленькой, а ботинок изящной работы с подошвой. Позднее влетел сквозняк и этот пепел разворошил… Я разгребал сожжённые бумаги: они были старательно уничтожены, но маленькие частички недогоревшей бумаги казались остатками писем…
Когда началось расследование, достав стилет из раны, естественно старались о чём-нибудь догадаться по нему, напасть на какие-нибудь следствия преступления – но тут снова представилась другая сторона неразрешимой загадки. Стилет был предивной итальянской работы, очень дорогой, с рукоятью из чистого золота, представляющей скелет, покрытый саваном… Эта скульптурка, служащая за улику, была так мастерски сделана, что сам его величество король, который велел принести его себе для осмотра, оценил его работой Бенвенуто Челлини, одного из наиславнейших итальянских скульпторов. Откуда такое сокровище могло попасть в руки убийце?
Этот день, эти часы, которые я провёл в квартире моего друга, не выдут никогда у меня из памяти; долгое время образ убитого Свободы, его чернеющее лицо и мягкое его выражение, словно прощал убийцу… повторялись мне в снах. Возмущённый, я с наибольшим вниманием искал следы, которые могли бы навести на какую-нибудь догадку… но тогда я был слишком разгневан, чтобы обратить внимание на мелочи… а потом не было уже времени повторить… так как вещи и комнатка были опечатаны… Я помню только, что первоначальная обстановка была наполовину изменена и запятнана как бы брошенным на неё пером, что стулья, казалось, дают право заключить, что убийца какое-то время сидел напротив Свободы… Со стены над кроватью должно было быть сорвано какое-то изображение, потому что после него остался только вбитый гвоздь.
X
Этот случай не только на меня и друзей бедного музыканта, но во всём городе произвёл чрезвычайное впечатление, долгое время умы успокоиться не могли, взывали отовсюду к справедливой мести, но поиски были совершенно безрезультатны…
Эта смерть осталась, как была, непонятной для всех загадкой, которой жизнь умершего никоим образом объяснить не могла. Мы знали все его отношения, дома, в которых он часто бывал, повсеместную любовь, какая его окружала: ни ревность, ни жадность, ни личное оскорбление не казались возможными, потому что Свобода был великого внутреннего мира, не имел близких связей почти ни с кем, за исключением нескольких друзей, а заядлого врага не мог иметь ни одного.
Можно себе представить, какой тревогой и беспокойством этот случай охватил умы; толпы постоянно ходили осматривать место, на котором было совершено преступление; было допущено множество глупцов, ломали себе головы, почти закончили на том, что, пожалуй, он пал жертвой странной ошибки. Но как же было в таком случае объяснить уничтоженные бумаги, сожжённые в камине письма, розыски в квартире, след которых был так ещё виден?
Второй этаж каменицы, в которой жил Свобода, занимал небольшой ресторан; расспрашивали слуг и гостей. Некоторые припомнили, что вечером того дня, когда предположительно совершили убийство, мужчина высокого роста, широкоплечий, покрытый плащом, в шляпе, надвинутой на глаза, спросил внизу о музыканте, потом пошёл на лестницу и после его ухода, музыка, которая была сперва слышна, сразу стихла. Ни малейшего шума, голосов, борьбы… никто не заметил. Довольно поздно этот незнакомец прытко выскользнул из дома, закутанный плащом, и напевая по дороге, наверное, чтобы показаться спокойным. Свет, который обычно очень долго был виден в окне музыканта, в этот день погас очень рано. Дверь была закрыта на ключ, а ключ этот исчез…
Это было всё, что мы, его друзья, могли выследить… оказалось, однако, что Свобода в самой большом секрете скрывал какую-то тайную вечернюю встречу за городом… что несколько раз встретили его, возвращающимся со стороны Лазинек и объясниться не хотел и не умел, где своё время провёл… Нужно было допустить, что какая-то ревность направляла, пожалуй, руку убийцы, но кто знает обычаи века, тот с трудом согласится на то, что подобная страсть могла толкнуть у нас даже на преступление.
На похороны Свободы сбежались толпы, ряды карет шли за гробом, всеобщее сочувствие сопровождало его до могилы – но потом, когда наговорились, надумались, напридумывали странных сказок… бедный человек остался забытым, как на свете обо всём забывают.
XI
Хела с заплаканными глазами слушала повесть незнакомца, пани Ксаверова вздыхала.
– Я помню, – добавила она, – что позже, может, через год уже, крутился всеобщий роман о Свободе, якобы принятый за правдивый, что в него влюбилась какая-то богачка, пани с большим именем, что муж её узнал о том, выследил его, напал сам и убил…
– Слышал и я это, – добавил гость, – но, дорогая пани, мы пожимали плечами на эти байки… Мы видели варшавскую жизнь, множество скандалов, а всё-таки ни один не развязался так трагично.
Свобода, хотя издавна давал лекции в богатых домах, невозможно было допустить, чтобы скромный и несмелый человек мог поднять глаза на одну из больших пан и завязать тайно какие-то отношения… Впрочем, в то время кончилось это вполне иначе… По характеру музыкант, который большого света не любил, а от галантного общества бежал, можно заключить, что там для сердца не искал бы удовлетворения.
Мы посчитали потом все дома, особ, старались догадаться о чём-то более вероятном, не было ни тени, ни подозрения! Свобода из-за своего хорошо понимаемого чувства собственного достоинства из роли музыканта никогда не выходил, бывал только в часы лекции и приглашённый для показа. В домах более богатых мещан, где был желанным гостем, скорее с тростью, нежели со стилетом, встречался в случаях ревности. В конце концов ничего неизвестно и догадаться невозможно ни о чём.
XII
– Преступник ушёл безнаказанно… – сказал со вздохом незнакомец.
– На суд Божий, – докончила Ксаверова. – Мы за несколько месяцев до этого происшествия замечали в Свободе большие перемены… Раньше – весёлый, милый, спокойный, можно сказать, счастливый, вдруг похудел, побледнел, стал задумчивым… на самый небольшой шелест дрожал, словно чего-то боялся… Часами, как раньше, играя с Хелусей, которую так любил, слова не выговаривал, только смотрел, больно улыбался, видно было, что его тяготила какая-то забота… Я иногда видела слёзы в его глазах, но он скрывал их.
Когда я ловила его на этих тоскливых размышлениях, он заверял меня, клялся, что у него ничего не случилось, и начинал шутить, смеяться, но ему это не шло, чаще потом убегал.
Я сильно также удивлялась, когда однажды принёс Хелуси своё изображение и два эти медальона, которые просил, чтобы сохранили… «Если о нём вспомню, – сказал он, – то отдадите его мне, а нет, то пусть у Хели останется, будет иметь памятку обо мне».
Другой медальон, как вы видите, изображает женщину, красивый профиль, одежда большой пани… но в этом мраке кто чего догадается. Я в то время осмелилась его спросить, кто это такая была? – он мне живо ответил:
«Это моя сестра…»
Он забыл, что раньше как-то, когда я его спрашивала о братьях и сёстрах, он бесспорно говорил, что их не имел, что был один и сиротой.
– Моя сестра, – повторил мне потихоньку, – добрая, любимая сестра, которая меня одна в жизни любила… Но я её потерял…
Только позже я заметила на другой стороне медальона побледневшими чернилами, нечитаемое, написанное женской рукой по-французски:
A mon ami Venceslas – Louise.
– Этот второй медальон, – говорила Ксаверова, показывая при свете гостю, который внимательно рассматривал оба, – имеет только инициалы из волос, в которых кажется разборчивой только L… но, впрочем, пожалуй, никто не прочитает, потому что закорючка специально запутана. По гербу я также не могла бы узнать чей, потому что не знаю о том…
Гость долго всматривался, потом, молча, положил оба медальона на стол.
Его поразило то, что, по какой-то случайности, профиль женского медальона был схож с красивыми чертами Хели.
Герб был известный, но в каждом из них столько у нас семей насчитывается, что угадать было трудно, которой он мог служить.
Гость, задумчивый, молчащий, не обращая своего внимания на женщин, сидел словно прибитый воспоминаниями о друге.
– Много вы, пани, потеряли со смертью такого человека, – сказал он спустя минуту, – который умел любить… а был таким сердечным, к кому привязывался.
– О, мой добрый пане, – отозвалась старшая, – Бог знает, как это произошло, но смерть его была как бы пророческой и началом всех наших несчастий – с неё они начались.
Как-то через полгода после убийства Свободы мы со страхом узнали, что лекарь, который нам доверил Хелусю, человек уже старый, неожиданно умер, сваленный апоплексией. Муж побежал узнавать, не было ли приписки в завещании насчёт ребёнка, либо распоряжения, касательно его, но не в завещании, ни в бумагах ничего не нашлось.
Мы ждали год, полтора, два – никто уже к ребёнку ни с оплатой, ни с какой новостью от семьи не объявился…
Впрочем, о том речь не шла, потому что я не отдала бы Хелуси, но жилось нам всё как-то хуже. Мне Бог дал Юлку, второго ребёнка, для которого она была сестрой, няней, учительницей – всем. Дом снова наш повеселел на короткое время, но как это счастье не продолжается на свете, муж снова начал болеть…
Доктора совещались, заливали его лекарствами, словно глотал смерть, сох бедняга всё больше, ничто его спасти не могло, умер, оставляя нас троих на милость Божью, почти без гроша, без друзей и семьи… сиротами…
С помощью доброй Хели, которая рано научилась работать, мы прожили несколько лет в городе, но жилось нам со дня на день тяжелей и тяжелей.
Юлка начала бледнеть, болеть, кашлять, врачи велели обязательно вывезти её на деревенский воздух.
Родственник князя маршалка дал нам это схоронение на деревне. Достойный пан сделал это из лучшего сердца, но, видно, никогда в этом владении не бывал, не знал его, не видел, какой нам тут милый приют выделит советник. Мы приехали, нас приняли презрительно и определили вот этот уничтоженный пустырь, в котором много лет никто не жил… а я едва имела за что пошить и облепить, чтобы как-то высидеть…
В пане советнике вместо опекуна мы нашли преследователя. Вот вся наша жизнь, – докончила Ксаверова, – а что дальше будет, это уж один Бог знает.
XIII
– Если бы вы меня, мои добрые дамы, хотели послушать, – отозвался гость после раздумья, – а! может, мы бы также что-нибудь придумали. Вам тут на деревне выжить всё труднее будет, потому что работой вашей вы ничуть не сделаете, а что до тяжёлой работы, то и вы не привыкшие, и она бы вам хлеб не дала. Однако же Юлке, должно быть, лучше!
Мать посмотрела на альков, прежде чем собралась ответить, – боялась, видимо, чтобы ребёнок не услышал, а хотя Юлка казалась спящей, кивнула отрицательно головой, громко говоря:
– Да, лучше, ей лучше!
– Значит, вы могли бы безопасно вернуться в Варшаву. У меня, – добавил он, – есть там немного знакомых, я мог бы дать письма к людям, чтобы занялись вашей судьбой. Я нашёл бы подходящую работу для панны Хелены…