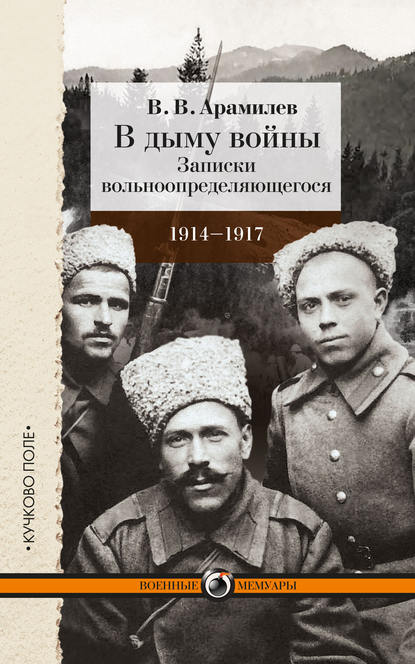По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. 1914-1917
Автор
Жанр
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прапорщики часто заходят на остановках в солдатские вагоны.
Знакомятся и «сближаются» с «серой скотинкой». Это им необходимо.
Отношение их к нижнему чину так необычно по сравнению с тем, что мы видели в казарме.
Солдаты смущаются, на вопросы прапорщиков отвечают односложным дурацким:
– Никак нет.
Ничего не добившись, прапорщики разочарованно уходят в свой вагон. Между ними и солдатами – пропасть.
* * *
Все чаще и чаще попадаются «следы войны».
На каждой станции встречаем санитарные поезда с ранеными и больными.
Из окон санитарных вагонов выглядывают землистые, белые, как носовой платок, лица с ввалившимися глубоко глазами.
И в этих усталых глазах, оттененных траурной рамкой подозрительной синевы, переливается тупое безразличие ко всему происходящему.
У каждого своя боль, свои раны, свои думы.
Жадно расспрашиваем обо всем. Большинство отвечает неохотно, скупо, как будто они уже тысячи раз все это рассказывали и им смертельно надоело.
Все пути на, станциях забиты воинскими эшелонами. Кругом, куда ни глянь, все одно и то же: снаряды, колючая проволока, орудия, защитные двуколки, тюки прессованного сена, кули овса, ящики консервов, быки, бараны, лошади.
Вся эта масса разнородных ценностей непрерывной рекой стекает в ненасытную пасть фронта, чтобы перевариться в нем и превратиться в ничто.
Солдаты, обозревая метким хозяйственным мужицким взглядом поезда и склады с «добром», удивленно восклицают:
– Эх, сколько добра погниет!..
– Ну и прорва этот хронт, язви его бабушку!..
На станциях все комнаты забиты военными. Масса юрких «посредников» между фронтом и тылом.
Они охотно рассказывают о победах и поражениях нашей армии.
На каждой станции в буфетах – облака табачного дыма и разговоры о войне.
Вся страна играет в солдатики.
На перронах разгуливают целыми группами сестры милосердия.
Сестры отчаянно кокетничают с офицерами, поставщиками, земгусарами и интендантами.
Быстро знакомятся. Вслух, во всеуслышание объясняются мужчины в любви.
Война «демократизирует», упрощает отношения людей.
Отношения между полами тоже «упростились».
* * *
Застряли на маленькой станции. Говорят, дальше поезда не идут. Двигаемся пешком. До фронта около ста километров.
Явственно слышны раскаты горных орудий.
На этой станции за два часа до нашего приезда был воздушный бой.
Немецкие аэропланы сбросили несколько бомб.
Повреждено много товарных вагонов. Разбит санитарный вагон с ранеными.
Обломки разобрали, людей унесли, на месте катастрофы осталось большое кровавое пятно.
Это первое пятно, которое мы увидели.
Люди были погружены в вагон, перевязаны, с минуты на минуту ожидали отправки в тыл, должны эвакуироваться и… эвакуировались совсем в другом направлении.
На запасном пути среди обломков вагона лежит убитый смазчик. Его санитары забыли. Лежит, неестественно согнув под себя лохматую рыжую голову. На него никто не обращает внимания. Около него лужица крови и жестянка с маслом.
* * *
На маленькой станции стоим уже два часа. Подозрительно долго.
В вагоны влезает ходивший в буфет высокий, коренастый, с конусообразно усеченным подбородком Голубенке.
Люди говорять – в обратну сторону пойдемо.
– Почему?
– Турци войну нашему царю объявили. На турецкий хронт, кажут, отправлять теперь уси талоны велено.
Вагон замер в испуге, в изумлении, в любопытстве, в неясности.
Кого-то прорвало:
– Вуде брехать, злыдень поганый!
– Вот-те крест! В газете писано: турци на нас пошли.
К газете тянутся нетерпеливые руки.
Рыжеусый ефрейтор внятно читает манифест Николая, оттиснутый жирным шрифтом на первой странице:
«Предводимый германцами турецкий флот осмелился вероломно напасть на наше Черноморское побережье.