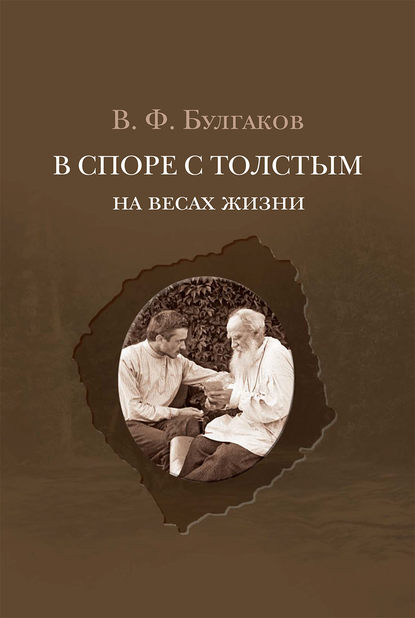По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В споре с Толстым. На весах жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они – стихия, а те – рассудок, да еще подчас узкий или больной рассудок.
Они – закон, а те – исключение, обычно – ничтожное количественно.
Одни – мучают себя расхождениями между духовными требованиями и телесными инстинктами, а другие живут полным и радостным круговоротом духовно-материальных существ – в духе психофизического монизма.
За кем пойти?
Да этого даже и решать не нужно!
Волна жизни рано или поздно унесет вас в общежитейское море. Зато в нем держитесь бодро, хорошо и разумно!
* * *
Перелистывая «Подражание Христу»
, подумал: великий и чистый Фома и вообще монах всегда противопоставляет жизнь монастырскую жизни «в миру». Итак, жизнь «в миру», собственно, не отрицается, факт ее остается. Но только она – жизнь «в миру», и живут ею миллионы или, проще говоря, все вообще люди, а монашеская, отшельническая жизнь идет сама по себе, вне мира, в уединении, в скиту, в монастыре, и живут ею единицы. Sapienti sat
.
* * *
Зашел ко мне М., евангелический проповедник. Спрашивает, в чем именно расхожусь я с Толстым. Я уклонился от ответа, не был готов к вопросу. А пришлось бы отвечать коротко так: «я становлюсь на защиту прав плоти». Но ведь он пришел бы в ужас, если бы я так просто и сказал. Ведь это – «измена Христу», «измена духу», «измена Богу»!
Но, может быть, Бог-то и проявляется в телесном? Недаром указывал Мальбранш, что мы не имеем права причислять Божество к духовным инстанциям на том только основании, что мы не знаем ничего более совершенного, чем наш дух
.
* * *
Бог? Это – высший закон жизни, это – высший нравственный закон, это – мои лучшие, самые высокие, самые глубокие и мощные силы. Такие же силы – налицо в других людях. Они присутствуют и во всем мире. Ими он живет, из них растет, из них все снова возрождается и обновляется. И не ясно ли, что источник, корень этих сил, Бог-дух или Бог-материя, один и тот же?
* * *
Вот то-то, что перед нами лежит задача, состоящая буквально в том, чтобы «примирить Небо и землю». Они издавна, – со времен Средневековья, во всяком случае, – находятся в неестественной, непримиримой вражде и борьбе между собой.
Аскет-христианин (каков мой евангелик) и «толстовец» не могут и подумать о том, чтобы признать да еще счесть за дозволенное и за благо «права плоти». А убежденный материалист безнадежно глух не только к духовному и духовности, но и ко всякому идеализму или, например, к возведению совести в разряд непреложного мерила наших поступков.
И неужто, на самом деле, нет одинаково ценной и приемлемой для обоих «золотой середины», которая бы примирила и объединила обоих?
Верю, что есть. И не может ли в основу ее быть положен такой принцип: служение духу при удовлетворении естественных, элементарных прав тела?
Тут мне, конечно, напомнят о «птицах небесных», которые «ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы»
и которых Отец наш Небесный все же питает, а также о «полевых лилиях», которые «ни трудятся, ни прядут» и которые, тем не менее, так прекрасны, «что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них»
.
Да, это – одно из самых трогательных и самых поэтических мест во всем Евангелии. Но бедняки находят все же, что эта поэзия не кормит их, и часто ропщут, изнемогая в непосильном труде. Те же из моралистов, что «не приемлют мира», отнюдь не идут по стопам Христа, отрицая наши нужды и выступая против их удовлетворения. Словом, палестинская идиллия кончилась, и все в мире повернуто на практический и разумный лад.
* * *
Учение о двойственности нашей природы не следует понимать так, что дух и тело – это две стихии, находящиеся в вечном противоборстве. Нет, они дополняют друг друга. Тело мертво, слепо, пошло без духа, а дух нуждается в теле для своего проявления. Это – как музыка и музыкальный инструмент: одно без другого – ничто. В этом-то и смысл, и красота творения. Это-то и определяет путь и строй каждого отдельного существа и всего мироздания.
* * *
Для человека полнота и прелесть духовного заключается именно в том, когда оно не отвлеченно, а когда оно дышит в материи. Л. Н. Толстой при мне говорил однажды о том, что материальное является проводником духовного. Его даровитый ученик Сергей Булыгин тоже утверждал это, приводя в пример выразительность глаз, выразительность человеческого взгляда. А между тем есть люди, которые хотят выскочить из этого материального мира, что совершенно невозможно.
* * *
Состояния свободы от тела, – радостной, прелестной, одухотворенной свободы, – бывают только временные.
* * *
Хотя окружающий нас мир, по Канту и по Толстому, относителен и представляет собой только явления – феномены, а не вещи в себе – ноумены, и хотя условия восприятия его в пространстве и времени всегда показывают его нашему сознанию не тем, что он есть, – тем не менее, оставаясь сами в этом относительном и призрачном мире, составляя сами, пока мы сознаем себя телесными, часть его, мы не можем, не умеем, не в силах, да нам этого и не нужно, мы не должны – жить как бы вне его, только и исключительно – своим внутренним, бестелесным, духовным существом.
Главное – не можем. Если бы мы захотели этого, мы должны были бы ненавидеть внешний мир – как врага, и бежать, прятаться от него – как от врага. Но мы брались бы таким образом за не принадлежащую нам задачу, ибо не нами установлен мировой порядок. Кем же? Самой природой или, с точки зрения верующих людей, тем же Отцом, Богом, который хочет, чтобы мы жили именно в этом внешнем мире. Конечно, Бог – Deus sive natura
(по Спинозе) – не мог дать нам этот мир для того, чтобы мы его ненавидели. Он дал нам внешний мир для того, чтобы мы любили его и разумно пользовались им.
Любовь к миру – азбука для материалиста, который берет все вещи так, как мы их видим и воспринимаем, и который, отвергая всякую метафизику, признает объективную реальность эмпирического познания. И, конечно, такой подход к делу практически – самый разумный и единственно нужный. Он сразу ставит человека на твердую почву и содействует успеху его работы. Но мы применяемся к психологии и воззрениям религиозного человека.
Когда верующий человек говорит: тяжело мне во внешнем мире, я погрязаю в страстях, – Бог спрашивает его: а разве я не дал людям разума, совести и любви? Разве разум, совесть и любовь – недостаточно верные поводыри, чтобы вести тебя по дорожкам жизни среди явлений внешнего мира? Разве разум, совесть и любовь не имеют достаточно силы, чтобы подхватить тебя под руки, когда ты, заколдованный «мечтанием» или желанием, готовишься ступить в пропасть? Нет, в разуме, совести и любви даны человеку достаточно надежные руководители, чтобы с ними жизнь среди внешнего мира, пока он в ней остается, была для него благой и такой, какую на человеческом языке называют счастливой.
* * *
Лев Николаевич говорит о «более полном исполнении воли Бога» (письмо к Полонскому, 7 апреля 1898 г.)
.
Да, да… Гляжу я в это синее небо и вижу этот нетленный идеал полного выполнения воли Бога.
В чем он? В полном отречении от себя? Да?..
Но нет! —
Не может быть воля Бога в противоречии с тем положением, в которое Бог поставил нас здесь, на земле.
* * *
Самоотречение, долг самоотречения!.. Кажется, в любую христианскую концепцию, – все равно, в церковническую или сектантскую, – и в любую философско-идеалистическую систему входит это понятие, понятие самоотречения, как нечто неизбежное, само собой разумеющееся. Но вот философ-идеалист Иоганн Готлиб Фихте учит о другой нравственной обязанности, о другом долге, именно – о долге самосохранения. Что он под этим разумеет? Нравственную обязанность человека воздерживаться от изнуряющего поста, от чрезмерного труда, безудержного разврата, попыток самоубийства, неэкономичной траты духовных сил и т. д., предписывая, вместо этого, разумный, нормальный, гигиенический образ жизни.
Где же больше любви к человеку: в этой заботе о нем или в требованиях самоотречения во имя самоотречения?
* * *
В 1914–1915 гг. я долго содержался в тюрьме за воззвание против войны. Все пережитое и перенесенное в заключении вызвало во мне много мыслей – на тему о самоотречении. Да, состояние внутренней независимости и силы духа, которого достиг я в тюрьме, было, кажется, «наивысшим» моментом в моей жизни. Я стоял на пути к осуществлению идеала полного «самоотречения», – идеала, который, по всей справедливости, должен был бы носить имя «самоутверждения», ибо, отрекаясь от тела, мы утверждаемся в духе.
Но не является ли высокая оценка «самоотречения», т. е. крайности в борьбе за свое духовное бытие, за обеспечение свободы своего духовного «я», уместной и справедливой только в подобного рода исключительных условиях, условиях внешнего принуждения, в каких, скажем, человек, преследуемый за свои убеждения, находится в тюрьме? По отношению только к мученику за идею, за веру? И не есть ли, наоборот, «самоотречение» добровольное, осуществляющееся человеком, полным сил и жизни, без всякого определенного внешнего повода и без всякого давления со стороны, – «самоотречение» монаха-аскета, например, – чем-то совершенно иным, быть может, теряющим тот светлый ореол, которым сознание наше невольно окружает затравленного грубыми, нетерпимыми и жестокими людьми героя-мученика?
Они – закон, а те – исключение, обычно – ничтожное количественно.
Одни – мучают себя расхождениями между духовными требованиями и телесными инстинктами, а другие живут полным и радостным круговоротом духовно-материальных существ – в духе психофизического монизма.
За кем пойти?
Да этого даже и решать не нужно!
Волна жизни рано или поздно унесет вас в общежитейское море. Зато в нем держитесь бодро, хорошо и разумно!
* * *
Перелистывая «Подражание Христу»
, подумал: великий и чистый Фома и вообще монах всегда противопоставляет жизнь монастырскую жизни «в миру». Итак, жизнь «в миру», собственно, не отрицается, факт ее остается. Но только она – жизнь «в миру», и живут ею миллионы или, проще говоря, все вообще люди, а монашеская, отшельническая жизнь идет сама по себе, вне мира, в уединении, в скиту, в монастыре, и живут ею единицы. Sapienti sat
.
* * *
Зашел ко мне М., евангелический проповедник. Спрашивает, в чем именно расхожусь я с Толстым. Я уклонился от ответа, не был готов к вопросу. А пришлось бы отвечать коротко так: «я становлюсь на защиту прав плоти». Но ведь он пришел бы в ужас, если бы я так просто и сказал. Ведь это – «измена Христу», «измена духу», «измена Богу»!
Но, может быть, Бог-то и проявляется в телесном? Недаром указывал Мальбранш, что мы не имеем права причислять Божество к духовным инстанциям на том только основании, что мы не знаем ничего более совершенного, чем наш дух
.
* * *
Бог? Это – высший закон жизни, это – высший нравственный закон, это – мои лучшие, самые высокие, самые глубокие и мощные силы. Такие же силы – налицо в других людях. Они присутствуют и во всем мире. Ими он живет, из них растет, из них все снова возрождается и обновляется. И не ясно ли, что источник, корень этих сил, Бог-дух или Бог-материя, один и тот же?
* * *
Вот то-то, что перед нами лежит задача, состоящая буквально в том, чтобы «примирить Небо и землю». Они издавна, – со времен Средневековья, во всяком случае, – находятся в неестественной, непримиримой вражде и борьбе между собой.
Аскет-христианин (каков мой евангелик) и «толстовец» не могут и подумать о том, чтобы признать да еще счесть за дозволенное и за благо «права плоти». А убежденный материалист безнадежно глух не только к духовному и духовности, но и ко всякому идеализму или, например, к возведению совести в разряд непреложного мерила наших поступков.
И неужто, на самом деле, нет одинаково ценной и приемлемой для обоих «золотой середины», которая бы примирила и объединила обоих?
Верю, что есть. И не может ли в основу ее быть положен такой принцип: служение духу при удовлетворении естественных, элементарных прав тела?
Тут мне, конечно, напомнят о «птицах небесных», которые «ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы»
и которых Отец наш Небесный все же питает, а также о «полевых лилиях», которые «ни трудятся, ни прядут» и которые, тем не менее, так прекрасны, «что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них»
.
Да, это – одно из самых трогательных и самых поэтических мест во всем Евангелии. Но бедняки находят все же, что эта поэзия не кормит их, и часто ропщут, изнемогая в непосильном труде. Те же из моралистов, что «не приемлют мира», отнюдь не идут по стопам Христа, отрицая наши нужды и выступая против их удовлетворения. Словом, палестинская идиллия кончилась, и все в мире повернуто на практический и разумный лад.
* * *
Учение о двойственности нашей природы не следует понимать так, что дух и тело – это две стихии, находящиеся в вечном противоборстве. Нет, они дополняют друг друга. Тело мертво, слепо, пошло без духа, а дух нуждается в теле для своего проявления. Это – как музыка и музыкальный инструмент: одно без другого – ничто. В этом-то и смысл, и красота творения. Это-то и определяет путь и строй каждого отдельного существа и всего мироздания.
* * *
Для человека полнота и прелесть духовного заключается именно в том, когда оно не отвлеченно, а когда оно дышит в материи. Л. Н. Толстой при мне говорил однажды о том, что материальное является проводником духовного. Его даровитый ученик Сергей Булыгин тоже утверждал это, приводя в пример выразительность глаз, выразительность человеческого взгляда. А между тем есть люди, которые хотят выскочить из этого материального мира, что совершенно невозможно.
* * *
Состояния свободы от тела, – радостной, прелестной, одухотворенной свободы, – бывают только временные.
* * *
Хотя окружающий нас мир, по Канту и по Толстому, относителен и представляет собой только явления – феномены, а не вещи в себе – ноумены, и хотя условия восприятия его в пространстве и времени всегда показывают его нашему сознанию не тем, что он есть, – тем не менее, оставаясь сами в этом относительном и призрачном мире, составляя сами, пока мы сознаем себя телесными, часть его, мы не можем, не умеем, не в силах, да нам этого и не нужно, мы не должны – жить как бы вне его, только и исключительно – своим внутренним, бестелесным, духовным существом.
Главное – не можем. Если бы мы захотели этого, мы должны были бы ненавидеть внешний мир – как врага, и бежать, прятаться от него – как от врага. Но мы брались бы таким образом за не принадлежащую нам задачу, ибо не нами установлен мировой порядок. Кем же? Самой природой или, с точки зрения верующих людей, тем же Отцом, Богом, который хочет, чтобы мы жили именно в этом внешнем мире. Конечно, Бог – Deus sive natura
(по Спинозе) – не мог дать нам этот мир для того, чтобы мы его ненавидели. Он дал нам внешний мир для того, чтобы мы любили его и разумно пользовались им.
Любовь к миру – азбука для материалиста, который берет все вещи так, как мы их видим и воспринимаем, и который, отвергая всякую метафизику, признает объективную реальность эмпирического познания. И, конечно, такой подход к делу практически – самый разумный и единственно нужный. Он сразу ставит человека на твердую почву и содействует успеху его работы. Но мы применяемся к психологии и воззрениям религиозного человека.
Когда верующий человек говорит: тяжело мне во внешнем мире, я погрязаю в страстях, – Бог спрашивает его: а разве я не дал людям разума, совести и любви? Разве разум, совесть и любовь – недостаточно верные поводыри, чтобы вести тебя по дорожкам жизни среди явлений внешнего мира? Разве разум, совесть и любовь не имеют достаточно силы, чтобы подхватить тебя под руки, когда ты, заколдованный «мечтанием» или желанием, готовишься ступить в пропасть? Нет, в разуме, совести и любви даны человеку достаточно надежные руководители, чтобы с ними жизнь среди внешнего мира, пока он в ней остается, была для него благой и такой, какую на человеческом языке называют счастливой.
* * *
Лев Николаевич говорит о «более полном исполнении воли Бога» (письмо к Полонскому, 7 апреля 1898 г.)
.
Да, да… Гляжу я в это синее небо и вижу этот нетленный идеал полного выполнения воли Бога.
В чем он? В полном отречении от себя? Да?..
Но нет! —
Не может быть воля Бога в противоречии с тем положением, в которое Бог поставил нас здесь, на земле.
* * *
Самоотречение, долг самоотречения!.. Кажется, в любую христианскую концепцию, – все равно, в церковническую или сектантскую, – и в любую философско-идеалистическую систему входит это понятие, понятие самоотречения, как нечто неизбежное, само собой разумеющееся. Но вот философ-идеалист Иоганн Готлиб Фихте учит о другой нравственной обязанности, о другом долге, именно – о долге самосохранения. Что он под этим разумеет? Нравственную обязанность человека воздерживаться от изнуряющего поста, от чрезмерного труда, безудержного разврата, попыток самоубийства, неэкономичной траты духовных сил и т. д., предписывая, вместо этого, разумный, нормальный, гигиенический образ жизни.
Где же больше любви к человеку: в этой заботе о нем или в требованиях самоотречения во имя самоотречения?
* * *
В 1914–1915 гг. я долго содержался в тюрьме за воззвание против войны. Все пережитое и перенесенное в заключении вызвало во мне много мыслей – на тему о самоотречении. Да, состояние внутренней независимости и силы духа, которого достиг я в тюрьме, было, кажется, «наивысшим» моментом в моей жизни. Я стоял на пути к осуществлению идеала полного «самоотречения», – идеала, который, по всей справедливости, должен был бы носить имя «самоутверждения», ибо, отрекаясь от тела, мы утверждаемся в духе.
Но не является ли высокая оценка «самоотречения», т. е. крайности в борьбе за свое духовное бытие, за обеспечение свободы своего духовного «я», уместной и справедливой только в подобного рода исключительных условиях, условиях внешнего принуждения, в каких, скажем, человек, преследуемый за свои убеждения, находится в тюрьме? По отношению только к мученику за идею, за веру? И не есть ли, наоборот, «самоотречение» добровольное, осуществляющееся человеком, полным сил и жизни, без всякого определенного внешнего повода и без всякого давления со стороны, – «самоотречение» монаха-аскета, например, – чем-то совершенно иным, быть может, теряющим тот светлый ореол, которым сознание наше невольно окружает затравленного грубыми, нетерпимыми и жестокими людьми героя-мученика?