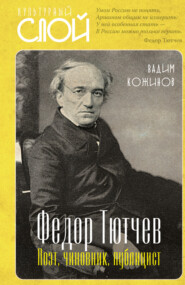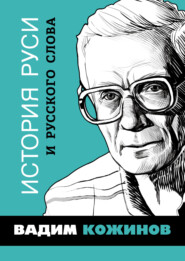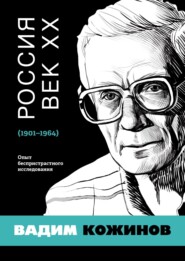По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Коренные различия России и Запада. Идея против закона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Между прочим, Нессельроде и его жена лично знали «подписавшего» клеветнический «диплом» графа Борха, служившего с 1827 года в министерстве иностранных дел. Что же касается Нарышкина, то чета Нессельроде знала не только его и его жену, но и дочь его жены Софью, зачатую от Александра I: к ней сватался опять-таки чиновник министерства иностранных дел А. П. Шувалов, которого по ходатайству Нессельроде произвели тогда в камергеры.
Хорошо известно, что супруги Нессельроде питали настоящую ненависть к Пушкину, который еще с юных лет, с июня Г8Г7 года, числился на службе в министерстве иностранных дел. 8 июля 1824 года Александр I под нажимом Нессельроде уволил Поэта со службы и отправил его в ссылку в село Михайловское.
Однако Николай I 27 августа 1826 года отменил ссылку, а в июле 1831-го распорядился о возвращении Пушкина в министерство иностранных дел. И выразительный факт: Нессельроде, рискуя вызвать недовольство царя, в течение более трех месяцев отказывался выплачивать Пушкину назначенное ему жалованье в 5000 рублей (в год).
П. П. Вяземский (сын поэта) свидетельствовал, что существовала острейшая вражда между Пушкиным и графиней Нессельроде. Стоит сказать здесь и о том, что супруги Нессельроде были в высшей степени расположены к Геккерну и по особенным причинам к Дантесу; дело в том, что последний являлся родственником, точнее, свойственником графа Нессельроде. Мать Дантеса, Мария-Анна-Луиз а (1784–1832), была дочерью графа Гацфельдта, родная сестра которого стала супругой графа Франца Нессельроде (1752–1816), принадлежавшего к тому же самому роду, что и граф Вильгельм Нессельроде (1724–1810), отец российского министра иностранных дел (это выяснил еще П. Е. Щеголев). Поэтому не было ничего неестественного в том, что супруга министра стала «посаженой матерью» («отцом» был Геккерн) на свадьбе Дантеса с Екатериной Еончаровой 10 января 1837 года.
Вышеизложенное вроде бы дает основания для того, чтобы объяснить причастность графини М. Д. Нессельроде и в конечном счете самого графа к составлению «диплома» их личной враждебностью к Пушкину. Но, как представляется, главное было в другом.
Уже упомянутый хорошо информированный П. П. Вяземский писал, что графиня Нессельроде была «могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сен-жерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и в салоне графини Нессельроде в Петербурге». Отсюда вполне понятна, как писал Павел Петрович, «ненависть Пушкина к этой представительнице космополитического олигархического ареопага… Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски».
Противостояние Пушкина и четы Нессельроде имело в своей основе отнюдь не «личный» характер, о чем убедительно писал в уже упоминавшемся исследовании Д. Д. Благой. Дело шло о самом глубоком противостоянии – политическом, идеологическом, нравственном; кстати сказать, после гибели Пушкина Тютчев (написавший об этой гибели как о «цареубийстве») словно бы принял от него эстафету в противостоянии Нессельроде[7 - См. об этом подробно в моей книге «Тютчев»].
По словам Благого (пожалуй, несколько вычурным, но по сути верным), Нессельроде и его круг представлял собой «антинародную, антинациональную придворную верхушку… которая издавна затаила злобу на противостоящего ей русского национального гения».
Это противостояние обострялось, показал Благой, по мере того как Николай I все более покровительствовал Пушкину и, с точки зрения придворной верхушки, усиливалась «опасность, что царь… может прислушаться к голосу поэта». Факты достаточно выразительны: в конце 1834 года выходит в свет «История Пугачевского бунта», на издание которой император предоставил 20 000 рублей и которую намерен был учесть при разработке своей политики в крестьянском вопросе; летом 1835 года Николай I дает Пушкину, занятому историей Петра I, ссуду в 30 000 рублей; в январе 1836 года разрешает издание пушкинского журнала «Современник», первые три номера которого вышли в свет в апреле, июле и начале октября (то есть за месяц до появления «диплома») 1836 года, и, несмотря на то что журнал назывался «литературным», на его страницах было немало «политического».
Исследование многостороннего сближения Поэта с царем в течение 1830-х годов опубликовал недавно один из виднейших наших пушкиноведов Н. Н. Скатов (Наш современник. 1998. № 11–12). В другой статье Николай Николаевич справедливо писал о неизбежности противоборства Пушкина и «лагеря» Нессельроде: «Если можно говорить (а это показали все дальнейшие события) об антирусской политике «австрийского министра русских иностранных дел» (таково было ходячее ироническое «определение» Нессельроде. – В. К.), то ее объектом так или иначе, рано или поздно, но неизбежно должен был стать главная опора русской национальной жизни – Пушкин» (Труд. 1998, 21 августа. Выделено Н. Н. Скатовым).
В связи с этим в высшей степени существенны суждения германского дипломата князя Гогенлоэ. Ко времени гибели Поэта он уже двенадцать лет пробыл в России, женился на русской женщине, хорошо знал и высоко ценил русскую культуру. Не менее важно, что он, во-первых, видел ситуацию, так сказать, со стороны, объективно, а во-вторых, мог выразить свой взгляд свободно, не опасаясь каких-либо «неприятностей». И 21 февраля 1837 года он писал, что о Поэте по-настоящему скорбит «чисто русская партия», к которой принадлежал Пушкин и которой противостоит значительная часть аристократии.
Учитывая все это, есть достаточные основания согласиться с выводом Д. Д. Благого, что пресловутый «диплом», который, по его убеждению, был задуман в салоне графини Нессельроде, преследовал цель вовлечь Пушкина «в прямое столкновение с царем[8 - О более ранних попытках «поссорить» Поэта и царя говорится в известных «Записках А. О. Смирновой».], которое, при хорошо всем известном и пылком нраве поэта, могло бы привести к тягчайшим для него последствиям», и в самом деле привело… Много лет близко наблюдавший графиню Нессельроде М. А. Корф (тот самый, который был однокашником Поэта в Лицее), отметил: «вражда ее была ужасна и опасна…»
Необходимо осознать, в частности, что конфликт с императором, независимо от его причины, никак не умещался в границы «семейной драмы» (в отличие от конфликта с Дантесом).
Хотя подтверждений решающей роли «салона Нессельроде» в появлении «диплома» не так уж много, несколько исследователей убежденно признавали эту роль, Д. Д. Благой не был здесь первооткрывателем. В 1928 году П. Е. Щеголев отметил, что «слишком близка была прикосновенность супруги министра к дуэльному делу». В 1938-м
Г. И. Чулков, автор книг не только о Пушкине, но и о российских императорах, писал: «В салоне М. Д. Нессельроде… не допускали мысли о праве на самостоятельную политическую роль русского народа… ненавидели Пушкина, потому что угадывали в нем национальную силу, совершенно чуждую им по духу…». В 1956 году И. Л. Андроников утверждал: «Ненависть графини Нессельроде к Пушкину была безмерна… Современники заподозрили в ней сочинительницу анонимного «диплома»… Почти нет сомнений, что она – вдохновительница этого подлого документа».
Не исключено такое возражение: перед нами, мол, утверждения представителей послереволюционного, советского литературоведения с характерной для него политизированностью и идеологизированностью. Однако выдающийся поэт и один из наиболее глубоких пушкиноведов Владислав Ходасевич в 1925 году опубликовал в эмигрантской газете небольшое сочинение под названием «Графиня Нессельроде и Пушкин», в котором с полной убежденностью говорится о графине как заказчице «диплома».
* * *
Как уже сказано, причастность Геккерна – несмотря на всю его близость к чете Нессельроде – к «диплому» представляется весьма сомнительной. Гораздо более достоверна версия Г. В. Чичерина, хотя излагающее ее письмо к П. Е. Щеголеву, опубликованное двадцать с лишним лет назад[9 - Нева. 1976. № 12.], не нашло должного внимания пушкиноведов (по-видимому, в связи с господством чисто «семейного» толкования событий).
Необходимо иметь в виду, что, во-первых, Г. В. Чичерин, известный как нарком иностранных дел в 1918–1930 годах, принадлежал к роду, давшему целый ряд видных дипломатов, хорошо осведомленных о том, что делалось в министерстве иностранных дел при Нессельроде, и, во-вторых, его дед и другие родственники лично знали Пушкина, а его тетя, А. Н. Чичерина, была женой сына Д. Л. Нарышкина, о котором и говорилось в «дипломе»… И Г. В. Чичерин, надо думать, опирался на богатые семейные предания. В письме Чичерина от 18 октября 1927 года как о само собой разумеющемся говорится о том, что инициатором «диплома» была графиня Нессельроде, но составил его по ее указанию вовсе не Геккерн, а Ф. И. Брунов (или, иначе, Бруннов) – чиновник министерства иностранных дел. Примечательно, что в 1823–1824 годах он служил вместе с Пушкиным в Одессе и вызвал негодование Поэта своим пресмыкательством перед вышестоящими. А в 1830-х годах Брунов стал «чиновником по особым поручениям» при Нессельроде и в 1840 году получил за свои заслуги – или услуги – престижный пост посла в Лондоне. Стоит сказать, что накануне роковой для России Крымской войны Брунов (как убедительно показано в знаменитом исследовании Е. В. Тарле «Крымская война») неоднократно отправлял в Петербург дезинформирующие донесения, внушавшие, что Великобритания отнюдь не намерена начать войну против России…
В своем неотправленном письме к графу Нессельроде от 21 ноября 1836 года Пушкин сказал о «дипломе» (он назван «анонимным письмом») следующее: «По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата». Это характеристика барона Геккерна, но она полностью применима к графу Брунову, который родился и до двадцати одного года жил в Германии.
Конечно, вопрос о роли Брунова нуждается в специальном исследовании, но по меньшей мере странно, что в течение долгого времени никто не занялся таким исследованием.
* * *
Предложенное выше истолкование событий 4 ноября 1836 – 27 января 1837 года, разумеется, можно оспаривать. Но, как представляется, невозможно спорить с тем, что гибель поэта имела не только «семейную», но и непосредственно историческую подоплеку, хотя в большинстве новейших сочинений это, в сущности, игнорируется.
Из приведенных выше свидетельств В. А. Соллогуба, Е. Н. Вревской, самого Николая I, а также из письма Пушкина к Канкрину, из намеков в сочинениях П. А. Вяземского и т. д. с достаточной ясностью следует, что суть дела заключалась в коллизии Поэт – царь, исходным пунктом которой явился «диплом», к тому же упавший на почву пушкинских «подозрений».
Сам же «диплом» был составлен опять-таки не ради личных интересов кого-либо, а с целью рассорить Поэта с императором, ибо имели место обоснованные опасения, что Пушкин может обрести существеннейшее воздействие на его политику. Это, разумеется, отнюдь не означает, что в салоне Нессельроде была запланирована состоявшаяся 27 января дуэль; но именно «диплом» явился «пусковым механизмом» тех мучительных переживаний и событий, которые в конечном счете привели к этой дуэли.
Наконец, свидетельства императора Александра II, П. П. Вяземского и – впоследствии – опиравшегося на семейные предания Г. В. Чичерина, а также резкое письмо Пушкина к Нессельроде (совершенно безосновательно публикуемое как письмо к Бенкендорфу) недвусмысленно говорят о том, что «диплом» исходил из салона Нессельроде, а салон этот тогда – во второй половине 1830-х годов – был, по определению М. А. Корфа, «неоспоримо первый в С.-Петербурге» и играл очень весомую политическую роль. И едва ли уместно видеть в фабрикации «диплома» сведение каких-либо личных счетов. Дело шло о борьбе на исторической сцене, и гибель Пушкина – подлинно историческая трагедия. Напомню его строки:
На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил…
Нельзя отрицать, что историческая трагедия имела вид семейной и именно так воспринимало и продолжает воспринимать ее преобладающее большинство людей. Но под
треугольником Наталья Николаевна – Пушкин – Дантес (вкупе с его так называемым «отцом») скрывается (если взять ту же геометрическую фигуру) совсем иной треугольник: Николай I – Пушкин – влиятельнейший политический салон Нессельроде (и в конечном счете сам министр). И гибель Поэта в этой коллизии была в полном смысле слова исторической трагедией…
* * *
Необходимо сказать об еще одной стороне дела, которая при верном ее освещении даст дополнительные аргументы в пользу изложенного представления о происшедшем. Как известно, немало близких Поэту людей – Вяземские, Карамзины, Россеты и другие – достаточно резко осуждали его поведение накануне дуэли, ибо полагали, что оно обусловлено чрезмерной и к тому же не имевшей серьезных оснований ревностью к Дантесу.
И надо прямо сказать (хотя, конечно, многим трудно будет согласиться с моим утверждением), что эти люди были со своей точки зрения в той или иной мере правы… Поскольку им представлялось, что Поэтом движет прежде всего или даже исключительно ревность к Дантесу, их упреки понятны и по-своему справедливы…
Вечер 24 января – то есть уже после беседы с императором и всего за два дня до дуэли – Пушкин провел в доме женатого на дочери Карамзина Екатерине Николаевне князя П. И. Мещерского, где присутствовали тогда Вяземский, другая дочь историка, Софья, и другие, в том числе и Дантес с женой. Софья Карамзина написала об этом вечере своему брату Андрею: «Пушкин скрежещет зубами и принимает свое выражение тигра… В общем, все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных».
Примечательно, что Софья Николаевна сочла происходящее «очень странным», то есть не объясняемым известными ей фактами, как бы догадываясь, что имеет место не только пресловутая «ревность», хотя вообще-то окружающие в конечном счете сводили все к ней.
Еще более существенно, что на следующий день Поэт явно попытался убедить своих друзей в отсутствии этой самой ревности. 25 января вечером он был у Вяземских, и опять там присутствовали Дантес с женой… Правда, не было самого хозяина: он уехал на бал к Мятлевым, осуществляя, возможно, свое обещание «отвратить лицо» от Пушкиных. Но позднее и жена, и сын Вяземского вспоминали, что Поэт сказал им о Дантесе: «…с этим молодым человеком мои счеты кончены», то есть дело вовсе не в ревности к пошлому юнцу, а в чем-то ином…
Ясно, что Пушкин не мог говорить о «роли» императора; он упомянул о нем в тот же день (другие такие факты неизвестны) в разговоре с Е. Н. Вревской, которая не была связана с петербургским светом.
Повторю еще раз: друзья Пушкина, убежденные, что причина его поведения – ревность к Дантесу, были, в сущности, правы в своих упреках. И с этой точки зрения нелогична позиция упомянутой современной исследовательницы С. Л. Абрамович, которая предлагает, в сущности, такое же толкование преддуэльной ситуации, как и тогдашние пушкинские друзья, но в то же время гневно их обличает за их упреки Поэту!..
Поскольку всецело господствовало представление о дуэли как результате чисто семейной коллизии, целый ряд выдающихся людей упрекали Поэта даже и после его гибели!
Так, Евгений Боратынский писал: «…я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно спрашиваю себя: зачем это так, а не иначе? Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной?..».
Более резко судил Поэта А. С. Хомяков: «Пушкин стрелялся с каким-то Дантесом… Жалкая репетиция (здесь – «повторение». – В. К.) Онегина и Ленского, жалкий и слишком ранний конец. Причины к дуэли порядочной не было… Пушкин не оказал твердости в характере…».
Упреки содержатся, в сущности, даже и в знаменитом стихотворении Лермонтова: «невольник чести…», «не вынесла душа поэта позора мелочных обид…», «зачем он руку дал клеветникам ничтожным?..» и т. п. И следует признать, что, если бы суть дела состояла в конфликте с Дантесом, эти упреки были бы в какой-то мере оправданными… Но выше приведены факты и свидетельства, которые убеждают, что гибель Поэта имела совсем иную, и неизмеримо более существенную, подоснову.
И последнее (но далеко не последнее по своей важности) соображение. Лермонтов недоумевал или даже обвинял Пушкина:
Хорошо известно, что супруги Нессельроде питали настоящую ненависть к Пушкину, который еще с юных лет, с июня Г8Г7 года, числился на службе в министерстве иностранных дел. 8 июля 1824 года Александр I под нажимом Нессельроде уволил Поэта со службы и отправил его в ссылку в село Михайловское.
Однако Николай I 27 августа 1826 года отменил ссылку, а в июле 1831-го распорядился о возвращении Пушкина в министерство иностранных дел. И выразительный факт: Нессельроде, рискуя вызвать недовольство царя, в течение более трех месяцев отказывался выплачивать Пушкину назначенное ему жалованье в 5000 рублей (в год).
П. П. Вяземский (сын поэта) свидетельствовал, что существовала острейшая вражда между Пушкиным и графиней Нессельроде. Стоит сказать здесь и о том, что супруги Нессельроде были в высшей степени расположены к Геккерну и по особенным причинам к Дантесу; дело в том, что последний являлся родственником, точнее, свойственником графа Нессельроде. Мать Дантеса, Мария-Анна-Луиз а (1784–1832), была дочерью графа Гацфельдта, родная сестра которого стала супругой графа Франца Нессельроде (1752–1816), принадлежавшего к тому же самому роду, что и граф Вильгельм Нессельроде (1724–1810), отец российского министра иностранных дел (это выяснил еще П. Е. Щеголев). Поэтому не было ничего неестественного в том, что супруга министра стала «посаженой матерью» («отцом» был Геккерн) на свадьбе Дантеса с Екатериной Еончаровой 10 января 1837 года.
Вышеизложенное вроде бы дает основания для того, чтобы объяснить причастность графини М. Д. Нессельроде и в конечном счете самого графа к составлению «диплома» их личной враждебностью к Пушкину. Но, как представляется, главное было в другом.
Уже упомянутый хорошо информированный П. П. Вяземский писал, что графиня Нессельроде была «могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сен-жерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и в салоне графини Нессельроде в Петербурге». Отсюда вполне понятна, как писал Павел Петрович, «ненависть Пушкина к этой представительнице космополитического олигархического ареопага… Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски».
Противостояние Пушкина и четы Нессельроде имело в своей основе отнюдь не «личный» характер, о чем убедительно писал в уже упоминавшемся исследовании Д. Д. Благой. Дело шло о самом глубоком противостоянии – политическом, идеологическом, нравственном; кстати сказать, после гибели Пушкина Тютчев (написавший об этой гибели как о «цареубийстве») словно бы принял от него эстафету в противостоянии Нессельроде[7 - См. об этом подробно в моей книге «Тютчев»].
По словам Благого (пожалуй, несколько вычурным, но по сути верным), Нессельроде и его круг представлял собой «антинародную, антинациональную придворную верхушку… которая издавна затаила злобу на противостоящего ей русского национального гения».
Это противостояние обострялось, показал Благой, по мере того как Николай I все более покровительствовал Пушкину и, с точки зрения придворной верхушки, усиливалась «опасность, что царь… может прислушаться к голосу поэта». Факты достаточно выразительны: в конце 1834 года выходит в свет «История Пугачевского бунта», на издание которой император предоставил 20 000 рублей и которую намерен был учесть при разработке своей политики в крестьянском вопросе; летом 1835 года Николай I дает Пушкину, занятому историей Петра I, ссуду в 30 000 рублей; в январе 1836 года разрешает издание пушкинского журнала «Современник», первые три номера которого вышли в свет в апреле, июле и начале октября (то есть за месяц до появления «диплома») 1836 года, и, несмотря на то что журнал назывался «литературным», на его страницах было немало «политического».
Исследование многостороннего сближения Поэта с царем в течение 1830-х годов опубликовал недавно один из виднейших наших пушкиноведов Н. Н. Скатов (Наш современник. 1998. № 11–12). В другой статье Николай Николаевич справедливо писал о неизбежности противоборства Пушкина и «лагеря» Нессельроде: «Если можно говорить (а это показали все дальнейшие события) об антирусской политике «австрийского министра русских иностранных дел» (таково было ходячее ироническое «определение» Нессельроде. – В. К.), то ее объектом так или иначе, рано или поздно, но неизбежно должен был стать главная опора русской национальной жизни – Пушкин» (Труд. 1998, 21 августа. Выделено Н. Н. Скатовым).
В связи с этим в высшей степени существенны суждения германского дипломата князя Гогенлоэ. Ко времени гибели Поэта он уже двенадцать лет пробыл в России, женился на русской женщине, хорошо знал и высоко ценил русскую культуру. Не менее важно, что он, во-первых, видел ситуацию, так сказать, со стороны, объективно, а во-вторых, мог выразить свой взгляд свободно, не опасаясь каких-либо «неприятностей». И 21 февраля 1837 года он писал, что о Поэте по-настоящему скорбит «чисто русская партия», к которой принадлежал Пушкин и которой противостоит значительная часть аристократии.
Учитывая все это, есть достаточные основания согласиться с выводом Д. Д. Благого, что пресловутый «диплом», который, по его убеждению, был задуман в салоне графини Нессельроде, преследовал цель вовлечь Пушкина «в прямое столкновение с царем[8 - О более ранних попытках «поссорить» Поэта и царя говорится в известных «Записках А. О. Смирновой».], которое, при хорошо всем известном и пылком нраве поэта, могло бы привести к тягчайшим для него последствиям», и в самом деле привело… Много лет близко наблюдавший графиню Нессельроде М. А. Корф (тот самый, который был однокашником Поэта в Лицее), отметил: «вражда ее была ужасна и опасна…»
Необходимо осознать, в частности, что конфликт с императором, независимо от его причины, никак не умещался в границы «семейной драмы» (в отличие от конфликта с Дантесом).
Хотя подтверждений решающей роли «салона Нессельроде» в появлении «диплома» не так уж много, несколько исследователей убежденно признавали эту роль, Д. Д. Благой не был здесь первооткрывателем. В 1928 году П. Е. Щеголев отметил, что «слишком близка была прикосновенность супруги министра к дуэльному делу». В 1938-м
Г. И. Чулков, автор книг не только о Пушкине, но и о российских императорах, писал: «В салоне М. Д. Нессельроде… не допускали мысли о праве на самостоятельную политическую роль русского народа… ненавидели Пушкина, потому что угадывали в нем национальную силу, совершенно чуждую им по духу…». В 1956 году И. Л. Андроников утверждал: «Ненависть графини Нессельроде к Пушкину была безмерна… Современники заподозрили в ней сочинительницу анонимного «диплома»… Почти нет сомнений, что она – вдохновительница этого подлого документа».
Не исключено такое возражение: перед нами, мол, утверждения представителей послереволюционного, советского литературоведения с характерной для него политизированностью и идеологизированностью. Однако выдающийся поэт и один из наиболее глубоких пушкиноведов Владислав Ходасевич в 1925 году опубликовал в эмигрантской газете небольшое сочинение под названием «Графиня Нессельроде и Пушкин», в котором с полной убежденностью говорится о графине как заказчице «диплома».
* * *
Как уже сказано, причастность Геккерна – несмотря на всю его близость к чете Нессельроде – к «диплому» представляется весьма сомнительной. Гораздо более достоверна версия Г. В. Чичерина, хотя излагающее ее письмо к П. Е. Щеголеву, опубликованное двадцать с лишним лет назад[9 - Нева. 1976. № 12.], не нашло должного внимания пушкиноведов (по-видимому, в связи с господством чисто «семейного» толкования событий).
Необходимо иметь в виду, что, во-первых, Г. В. Чичерин, известный как нарком иностранных дел в 1918–1930 годах, принадлежал к роду, давшему целый ряд видных дипломатов, хорошо осведомленных о том, что делалось в министерстве иностранных дел при Нессельроде, и, во-вторых, его дед и другие родственники лично знали Пушкина, а его тетя, А. Н. Чичерина, была женой сына Д. Л. Нарышкина, о котором и говорилось в «дипломе»… И Г. В. Чичерин, надо думать, опирался на богатые семейные предания. В письме Чичерина от 18 октября 1927 года как о само собой разумеющемся говорится о том, что инициатором «диплома» была графиня Нессельроде, но составил его по ее указанию вовсе не Геккерн, а Ф. И. Брунов (или, иначе, Бруннов) – чиновник министерства иностранных дел. Примечательно, что в 1823–1824 годах он служил вместе с Пушкиным в Одессе и вызвал негодование Поэта своим пресмыкательством перед вышестоящими. А в 1830-х годах Брунов стал «чиновником по особым поручениям» при Нессельроде и в 1840 году получил за свои заслуги – или услуги – престижный пост посла в Лондоне. Стоит сказать, что накануне роковой для России Крымской войны Брунов (как убедительно показано в знаменитом исследовании Е. В. Тарле «Крымская война») неоднократно отправлял в Петербург дезинформирующие донесения, внушавшие, что Великобритания отнюдь не намерена начать войну против России…
В своем неотправленном письме к графу Нессельроде от 21 ноября 1836 года Пушкин сказал о «дипломе» (он назван «анонимным письмом») следующее: «По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно было составлено, я с первой же минуты понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего общества, от дипломата». Это характеристика барона Геккерна, но она полностью применима к графу Брунову, который родился и до двадцати одного года жил в Германии.
Конечно, вопрос о роли Брунова нуждается в специальном исследовании, но по меньшей мере странно, что в течение долгого времени никто не занялся таким исследованием.
* * *
Предложенное выше истолкование событий 4 ноября 1836 – 27 января 1837 года, разумеется, можно оспаривать. Но, как представляется, невозможно спорить с тем, что гибель поэта имела не только «семейную», но и непосредственно историческую подоплеку, хотя в большинстве новейших сочинений это, в сущности, игнорируется.
Из приведенных выше свидетельств В. А. Соллогуба, Е. Н. Вревской, самого Николая I, а также из письма Пушкина к Канкрину, из намеков в сочинениях П. А. Вяземского и т. д. с достаточной ясностью следует, что суть дела заключалась в коллизии Поэт – царь, исходным пунктом которой явился «диплом», к тому же упавший на почву пушкинских «подозрений».
Сам же «диплом» был составлен опять-таки не ради личных интересов кого-либо, а с целью рассорить Поэта с императором, ибо имели место обоснованные опасения, что Пушкин может обрести существеннейшее воздействие на его политику. Это, разумеется, отнюдь не означает, что в салоне Нессельроде была запланирована состоявшаяся 27 января дуэль; но именно «диплом» явился «пусковым механизмом» тех мучительных переживаний и событий, которые в конечном счете привели к этой дуэли.
Наконец, свидетельства императора Александра II, П. П. Вяземского и – впоследствии – опиравшегося на семейные предания Г. В. Чичерина, а также резкое письмо Пушкина к Нессельроде (совершенно безосновательно публикуемое как письмо к Бенкендорфу) недвусмысленно говорят о том, что «диплом» исходил из салона Нессельроде, а салон этот тогда – во второй половине 1830-х годов – был, по определению М. А. Корфа, «неоспоримо первый в С.-Петербурге» и играл очень весомую политическую роль. И едва ли уместно видеть в фабрикации «диплома» сведение каких-либо личных счетов. Дело шло о борьбе на исторической сцене, и гибель Пушкина – подлинно историческая трагедия. Напомню его строки:
На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил…
Нельзя отрицать, что историческая трагедия имела вид семейной и именно так воспринимало и продолжает воспринимать ее преобладающее большинство людей. Но под
треугольником Наталья Николаевна – Пушкин – Дантес (вкупе с его так называемым «отцом») скрывается (если взять ту же геометрическую фигуру) совсем иной треугольник: Николай I – Пушкин – влиятельнейший политический салон Нессельроде (и в конечном счете сам министр). И гибель Поэта в этой коллизии была в полном смысле слова исторической трагедией…
* * *
Необходимо сказать об еще одной стороне дела, которая при верном ее освещении даст дополнительные аргументы в пользу изложенного представления о происшедшем. Как известно, немало близких Поэту людей – Вяземские, Карамзины, Россеты и другие – достаточно резко осуждали его поведение накануне дуэли, ибо полагали, что оно обусловлено чрезмерной и к тому же не имевшей серьезных оснований ревностью к Дантесу.
И надо прямо сказать (хотя, конечно, многим трудно будет согласиться с моим утверждением), что эти люди были со своей точки зрения в той или иной мере правы… Поскольку им представлялось, что Поэтом движет прежде всего или даже исключительно ревность к Дантесу, их упреки понятны и по-своему справедливы…
Вечер 24 января – то есть уже после беседы с императором и всего за два дня до дуэли – Пушкин провел в доме женатого на дочери Карамзина Екатерине Николаевне князя П. И. Мещерского, где присутствовали тогда Вяземский, другая дочь историка, Софья, и другие, в том числе и Дантес с женой. Софья Карамзина написала об этом вечере своему брату Андрею: «Пушкин скрежещет зубами и принимает свое выражение тигра… В общем, все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных».
Примечательно, что Софья Николаевна сочла происходящее «очень странным», то есть не объясняемым известными ей фактами, как бы догадываясь, что имеет место не только пресловутая «ревность», хотя вообще-то окружающие в конечном счете сводили все к ней.
Еще более существенно, что на следующий день Поэт явно попытался убедить своих друзей в отсутствии этой самой ревности. 25 января вечером он был у Вяземских, и опять там присутствовали Дантес с женой… Правда, не было самого хозяина: он уехал на бал к Мятлевым, осуществляя, возможно, свое обещание «отвратить лицо» от Пушкиных. Но позднее и жена, и сын Вяземского вспоминали, что Поэт сказал им о Дантесе: «…с этим молодым человеком мои счеты кончены», то есть дело вовсе не в ревности к пошлому юнцу, а в чем-то ином…
Ясно, что Пушкин не мог говорить о «роли» императора; он упомянул о нем в тот же день (другие такие факты неизвестны) в разговоре с Е. Н. Вревской, которая не была связана с петербургским светом.
Повторю еще раз: друзья Пушкина, убежденные, что причина его поведения – ревность к Дантесу, были, в сущности, правы в своих упреках. И с этой точки зрения нелогична позиция упомянутой современной исследовательницы С. Л. Абрамович, которая предлагает, в сущности, такое же толкование преддуэльной ситуации, как и тогдашние пушкинские друзья, но в то же время гневно их обличает за их упреки Поэту!..
Поскольку всецело господствовало представление о дуэли как результате чисто семейной коллизии, целый ряд выдающихся людей упрекали Поэта даже и после его гибели!
Так, Евгений Боратынский писал: «…я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно спрашиваю себя: зачем это так, а не иначе? Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на поединке, как неосторожный мальчик? Сколько тут вины его собственной?..».
Более резко судил Поэта А. С. Хомяков: «Пушкин стрелялся с каким-то Дантесом… Жалкая репетиция (здесь – «повторение». – В. К.) Онегина и Ленского, жалкий и слишком ранний конец. Причины к дуэли порядочной не было… Пушкин не оказал твердости в характере…».
Упреки содержатся, в сущности, даже и в знаменитом стихотворении Лермонтова: «невольник чести…», «не вынесла душа поэта позора мелочных обид…», «зачем он руку дал клеветникам ничтожным?..» и т. п. И следует признать, что, если бы суть дела состояла в конфликте с Дантесом, эти упреки были бы в какой-то мере оправданными… Но выше приведены факты и свидетельства, которые убеждают, что гибель Поэта имела совсем иную, и неизмеримо более существенную, подоснову.
И последнее (но далеко не последнее по своей важности) соображение. Лермонтов недоумевал или даже обвинял Пушкина: