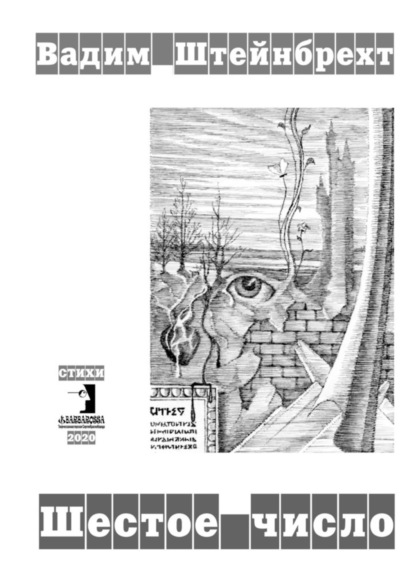По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шестое число. Стихи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Явился, присел на диван.
Прищурился, пращур соблазна:
– Как жизнь? Ты ещё не устал?
Комедия или драма?
Достал носовой платок
размером с пол-океана.
Вытер сократовский лоб:
– Наверное, всё-таки драма.
Вопрос мой предугадав
(тяжело разговаривать с чёртом):
– Обращайся ко мне на «ты».
Пошли воспитанность к чёрту! —
Сказал, а потом, закурив,
пустивши колечко дыма,
прищурил зелёный свой глаз
и начал медленно и длинно…
Я сидел в кресле спокойненько,
но в комнате пахло покойником.
Он перечислял имена великих,
будто щёлкал курок пистолета.
А за окном мутно
несла свои воды Лета.
– Вон, видишь? – сухой палец, как дуло. —
Он не согласился – и как ветром сдуло.
А помню, пришёл к Есенину в чёрненьком,
а он спьяну не разобрал, кто я и что…
И, право, не знаешь, когда и где
окончишь свой путь на бренной земле.
– Что ты хочешь? —
Слышу в ответ:
– Душу.
– Чего нет, того нет. —
А он, как портмоне, что-то в груди раздвинул
и протянул её мне.
Ей было холодно и больно…
Довольно!
Я вышел на улицу.
Пусто. Темно.
В небе висело золотое окно,
как икона Христа-Спасителя.
Поздно.
В кармане – бумага подписанная…
А. С. Пушкину
О, лёгкость ветреная снега —
то снизу вверх,
то сверху вниз.
О, лёгкость ветреная тела,
лунатиком, ступившим на карниз…
И графика кустов на ватмане метели.
Палаш – в сугроб.
Отброшена шинель.
Вороны нехотя от выстрела взлетели.
И алых капель на снегу капель.
Снегирь или снежок?
У ног кармином стынет.
Метель летит
то сзади,
то вперёд.
Дуэльный пистолет
мерещится в ладони…
И снег идёт.
Когда это было
Полутёмный коридор.
Почти не видно лиц.
Только огоньки сигарет,
только контуры тел —
тех, что поплотнее парней,
тех, что поизящней девиц.
– О чём базар, чуваки? —
стекляшками сверкнувшие очки.
Качнувшись,
очкастый на пол сел.
Как на вокзале началось
перемещенье тел.
– Ноги убери! – Не очень ласково,
но в меру вежливо.
Мадам грудастая
вынесла себя бережно.
Хозяин не был пьян.
Его давно мутило
от вони сигарет, нагретых тел и пива.
На полированном столе —
мокрые кольца от стопок и рюмок.