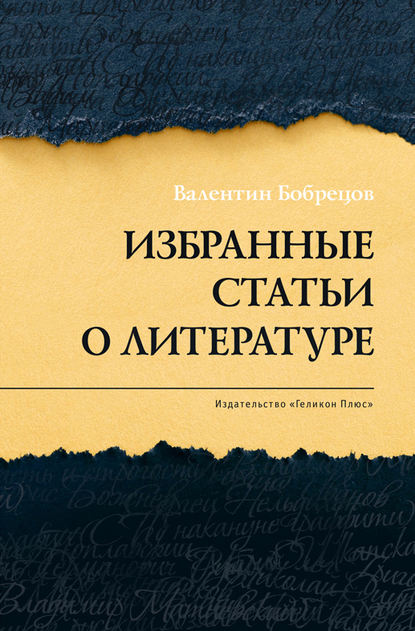По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранные статьи о литературе
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Только… гордость, преданность и нежность
Никогда не будут
На весах…
«Делайте, как я говорю, и не делайте, как я делаю» – основополагающий моральный принцип «эпохи застоя» был чужд ему предельно. И эпоха ответила на это полной взаимностью.
Поэзия Матиевского. Совершенно сознательно, отнюдь не из стилистических соображений говорю «поэзия». Девальвация этого слова в современном языке очевидна. «Поэзия Блока» и «поэзия Сидорова» (Иванова, Петрова) сосуществуют. Ощутима только как бы количественная разница: так, если «поэзия Блока» имеет потенциал в 95 неких условных «поэтических единиц», то «поэзия Петрова» (Иванова, Сидорова) заключает в себе полторы или две, но точно такие же «единицы». Хотя совершенно ясно, что существуют «поэзия Блока» и «стихи Иванова» (Петрова, Сидорова) – ни в какие количественные отношения между собой не вступающие. И вот, отдавая себе самый трезвый отчёт, говорю: поэзия Матиевского.
В своей самой программной и одновременно итоговой поэме «На круги своя» он писал:
Твой идеал: или пришлец извне,
Или
Кровосмешенье всех поэтов
При Боге или Сатане…
Не впервые в русской поэзии нашего века высказывалась подобная мысль. В 20-е годы о «преодолении односторонности поэтических школ» громогласно заявляли конструктивисты, параллельно в Петрограде ученик Гумилёва по «Цеху поэтов», оригинальный и совершенно забытый ныне Сергей Нельдихен формулировал идеи «литературного синтетизма». Правда, спустя полвека, в середине 70-х, вроде бы и не было уже никакой нужды преодолевать односторонность поэтических школ, ибо таковых в дружной «стране Поэзия» по определению не было – и быть не могло. Тем не менее оставался богатейший и противоречивый опыт русской поэзии первой трети века – существовал уже не как противостояние различных школ, но скорей как множество индивидуальных стилевых оппозиций. И само наличие такого опыта предполагало (и предлагало) выбор одного из трёх различных путей. Первый из них – «верное следование» одной из традиций (в идеале преследующее цель «перетерентеть Терентьева», говоря словами ещё одного полузабытого поэта 20-х годов). Второй путь – механическое соединение тех или иных стилевых элементов, своего рода «прибавление дородности Ивана Павловича к развязности Балтазар Балтазарыча». И наконец, имеется третий путь: поиск органического стиля (литературный синтетизм, «кровосмешение») – попытка снятия противоречий «односторонних поэтических школ» на новом уровне поэтического мышления. Понятно, что подобный синтез под силу только таланту. Более того, это, наверное, единственный способ «появления на свет» крупного поэта.
Можно – с большей или меньшей степенью достоверности – выявить те или иные «компоненты» «синтетической» поэтики Матиевского. Но нужно ли это, во всяком случае здесь и сейчас? Матиевский прекрасно знал русскую поэзию – и классическую, и – вынужден воспользоваться бранным словом – «авангард». Следует сказать о мощном влиянии опыта Хлебникова, раннего Маяковского и Пастернака на формирование Матиевского как поэта. Затем произошёл довольно резкий сдвиг «вправо» – и наступила «эпоха Мандельштама». Но нередко талант и интуиция опережали опыт и знание. Так, с «поздним» Кузминым Владимир познакомился уже в начале 80-х, то есть когда были написаны практически все его стихи, по мастерскому владению разговорной интонацией близкие Кузмину периода «Форели». Берусь утверждать, что Матиевский не был знаком с творчеством Сергея Нельдихена. Тем не менее очевидна близость ритмических конструкций в верлибре и даже определённая общность «содержания» у этих поэтов. Впрочем, оба они не были чужды уитмено-гумилёвских традиций, что скорее всего и явилось причиной тех или иных «совпадений». С другой стороны, если у Нельдихена герой, «естественный человек», зачастую скрывает трагическое мироощущение под личиной полуидиота (чем предвосхищает поэтическую практику ОБЭРИУ), то в лирике Матиевского вместо маски «дурака» – открытое (и часто – искажённое, но не презрительной усмешкой, а подлинной страстью) широкое «площадное лицо». Подчеркиваю – в лирике, ибо стихи Матиевского, несмотря на философскую «осложнённость» (зачастую в духе «философии жизни») и некоторую «негативную» публицистичность – прежде всего лирика, уникальная по оголённости чувств и незащищённости. И вот что удивительно: эмоциональность на грани взрыва («Или это все чувства надсажены / от усилий дойти до черты…»), предельный (иногда даже кажется – экспериментальный) накал страсти («Плачу и рыдаю. / Один на городском пляже…») – никогда не переходят в область мелодрамы, лишь разрешаясь сентиментальной (в стерновском смысле) иронией:
А в сердце, в сердце – словно девять Надсонов
Втыкали розы в тридевять петлиц.
И помогает в этом безупречный поэтический вкус. Вкус, который, наверное, ещё более редок, чем талант.
Несмотря на мрачный колорит многих, особенно поздних стихов, в них нет ни мазохического упоения тьмой и своеобразного смакования её оттенков, ни весьма свойственного поэтической «контркультуре» любования своей отверженностью. Не настроение «Пира во время чумы», но мужественное, экзистенциальное – если угодно – противостояние «чуме» присуще его поэзии. Отнюдь не случайны для Матиевского такие стихи, как «От святынь он отмахивался…», «Баллада» или «Гемма», где воспевается не застольное приятельство, но мужская дружба (тема чуть ли не запретная для второй культуры). Однажды с пафосом он воскликнул: «Вот бы оду написать!..» И развёл руками. Помню, как его чуть не до слёз растрогало уитменовское «О, я хотел бы сложить о радости песнь!» Более того, в стихах Матиевского такие слова как «красота», «радость» или даже «идеал» – лексика, казалось, навсегда отошедшая к «придворной» поэзии «социалистического символизма», – обретают как бы второе рождение. И это во время повального увлечения «эстетикой уродства» (в лагере «второй культуры», разумеется). «Ленинградское чревовещание» кочегаров, вахтёров и «сторожей, зачитавшихся Олешей» было ему ничуть не ближе официального гимнопевчества. Но если второе решительно не принималось, к первому он был достаточно снисходителен. Недаром его любимым писателем, как мы уже упоминали (и во многом – Учителем в высоком «старинном» смысле), был Достоевский, крупнейший путешественник по отечественному «подполью». И меньше всего в этом снисхождении было инстинкта самосохранения (ведь формально кочегар Матиевский был полноправным членом общества «Ленинградских чревовещателей»). Кстати, переводя один из сонетов Шекспира, он заметил: «Любопытно, а переводят ли английские кочегары Пушкина?»
Лирику Матиевского отличает удивительная, совершенно естественная чистота, не имеющая ничего общего ни с «либеральной фривольностью», ни с казённым пуританством, где сквозь наивно-розовый косметический слой словес то и дело проступает подозрительная сыпь: то ли симптом нехорошей болезни, то ли след принудительного воздержания.
«Про что» эти стихи? Про жизнь и смерть. Про любовь и одиночество. Про Бога и «верить не во что». Словом, как всякая настоящая поэзия, они несводимы к формуле «про что» и являются по-своему образцом «чистого искусства». А ставя вопросы «как жить?» и «что делать?» (какие русские стихи без этого?), никаких окончательных рекомендаций читателю не дают.
Особо хочется сказать о ритмике стихов Матиевского. Такого широкого ритмического диапазона нет, пожалуй, ни у одного современного поэта. Иногда в пределах одного стихотворения ритм меняется несколько раз, но никогда это не вызывает ощущения нарочитого эксперимента, механического соединения разнородных элементов. Напротив. Переходы эти естественны, органичны, как ослабление-учащение пульса или дыхания.
Впрочем, не хотелось бы навязывать читателю (буде таковой объявится) свой взгляд на поэзию Матиевского. Одно бесспорно – она требует отдельного обстоятельного разговора. Единственное, чего никоим образом не следует ожидать (и тем более требовать) от стихов Матиевского, так это «чистоты звука» – приятной, как бы итальянской открытости слога – того самого достоинства, органично присущего русским «малым поэтам», как писал Мандельштам. Работа шла в ином направлении. Даже в стихотворении «Песенка» вместо ожидаемой «складности» (название предполагает!) – внезапно раздаётся косноязычный варварский каламбур: «Всякий вытащить топор тщится…» Обилие смысловых и звуковых «сдвигов», сложный ритмический рисунок стиха, интеллектуальные «отягощения» – всё это, как я уже не раз убеждался, сильно усложняет восприятие поэзии Матиевского. Но сдаётся мне, что если это и беда, то беда не поэта, а читателя.
«Сумерки». 1989. № 6
Борис Божнев
В 1924 году в московском альманахе «Недра» стараниями вернувшегося из эмиграции Валентина Парнаха были опубликованы три стихотворения, подписанные «Борис Божнев».
Увы, этим и ограничилось – и до сих пор ограничивается – знакомство читателя из СССР с поэтом, своеобразно преломившим в своем творчестве традиции отечественного и европейского авангарда. Практически неизвестен на родине Борис Божнев и как художник – один из первых (если не по рангу, то хотя бы по времени) русских примитивистов. В последнее время возрождается определённый интерес к творчеству Божнева на Западе: издан каталог его живописных работ, увидело свет двухтомное «Собрание стихотворений». Хотя, с другой стороны, имя поэта не попало в достаточно полный и авторитетный «Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года» В. Казака. Впрочем, «виноват» в этом отчасти и сам Божнев. Как пишет автор предисловия к «Собранию стихотворений» Л. Флейшман, «Божнев в быту отличался крайней замкнутостью и подолгу и неожиданно „выпадал” из литературной жизни».
Борис Борисович Божнев родился в 1898 году в Ревеле, в семье преподавателя литературы и истории Василия Божнева. Вскоре отец будущего поэта умер, а мать вторично вышла замуж за присяжного поверенного Бориса Гершуна, двоюродного брата знаменитого эсера-террориста. которым Божнев был усыновлен, став официально, в документах, Борисом Борисовичем Гершуном. Таким образом, Борис Божнев – это своего рода псевдоним. Детство и юность будущего поэта прошли в Петербурге, где семейство присяжного поверенного проживало в доме 26 по Суворовскому проспекту. С ранних лет Божнев проявляет интерес к искусству, не только к литературе, но – в неменьшей степени – к музыке и живописи. Недаром среди будущих его друзей можно назвать композитора С. Прокофьева, художника Х. Сутина и других, а духом Петербурга, «самого умышленного города», будет в дальнейшем проникнута поэзия Божнева. Так, он разглядывал в 1904 из окна бесконечный поток солдат, направляющихся в сторону Московского вокзала, как будто затем, чтобы почти полвека спустя написать поэму «Уход солдат на русско-японскую войну» (1949).
В 1919 году он эмигрирует во Францию, где на первых порах средства к существованию добывает перепискою нот. В Париже Божнев сближается с литературно-художественной богемой, становится членом «Палаты поэтов» и одним из инициаторов создания группы «Через» – эмигрантских объединений, тесно связанных с французским литературно-художественным авангардом 20-х годов (среди французских знакомцев Божнева Элюар и Тцара, Делоне и Леже). Как поэт он дебютирует в сборнике «Русская лирика», изданном в Софии в 1920 году. Затем следуют публикации в эмигрантских изданиях Франции. Заметим, что, подобно другому русскому поэту-эмигранту – Борису Поплавскому, Божнев занимается и живописью («коллажи, полуабстрактные гуаши, наивные холсты»).
В 1925 году в Париже выходит первая книга Божнева «Борьба за несуществование». Не симпатизирующий Божневу А. Бахрах несомненно имеет в виду этот сборник, когда пишет: «Божнев был человек культурный и начитанный, поэтически образованный и одарённый…» Но не удерживается, чтобы не добавить: «…хотя он свой талант как-то попусту растратил». И далее: «По странному капризу, своему первому стихотворному сборнику он дал почти программное заглавие “Борьба за несуществование” и свою поэтическую карьеру начинал с блеском». О книге в эмигрантской прессе писали многие, а мнения высказывались полярные: от «это единственный “мастер” среди молодых парижан, самый опытный и взыскательный у них» (Г. Адамович) до прямых обвинений в «безликой розановщине» и ярлыка «писсуарная поэзия».
В пределах этой книги Божнев достаточно близок поэтике имажинизма, а игровой «антиэстетизм» с очевидной «ставкой на образ» – при традиционнейшей (ямб) метрике – придаёт стихам своеобразие. О близости Божнева имажинизму говорят и стихи, посвящённые А. Кусикову (еще не эмигранту, но уже живущему в Париже) и С. Есенину (с которым Божнев познакомился во время пребывания последнего в Париже). С другой стороны, идиотически-ерническое De profundis многих стихов сборника отсылает читателя к бессмертной музе капитана Лебядкина, что роднит Божнева с расцветающим на болотистой петербургской почве ОБЭРИУ.
Вторая книга Божнева «Фонтан» (1927) была встречена критикой в целом благожелательно, но куда как сдержанней, нежели первая. «Фонтан» заключает в себе восемнадцать восьмистиший, с блеском имитирующих (не без оттенка пародии) метафизическую поэзию XIX века.
С конца 20-х годов Божнев «исчезает из литературы». Он с женой селится в Клямаре, где знакомится с Ремизовым и Бердяевым. Правда, в 1936 году у него выходят сразу две книги, но они остаются незамеченными. Если одну из них, «Альфы с пеною омеги», думается, нельзя отнести к творческим удачам, то вторая, поэма Silentium sociologicum, представляет несомненный интерес. Это своеобразные «сюрреалистические вариации на темы Тютчева». При чтении ее необходимо учитывать (и более того – воссоздавать) «визуальный ряд» (очень часто стихи Божнева представляют собой как бы некие «наивные полотна»), а также не забывать про музыкальный принцип «варьирования тем», применяемый в поэме (что заставляет вспомнить великолепное «Первое свидание» Андрея Белого).
Свои следующие книги Божнев издавал тиражом в несколько экземпляров на бумаге XVIII века («для немногих», как говорил Жуковский), в продажу они не поступали.
После Второй мировой войны Божнев жил в чисто французском окружении, занимался живописью, изредка писал стихи – чаще по-французски и даже на идише. Жизнь вёл довольно рассеянную, что позволило А. Бахраху закончить свой очерк-воспоминание о Борисе Божневе так: «Французской литературе хорошо ведома группа поэтов, получивших прозвище “проклятых”. Будь Божнев французом, он, несомненно, был бы причислен к этой группе».
Умер поэт 24 декабря 1969 года и похоронен в Марселе, где поселился незадолго до войны. Умер, проведя в эмиграции ровно 50 лет.
Русская литература. 1991. № 1
Георгий Иванов
В 1919 году Александр Блок в рецензии на очередную (но в итоге так и не увидевшую свет) книгу Георгия Иванова писал: «…есть такие страшные стихи ни о чём, не обделённые ничем – ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем как будто нет этих стихов, они обделены всем, и ничего с этим сделать нельзя».
Это блоковское (заметим, во многом справедливое) суждение о стихах «Жоржа» Иванова весьма по душе пришлось официальному советскому литературоведению. И если стихи поэта не печатались на родине почти 60 лет, то имя Г. Иванова – благодаря Блоку – оставалось на слуху, и всегда под рукой был этот поэтический мальчик для битья эгофутуризма ли (начинал Г. Иванов как эго-футурист), акмеизма (затем примкнул к первому «Цеху поэтов») или поэзии русского рассеяния в целом (с 1922 года поэт жил во Франции). И как бы не имело никакого значения, что после злополучной рецензии поэт прожил без малого 40 лет, издал шесть сборников стихов, приобрёл во Франции широкую известность как литературный критик и мемуарист. И – главное – с начала 30-х годов практически единодушно был признан поэтом № 1 русской эмиграции.
С юных лет вращаясь в высших литературных кругах Петербурга (пятнадцати лет он уже знаком с самим Блоком, а к двадцати – на довольно короткой ноге со всеми настоящими и будущими знаменитостями, будь-то Северянин или Кузмин, Мандельштам, Ахматова или Гумилёв), своё «поэтическое лицо» он найдёт очень не скоро. По натуре весьма «переимчив» (пушкинское слово, определяющее свойство, но не обличающее порок!), юный Г. Иванов попадает то под одно, то под другое влияние; и стихи его, относимые к «петербургскому периоду», в сущности ещё лишены личностного начала и остаются копиями – порой превосходными! – того же Кузмина или некими «среднеарифметическими» стихами акмеиста. Словом, Г. Иванов 10-х годов – это «еще не» Г. Иванов, он, говоря по-розановски, ещё «не вошёл в фокус».
Принято думать, что эмиграция пагубно сказывается на таланте литератора, в особенности поэта (оставим в стороне музыку и живопись, «язык» которых куда более интернационален). В таком случае с Георгием Ивановым произошло настоящее чудо. Средний (если не сказать посредственный) поэт, вдобавок как поэт, казалось, и вовсе умолкший (в Париже он активно занимается литературной критикой, печатает весьма своеобразные мемуары, дебютирует как романист – роман «Третий Рим», 1929, остался не окончен), в 1931 году он выпускает поэтический сборник «Розы», ставший сенсацией. Критик и литературовед, исследователь творчества Достоевского Константин Мочульский писал об этой книге Г. Иванова так: «В “Розах” он стал поэтом». Блок в своё время говорил Г. Иванову: «Зачем вы пишете стихи о ландшафтах и статуях? Это не дело поэта. Поэт должен помнить и говорить об одном – о смерти и любви». И со сборника «Розы» он становится верен этому блоковскому «завету». Вместе с тем в поэзии Г. Иванова 30-х годов происходит своеобразный синтез: блестящий, гибкий, но пустоватый стих Иванова-акмеиста обретает эмоциональное, зачастую трагическое наполнение, в нём на удивление гармонично уживаются акмеистская ориентированность на «выговаривание» и «живописность» с символистской «музыкальностью». На смену принципиальному антипсихологизму акмеизма приходит эмоциональный «романсовый» надрыв.
Показательны перемены «поэтического небосвода»: отныне уже не осеннее солнце Павловска или Царского Села «золотит» (излюбленный глагол Г. Иванова в 10-е годы) безлюдный и весьма «регулярный» парк, но «бессмертные звезды» равнодушно смотрят в живые (ещё!) смертные человеческие глаза, исполненные любви, но чаще – тоски о любви и отчаяния. Такова отныне «эмоциональная константа» поэзии Г. Иванова. Но блоковский «страшный мир» уже не является чем-то внешним по отношению к человеку. Он – стоит только глянуть пристальней – заключён в самом человеке, если не составляет саму суть человеческого существа.
Показательно название повести, написанной Г. Ивановым в середине 30-х годов: «Распад атома» – с главным (и, разумеется, единственным) героем, прямо восходящим к «подпольному парадоксалисту» Достоевского. Высказывались предположения об определённой зависимость поэзии Г. Иванова от позднего Ходасевича. Едва ли это справедливо, ибо оба поэта – с присущей обоим «жаждой вещей последних» и иронией – могли бы в качестве учителя указать на Константина Случевского. Более того, поэтические циклы Г. Иванова «Дневник» и «Посмертный дневник», увидевшие свет в 50-х, напрямую отсылают читателя к «Дневнику одностороннего человека». Вполне вероятно и некоторое, может быть, неосознанное, влияние на обоих экстремальной поэтики Александра Тинякова. Показательно, что оба – и Ходасевич, и Иванов – поминали последнего с явной неприязнью, но и с не менее явным интересом.
Колорит книг, вышедших вслед за «Розами», ещё более мрачен. Социология и теология остаются равно чужды поэту, а «чёрный юмор» всё больше и больше теснит «музыку». О единственно мыслимом катарсисе в «трагедии жизни» говорят стихи, которые Г. Иванов пишет буквально на смертном одре. Утопая в «средиземных волнах зла» (вариант державинской «реки времен»?), он пытается «заговорить» смерть (а скорей – убедить себя): «Если б поверить, что жизнь это сон, / Что после смерти нельзя не проснуться».
Но ради чего – «проснуться»? Оказывается, «вечная жизнь» нужна лишь затем, чтобы «никогда не расстаться с тобой! / Вечно с тобой. Понимаешь ли? Вечно…» Слова эти адресованы Ирине Одоевцевой, второй жене поэта.
Георгий Владимирович Иванов родился в 1894 году в Ковно, в дворянской семье. Учился в Петербургском кадетском корпусе. Был активным членом первого и второго «Цеха поэтов». Вместе с Ириной Одоевцевой эмигрировал в 1922 году. Жил в Париже. Умер 27 августа 1958 года в доме для престарелых на юге Франции. Свою политическую позицию определял так: «Правее меня только стена». Похоронен на кладбище в Сент-Женевьев де Буа.
Русская литература. 1991. № 1
Борис Поплавский
По справедливому замечанию французского русиста Луи Аллена, творческое наследие Поплавского и поныне ждет своего истолкователя. При этом нельзя сказать, что поэт обойдён вниманием. Скорей, наоборот: и при жизни о нём писали много и многие (Г. Иванов, В. Набоков, М. Слоним, Д. Святополк-Мирский и др.), как, наверное, ни об одном из «молодых» представителей первой волны эмиграции. И в отличие от многих он не был забыт тотчас после гибели. Напротив, как вспоминал Г. Адамович, «вскоре после смерти поэта, на одном из публичных собраний, Мережковский сказал, что если эмигрантская литература дала Поплавского, то этого одного с лихвой достаточно для её оправдания на всяких будущих судах». И в дальнейшем «литературный рейтинг» Поплавского медленно, но неуклонно рос. В 1950-1960-е, когда дожившие до этого времени литераторы первой эмиграционной волны сели за мемуары, он оказался едва ли не самой колоритной фигурой, «главной достопримечательностью» русского Монпарнаса 20–30-х годов. Перечень авторов, писавших о Поплавском, весьма внушителен, если к уже вышеназванным прибавить Г. Газданова, И. Одоевцеву, Н. Татищева, Н. Берберову. Однако легко заметить, что почти все они – коллеги Поплавского, писатели и поэты. Профессиональные исследователи русской литературы ХХ века, за редким исключением (Л. Аллен, С. Карлинский), обходят стороной «феномен Поплавского», словно оказавшись не готовыми к его постижению. Но и в свидетельствах современников Поплавского поражает разноголосица, резкая полярность мнений, касается ли это личности поэта, его короткой жизни, загадочной гибели или каких-либо аспектов его творчества. Зачастую можно подумать, что речь идёт не об одном Поплавском, но о нескольких, причём совершенно разных поэтах. Вот как, например, говорят два современных Поплавскому литератора о генезисе его поэтики. А. Бахрах: «Как поэт Поплавский не был переимчив, и трудно определить, по чьим стопам всходил он на Парнас». Г. Газданов: «Я не знаю другого поэта, литературное происхождение которого было бы так легко определить».
Романы же Поплавского «Аполлон Безобразов» и «Домой с небес» опубликованы целиком лишь в 1993 году. И поэтому всё сказанное о его прозе прежде требует коррекции, а полноценное осмысление и включение романов Поплавского в контекст русской прозы ХХ века – дело будущего. Но важно заметить сразу: прозаическое наследие Поплавского никоим образом не обычная «проза поэта», то есть нечто достаточно второстепенное по сравнению с основным – стихами.
С другой стороны, Н. Берберова писала о Поплавском: «Лучшее, что осталось от него, – это его дневниковая исповедь…». А «Дневники» Поплавского, вызвавшие в своё время как бы профессиональный интерес у Н. Бердяева как философа, в полном объеме увидели свет лишь в 1996 году. Однако трудно говорить о каком-то устоявшемся, последовательном мировоззрении Поплавского, ибо по натуре своей «он не мог, как многие из его сверстников, успокоиться на литературных достижениях, удовлетвориться удачей и славой, или примкнуть к какому-либо движению с готовыми ответами на все вопросы» (Ю. Терапиано).
Поплавский родился в семье музыкантов. И отец его Юлиан Игнатьевич, по происхождению поляк, внук крепостного крестьянина, и мать София Валентиновна, прибалтийская дворянка, урожденная Кохмановская, – оба окончили Московскую консерваторию. Однако от музыкальной карьеры отказались: отец служил в Обществе заводчиков и фабрикантов, мать занималась воспитанием детей.
Поплавский учился в московском Французском лицее Филиппа Неррийского, параллельно занимаясь музыкой и рисованием. Стихи начал писать под влиянием старшей сестры Наталии, в канун революции издавшей свой единственный сборник. (Поплавская Н. Стихи зелёной дамы. М., 1917).
В 1918 году он вместе с отцом уехал из Москвы на юг России, а в декабре 1920-го – после захвата Красной Армией Крыма – оказался в Константинополе, где, по свидетельству отца, «посещал подготовительные курсы на аттестат зрелости, охотно рисовал с натуры, много читал… Но все это проделывал, смотря на жизнь свою сквозь глубокий покров мистики, как бы чувствуя дыхание истоков Византии, породившей православную веру, которой он отдался беззаветно». Попытка – на пределе интеллектуальных и эмоциональных возможностей – «выяснить отношения с Богом» («роман с Богом», как говорил сам Поплавский), вера, а точнее, мучительная жажда обрести и, обретённую, удержать её – в дальнейшем они и будут решительным образом определять как творчество, так и саму жизнь Поплавского. Но православие его не будет отличаться особой «конфессиональной чистотой»: ему будут присущи не только ощутимый католический оттенок (культ св. Терезы) и определённый «ветхозаветный уклон» в розановском духе, но и несомненные тео- и антропософские «ереси».
В 1921 году семья поэта переезжает во Францию, где Поплавский поступает в Парижскую художественную академию «Гранд Шомиер». В 1922-м для продолжения занятий живописью он отправляется в Берлин, тогдашнюю «столицу» русской эмиграции. Там он знакомится с Андреем Белым и, вернувшись в Париж, очевидно, под впечатлением этого знакомства уже целиком посвящает себя литературным занятиям. Некоторое время он посещает лекции на историко-филолологическом факультете Сорбонны, но вскоре оставляет университетт, избрав путь самообразования. Практически ежедневно он пишет «своё» (стихи, дневниковые записи, позднее – прозу), а многочасовые штудии в библиотечном зале (А. Бахрах, скорее недолюбливавший Поплавского, скажет об «огромной начитанности» поэта и о том, что «в кругу, где он общался, не было человека более блестящего, больше него размышлявшего не столько о литературной повседневности, сколько о религнозных и метафизических проблемах») чередует с тренировками в зале спортивном. Литературная одарённость соединяется в Поплавском с мощным волевым началом: будучи в детстве «хилым мальчуганом и плаксою» (В. Яновский), в итоге многолетних изнурительных занятий гиревым спортом и боксом он добьётся того, что к концу 1920-х его известность как поэта будет соперничать с репутацией человека исключительной физической силы.