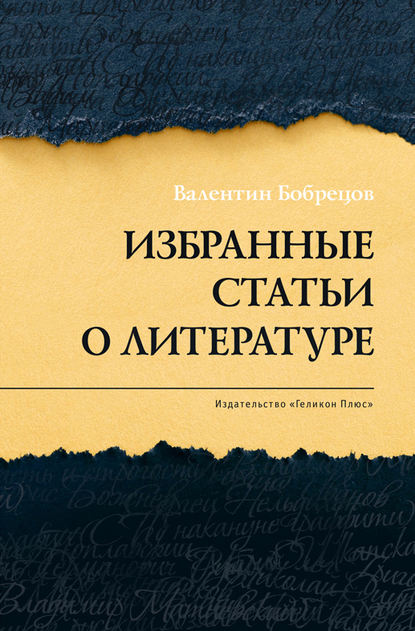По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранные статьи о литературе
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Избранные статьи о литературе
Валентин Юрьевич Бобрецов
Впервые под одной обложкой собраны литературоведческие работы известного петербургского поэта, лауреата Григорьевской премии 2011 г., представляющие собой не только превосходно написанные эссе, но и новаторские научные статьи, знакомство с которыми сулит читателю отнюдь не локальные открытия. Статьи об известных (В. Маяковский, Н. Гумилев), а также незаслуженно забытых и полузабытых писателях первой трети ХХ века. Особо следует отметить очерк «Мне посчастливилось родиться на Песках», работу на стыке литературоведения и краеведения, представляющую интерес для всех увлекающихся историей Петербурга – Петрограда – Ленинграда.
Валентин Бобрецов
Избранные статьи о литературе
© Бобрецов В., текст, 2019
© «Геликон Плюс», макет, 2019
Страсть и строгость
За четыре года до смерти он писал: «Удел поэта – страсть и строгость. Неискончаемо. Всегда!» И жизнь его, и его стихи – во всяком случае, те, что следует отнести к недолгому периоду творческой зрелости поэта, – полной мерою отвечают жёстким требованиям этой формулы, в них единственно верное сочетание страсти и строгости – качеств столь неудобосоединимых.
Пора зрелости оказалась для него обидно короткой: он умер, лишь на четыре дня пережив своё тридцатитрёхлетие. И вдвойне печально, что пора расцвета его дарования пришлась на вторую половину 70-х – начало 80-х годов, период (казалось – геологический) триумфальных шествий «умеренности и аккуратности», время «скромности, / выставок на квартирах, / фотокопий и карикатур».
Он умер, не увидев ни одной своей строки в повременных изданиях «эпохи застоя». Не увидев вполне заслуженно: абсолютная стилистическая несовместимость его поэзии и канонов так называемого «социалистического реализма» очевидна – даже если трактовать канон этот предельно расширительно, как некий «соцреализм без берегов».
Естественно было бы предположить, что поэт, собственные стихи которого насыщены культурными ассоциациями, переводчик таких «сложных» авторов, как Паунд или Беллоу, – происходит из «высоколобой» (насколько это мыслимо у нас) семьи «с традициями»; словом, он – интеллигент, и уж никак не меньше, чем в третьем поколении.
Однако это совершенно не так.
Он родился в рабочей семье. Дома был относительный, с лёгким оттенком опрятной бедности, достаток. И конечно же, здесь не было высоченного, под потолок, тёмного дерева книжного шкафа с непременным Брокгаузом и Эфроном. Книги были редкостью. Поразительно, однако своих книг – не библиотечных и не взятых на прочтение у друзей и знакомых – у Матиевского никогда не было. Да и не только книг. «Я не имел вещей. / Я не ломал их тел», – если это и гипербола, то с очень малой степенью увеличения.
И не было – в юности – занятий в школьном литературном кружке. Да и какой литературный кружок в вечерней школе? А Матиевский после восьмого класса учился именно там.
Была улица. Сначала – глухие непервые линии Васильевского острова. Потом – пустыри в районе совсем ещё не обжитой (середина 60-х) Пискарёвки с жёсткими нравами пригорода. След прямого «влияния улицы» – шрам на щеке – остался у него на всю жизнь. Итак, улица – с друзьями, приятелями и «дружками», футболом, драками, Галичем, Высоцким и «Битлз». Кстати, о гитаре. Она (а Матиевский на гитаре играл, и играл хорошо) практически никак не повлияла на строй его поэзии – если под «влиянием гитары» разуметь определённое «выпрямление» ритмики стиха и «эмоционально-смысловой примитивизм».
Неизвестно, когда Матиевский начал писать стихи. Сам он об этом никогда не говорил, а прямой вопрос наверняка обратил бы в шутку, ибо при всей своей открытости две области – «личная жизнь» и «творческая лаборатория» – оставались практически недоступными. Хотя интерес, с каким он, работая в Обменно-резервном фонде Библиотеки АН СССР, читал «Садок судей» или «2 ? 2 = 5», выдавал нечто большее, нежели просто читательское любопытство. А первым на моей памяти (и всего скорей действительно самым первым) окажется стихотворение «Кёльн», написанное Матиевским на пари в конце 1974 года. Так или иначе, но начав писать очень поздно, своё двадцатипятилетие он отметил таким грустным «предварительным итогом» (и прекрасным стихотворением):
Vademecum окончился вдруг.
Дальше – полюшко дураково.
Говорят – ты закончил круг,
дожидайся другого.
Как давно мне пора наверстать
эту мысль в моей жизни скалярной, –
что и я угожу на верстак
в хирургической и столярной.
Между солнечных свежих стропил
я устал головой кадить.
И стою… как Муму утопил.
И не знаю, куда уходить.
Оставляя в стороне «общие вопросы неблагополучия в королевстве Датском на январь 1977 года» (месяц и год написания этого стихотворения), попытаемся понять, имелись ли у поэта какие-то личные основания столь невесело оценивать итоги «первого круга» своей жизни?
Хочу сказать, что это фатум,
Хотя – не без моей вины.
Владимир Матиевский
Едва ли возможно определить сущность человека одной фразой. Однако если личность очерчена резко и ярко, появляется хотя бы вероятность существования такой фразы-характеристики. Но всё равно найти её – это, наверное, ничуть не проще, чем открыть – без единственного и к тому же потерянного ключа – нестандартный замок (разумеется, если ты при этом не профессиональный взломщик). Матиевский… Я перепробовал множество ключей к этому замку – и чужих, и своих, пока не вспомнился почему-то Леонид Андреев: «Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок». Да, вот он, ключ! Отпирающий. И – ничего не объясняющий… Замечу, кстати, что Андреев отнюдь не входил в число писателей, особо любимых Матиевским. Его «первый ряд», примерно таков: Достоевский (первый из первых), Гоголь, Белый, Набоков, Платонов, Томас Манн, Хаксли, Сол Беллоу, Оруэлл. Любил он и норвежцев: Гамсуна, Ибсена, Боргена.
Матиевский был предельно чужд какой-либо мистики (в обычном её понимании, – тот же Штейнер вызывал у него лишь эстетические ощущения). Тем не менее всегда он ощущал почти физическое присутствие в своей жизни («тяготение над», по Леониду Андрееву) некой мрачной предопределяющей силы, этого «сурового и загадочного рока» – и пытался если не обуздать эту силу («от судьбы не уйдёшь!»), то хотя бы постичь её природу, дать своеобразную «клиническую картину» этого тяготения (стихотворения «Бесы», «Желчно с миром рядится хаос…», «Злой старик» и другие).
Стыдно и больно сейчас в этом признаться, но вопреки самым очевидным фактам казалось мне (да, наверное, и не только мне), что многое в его стихах – эпатаж, романтическая игра в «проклятость» – и не более… Казалось – до 25 января 1985 года…
Выказывал себя этот «тяжёлый и загадочный рок» весьма разнообразно. Зачастую проявлялся в формах прямо-таки фатального невезения. Иногда рядился в одежды чёрного юмора и позволял даже поиронизировать над собой. Однажды, как тайфун, принял женское имя. Но год от года всё чаще являл своё подлинное – злое и тяжёлое лицо.
Несколько фактов. Каждый из них в отдельности кажется случайностью – и порой малозначительной, но когда таких фактов столько, поневоле стеченье обстоятельств назовёшь судьбой – и заподозришь её в каком-то недобром умысле.
1974 год. Будучи прекрасно подготовлен, Матиевский не поступает на исторический факультет ЛГУ. Он не успевает переписать набело сочинение, тема которого (!) «Лучшими минутами своей жизни я обязан литературе» (Салтыков-Щедрин). Любопытно, что свою работу он посвятил полемике с этой – если вдуматься – своеобразной декларацией эстетизма.
1975. Неудачный роман, «цитатами» из которого пронизана вся лирика Матиевского.
1976 – 1978. Поэзия Матиевского феноменально быстро набирает силу. Руководитель литобъединения не скупится на приватные похвалы. Этим его реальная помощь молодому поэту и ограничивается. В то время, когда более покладистые и сговорчивые «дарования» хоть как-то да печатаются, для Матиевского наступает пора «успеха у богем»; успеха, истинные масштабы которого он сам определяет так:
Если бы я имел хоть одного слушателя,
Нужного мне по-настоящему,
Я б ходил, улыбаясь,
Лужи деля.
Наделяя каждого отстоящего.
В 1979 году умирает мать Владимира. Он долго оправляется от удара. Страшное и мужественное в откровенности своей стихотворение «Я смотрю довоенные снимки…» – об этом.
1980–1984. Постепенно, как он не слишком весело шутил, двукратное латинское aut (Aut Caesar, aut nihil) сменяется двукратным же английским out. Количество оригинальных стихов год от года уменьшается. Поэт занимается переводами, занимается скорей для себя. Анекдотически заканчивается для него единственная в жизни попытка выйти на кого-либо из «мэтров». Разговор с маститым московским писателем, уверяющим (правда, в стихах), что дверь его жилища круглосуточно открыта страждущему человечеству, – разговор этот происходит на пороге означенной либеральной квартиры при неотомкнутой дверной цепочке…
Ещё в середине 70-х, во время путешествия на Памир, Матиевский заболел желтухой. Но пролежав в больнице всего несколько дней, он совершает оттуда самый настоящий побег… А недолеченный гепатит становится хроническим. И вот летом 1984 года на Дворцовом мосту у него горлом хлынула кровь; с каким-то весьма невнятным диагнозом он попадает в больницу… Жаркий июльский день. Мы с товарищем навещаем Матиевского. Он предлагает совершить прогулку и подводит нас к бреши в больничной ограде. Несколько секунд – и мы на… кладбище. Прохаживаясь в больничной пижаме вдоль могил, он шутит по поводу «столь удачного соседства двух этих учреждений». Смеёмся – но каждому слегка не по себе. А Матиевский тем временем с улыбкой рассказывает о своём первом «литературном» заработке: какому-то московскому полупроходимцу-полуюродивому он продал за 300 рублей все свои стихи – и право авторства на них.
Конец декабря 1984 года. Болезнь как будто отступила. Матиевский у меня в гостях. Около полуночи он отправляется домой. Но едва мы успеваем открыть дверь в подъезде, как перед нами падает кирпич. Мы долго смеёмся, ибо все дома вокруг, включая тот, из которого мы вышли, – панельно-блочные.
И вот события 1985 года. «В жизни так не бывает»: в начале января совершенно нелепо погибает жена Владимира. А 22-го мы встречаемся в последний раз. Он держится мужественно, несмотря ни на что, «предполагает жить», выкуривает «последнюю» папиросу – и пачку отдаёт мне. Но, увы, у пушкинской формулы есть и вторая часть. И никому не известно (знала об этом, вероятно, лишь его жена), что уже полгода, как он приговорён, что каждый новый день – лишь отсрочка «приведения приговора в исполнение». Что эта «последняя» папироса – действительно последняя в его жизни.
Он родился 21 января – в день смерти Владимира Ульянова, прожил 33 года и умер в день рождения ещё одного Владимира – Высоцкого. Кажется и здесь «тяжёлый и загадочный рок» постарался сделать всё возможное, чтобы имя Матиевского осталось в тени.
В одном из последних своих стихотворений он писал:
Я сегодня пью и ем,
Я приятель разных братий.
Завтра – буду убиен
Или разобьёт кондратий.
Действительно, «братии» были очень разные. И поминки вечером 28 января 1985 года проходили одновременно в трёх разных местах. Но я не знал и не знаю человека, который относился бы к Матиевскому без симпатии. Да такое, наверное, было бы и невозможно.
Однажды поздним вечером, почти ночью (было это осенью то ли 1976-го, то ли 1977 года), мы сели в электричку на Финляндском вокзале. До отправления поезда оставалось несколько минут. Мы с приятелем вышли покурить, а Матиевский остался в пустом вагоне один. Надо сказать, что он был весь день чем-то подавлен – молчалив, неприветлив… Вдруг раздался звон разбитого стекла. Вбежав в вагон, мы увидели Владимира, стоящего у пустой оконной рамы. Рука его была в крови. И он улыбался – смущённо и как-то даже беззащитно. Почти одновременно с нами в вагоне появился милицейский патруль. И – поразился я этому потом, а тогда всё воспринималось как должное – посмотрев на Матиевского, на разбитое стекло и снова на Матиевского, один из патруля, очевидно главный милицейский, объяснил нам, где на вокзале находится травмпункт, – и удалился, увлекая за собою младших по званию. Удалился, ничего у нас не спросив и не «приняв мер».
Была ему присуща и не менее редкая на фоне повсеместной нетерпимости и односторонности широта, отчасти – та самая «русская широта», которую, как полагал его любимый писатель, «надо бы сузить». Тем не менее в области этической (точнее сказать, социально-этической) на смену этой «стихийно-диалектической» широте со свойственными ей издержками внезапно приходил некий моральный императив:
Валентин Юрьевич Бобрецов
Впервые под одной обложкой собраны литературоведческие работы известного петербургского поэта, лауреата Григорьевской премии 2011 г., представляющие собой не только превосходно написанные эссе, но и новаторские научные статьи, знакомство с которыми сулит читателю отнюдь не локальные открытия. Статьи об известных (В. Маяковский, Н. Гумилев), а также незаслуженно забытых и полузабытых писателях первой трети ХХ века. Особо следует отметить очерк «Мне посчастливилось родиться на Песках», работу на стыке литературоведения и краеведения, представляющую интерес для всех увлекающихся историей Петербурга – Петрограда – Ленинграда.
Валентин Бобрецов
Избранные статьи о литературе
© Бобрецов В., текст, 2019
© «Геликон Плюс», макет, 2019
Страсть и строгость
За четыре года до смерти он писал: «Удел поэта – страсть и строгость. Неискончаемо. Всегда!» И жизнь его, и его стихи – во всяком случае, те, что следует отнести к недолгому периоду творческой зрелости поэта, – полной мерою отвечают жёстким требованиям этой формулы, в них единственно верное сочетание страсти и строгости – качеств столь неудобосоединимых.
Пора зрелости оказалась для него обидно короткой: он умер, лишь на четыре дня пережив своё тридцатитрёхлетие. И вдвойне печально, что пора расцвета его дарования пришлась на вторую половину 70-х – начало 80-х годов, период (казалось – геологический) триумфальных шествий «умеренности и аккуратности», время «скромности, / выставок на квартирах, / фотокопий и карикатур».
Он умер, не увидев ни одной своей строки в повременных изданиях «эпохи застоя». Не увидев вполне заслуженно: абсолютная стилистическая несовместимость его поэзии и канонов так называемого «социалистического реализма» очевидна – даже если трактовать канон этот предельно расширительно, как некий «соцреализм без берегов».
Естественно было бы предположить, что поэт, собственные стихи которого насыщены культурными ассоциациями, переводчик таких «сложных» авторов, как Паунд или Беллоу, – происходит из «высоколобой» (насколько это мыслимо у нас) семьи «с традициями»; словом, он – интеллигент, и уж никак не меньше, чем в третьем поколении.
Однако это совершенно не так.
Он родился в рабочей семье. Дома был относительный, с лёгким оттенком опрятной бедности, достаток. И конечно же, здесь не было высоченного, под потолок, тёмного дерева книжного шкафа с непременным Брокгаузом и Эфроном. Книги были редкостью. Поразительно, однако своих книг – не библиотечных и не взятых на прочтение у друзей и знакомых – у Матиевского никогда не было. Да и не только книг. «Я не имел вещей. / Я не ломал их тел», – если это и гипербола, то с очень малой степенью увеличения.
И не было – в юности – занятий в школьном литературном кружке. Да и какой литературный кружок в вечерней школе? А Матиевский после восьмого класса учился именно там.
Была улица. Сначала – глухие непервые линии Васильевского острова. Потом – пустыри в районе совсем ещё не обжитой (середина 60-х) Пискарёвки с жёсткими нравами пригорода. След прямого «влияния улицы» – шрам на щеке – остался у него на всю жизнь. Итак, улица – с друзьями, приятелями и «дружками», футболом, драками, Галичем, Высоцким и «Битлз». Кстати, о гитаре. Она (а Матиевский на гитаре играл, и играл хорошо) практически никак не повлияла на строй его поэзии – если под «влиянием гитары» разуметь определённое «выпрямление» ритмики стиха и «эмоционально-смысловой примитивизм».
Неизвестно, когда Матиевский начал писать стихи. Сам он об этом никогда не говорил, а прямой вопрос наверняка обратил бы в шутку, ибо при всей своей открытости две области – «личная жизнь» и «творческая лаборатория» – оставались практически недоступными. Хотя интерес, с каким он, работая в Обменно-резервном фонде Библиотеки АН СССР, читал «Садок судей» или «2 ? 2 = 5», выдавал нечто большее, нежели просто читательское любопытство. А первым на моей памяти (и всего скорей действительно самым первым) окажется стихотворение «Кёльн», написанное Матиевским на пари в конце 1974 года. Так или иначе, но начав писать очень поздно, своё двадцатипятилетие он отметил таким грустным «предварительным итогом» (и прекрасным стихотворением):
Vademecum окончился вдруг.
Дальше – полюшко дураково.
Говорят – ты закончил круг,
дожидайся другого.
Как давно мне пора наверстать
эту мысль в моей жизни скалярной, –
что и я угожу на верстак
в хирургической и столярной.
Между солнечных свежих стропил
я устал головой кадить.
И стою… как Муму утопил.
И не знаю, куда уходить.
Оставляя в стороне «общие вопросы неблагополучия в королевстве Датском на январь 1977 года» (месяц и год написания этого стихотворения), попытаемся понять, имелись ли у поэта какие-то личные основания столь невесело оценивать итоги «первого круга» своей жизни?
Хочу сказать, что это фатум,
Хотя – не без моей вины.
Владимир Матиевский
Едва ли возможно определить сущность человека одной фразой. Однако если личность очерчена резко и ярко, появляется хотя бы вероятность существования такой фразы-характеристики. Но всё равно найти её – это, наверное, ничуть не проще, чем открыть – без единственного и к тому же потерянного ключа – нестандартный замок (разумеется, если ты при этом не профессиональный взломщик). Матиевский… Я перепробовал множество ключей к этому замку – и чужих, и своих, пока не вспомнился почему-то Леонид Андреев: «Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок». Да, вот он, ключ! Отпирающий. И – ничего не объясняющий… Замечу, кстати, что Андреев отнюдь не входил в число писателей, особо любимых Матиевским. Его «первый ряд», примерно таков: Достоевский (первый из первых), Гоголь, Белый, Набоков, Платонов, Томас Манн, Хаксли, Сол Беллоу, Оруэлл. Любил он и норвежцев: Гамсуна, Ибсена, Боргена.
Матиевский был предельно чужд какой-либо мистики (в обычном её понимании, – тот же Штейнер вызывал у него лишь эстетические ощущения). Тем не менее всегда он ощущал почти физическое присутствие в своей жизни («тяготение над», по Леониду Андрееву) некой мрачной предопределяющей силы, этого «сурового и загадочного рока» – и пытался если не обуздать эту силу («от судьбы не уйдёшь!»), то хотя бы постичь её природу, дать своеобразную «клиническую картину» этого тяготения (стихотворения «Бесы», «Желчно с миром рядится хаос…», «Злой старик» и другие).
Стыдно и больно сейчас в этом признаться, но вопреки самым очевидным фактам казалось мне (да, наверное, и не только мне), что многое в его стихах – эпатаж, романтическая игра в «проклятость» – и не более… Казалось – до 25 января 1985 года…
Выказывал себя этот «тяжёлый и загадочный рок» весьма разнообразно. Зачастую проявлялся в формах прямо-таки фатального невезения. Иногда рядился в одежды чёрного юмора и позволял даже поиронизировать над собой. Однажды, как тайфун, принял женское имя. Но год от года всё чаще являл своё подлинное – злое и тяжёлое лицо.
Несколько фактов. Каждый из них в отдельности кажется случайностью – и порой малозначительной, но когда таких фактов столько, поневоле стеченье обстоятельств назовёшь судьбой – и заподозришь её в каком-то недобром умысле.
1974 год. Будучи прекрасно подготовлен, Матиевский не поступает на исторический факультет ЛГУ. Он не успевает переписать набело сочинение, тема которого (!) «Лучшими минутами своей жизни я обязан литературе» (Салтыков-Щедрин). Любопытно, что свою работу он посвятил полемике с этой – если вдуматься – своеобразной декларацией эстетизма.
1975. Неудачный роман, «цитатами» из которого пронизана вся лирика Матиевского.
1976 – 1978. Поэзия Матиевского феноменально быстро набирает силу. Руководитель литобъединения не скупится на приватные похвалы. Этим его реальная помощь молодому поэту и ограничивается. В то время, когда более покладистые и сговорчивые «дарования» хоть как-то да печатаются, для Матиевского наступает пора «успеха у богем»; успеха, истинные масштабы которого он сам определяет так:
Если бы я имел хоть одного слушателя,
Нужного мне по-настоящему,
Я б ходил, улыбаясь,
Лужи деля.
Наделяя каждого отстоящего.
В 1979 году умирает мать Владимира. Он долго оправляется от удара. Страшное и мужественное в откровенности своей стихотворение «Я смотрю довоенные снимки…» – об этом.
1980–1984. Постепенно, как он не слишком весело шутил, двукратное латинское aut (Aut Caesar, aut nihil) сменяется двукратным же английским out. Количество оригинальных стихов год от года уменьшается. Поэт занимается переводами, занимается скорей для себя. Анекдотически заканчивается для него единственная в жизни попытка выйти на кого-либо из «мэтров». Разговор с маститым московским писателем, уверяющим (правда, в стихах), что дверь его жилища круглосуточно открыта страждущему человечеству, – разговор этот происходит на пороге означенной либеральной квартиры при неотомкнутой дверной цепочке…
Ещё в середине 70-х, во время путешествия на Памир, Матиевский заболел желтухой. Но пролежав в больнице всего несколько дней, он совершает оттуда самый настоящий побег… А недолеченный гепатит становится хроническим. И вот летом 1984 года на Дворцовом мосту у него горлом хлынула кровь; с каким-то весьма невнятным диагнозом он попадает в больницу… Жаркий июльский день. Мы с товарищем навещаем Матиевского. Он предлагает совершить прогулку и подводит нас к бреши в больничной ограде. Несколько секунд – и мы на… кладбище. Прохаживаясь в больничной пижаме вдоль могил, он шутит по поводу «столь удачного соседства двух этих учреждений». Смеёмся – но каждому слегка не по себе. А Матиевский тем временем с улыбкой рассказывает о своём первом «литературном» заработке: какому-то московскому полупроходимцу-полуюродивому он продал за 300 рублей все свои стихи – и право авторства на них.
Конец декабря 1984 года. Болезнь как будто отступила. Матиевский у меня в гостях. Около полуночи он отправляется домой. Но едва мы успеваем открыть дверь в подъезде, как перед нами падает кирпич. Мы долго смеёмся, ибо все дома вокруг, включая тот, из которого мы вышли, – панельно-блочные.
И вот события 1985 года. «В жизни так не бывает»: в начале января совершенно нелепо погибает жена Владимира. А 22-го мы встречаемся в последний раз. Он держится мужественно, несмотря ни на что, «предполагает жить», выкуривает «последнюю» папиросу – и пачку отдаёт мне. Но, увы, у пушкинской формулы есть и вторая часть. И никому не известно (знала об этом, вероятно, лишь его жена), что уже полгода, как он приговорён, что каждый новый день – лишь отсрочка «приведения приговора в исполнение». Что эта «последняя» папироса – действительно последняя в его жизни.
Он родился 21 января – в день смерти Владимира Ульянова, прожил 33 года и умер в день рождения ещё одного Владимира – Высоцкого. Кажется и здесь «тяжёлый и загадочный рок» постарался сделать всё возможное, чтобы имя Матиевского осталось в тени.
В одном из последних своих стихотворений он писал:
Я сегодня пью и ем,
Я приятель разных братий.
Завтра – буду убиен
Или разобьёт кондратий.
Действительно, «братии» были очень разные. И поминки вечером 28 января 1985 года проходили одновременно в трёх разных местах. Но я не знал и не знаю человека, который относился бы к Матиевскому без симпатии. Да такое, наверное, было бы и невозможно.
Однажды поздним вечером, почти ночью (было это осенью то ли 1976-го, то ли 1977 года), мы сели в электричку на Финляндском вокзале. До отправления поезда оставалось несколько минут. Мы с приятелем вышли покурить, а Матиевский остался в пустом вагоне один. Надо сказать, что он был весь день чем-то подавлен – молчалив, неприветлив… Вдруг раздался звон разбитого стекла. Вбежав в вагон, мы увидели Владимира, стоящего у пустой оконной рамы. Рука его была в крови. И он улыбался – смущённо и как-то даже беззащитно. Почти одновременно с нами в вагоне появился милицейский патруль. И – поразился я этому потом, а тогда всё воспринималось как должное – посмотрев на Матиевского, на разбитое стекло и снова на Матиевского, один из патруля, очевидно главный милицейский, объяснил нам, где на вокзале находится травмпункт, – и удалился, увлекая за собою младших по званию. Удалился, ничего у нас не спросив и не «приняв мер».
Была ему присуща и не менее редкая на фоне повсеместной нетерпимости и односторонности широта, отчасти – та самая «русская широта», которую, как полагал его любимый писатель, «надо бы сузить». Тем не менее в области этической (точнее сказать, социально-этической) на смену этой «стихийно-диалектической» широте со свойственными ей издержками внезапно приходил некий моральный императив: