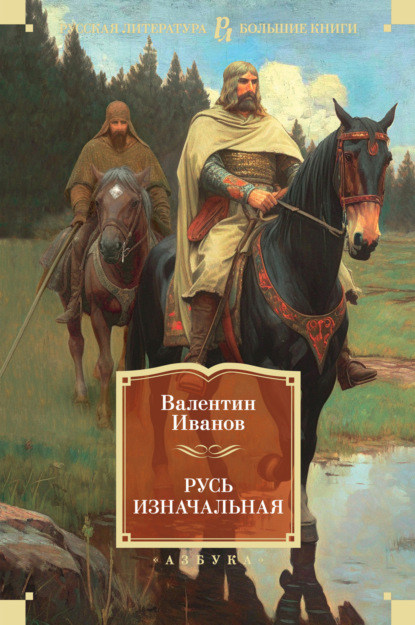По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русь изначальная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава вторая
Чтобы жило племя
Концом копья искормлены.
«Слово о полку Игореве»
1
Не пошел Ратибор сам к матери. Просил друга-дружинника, чтобы тот поскакал к граду, поклонился бы старой Анее и сказал, что сын по материнской воле согласен взять в жены ту девушку, что ему назначена. Смотреть же ее Ратибор не будет, для него любой выбор хорош, как мать скажет. Привез брат ответ Ратибору, чтобы ему быть дома в назначенный день.
В родах везде кончили жатву, свезли хлеб. Сварог дал и пшеницы, и полбы, и ячменя, и овса, и проса с горохом.
В такую пору лета россичи мелют новинку, пекут пироги, сидят[1 - Сидеть пиво – старинное русское значение: варить пиво.] пьяное пиво из ячменя и свадьбы играют.
Россичи не бранились внутри своего рода. На такое зазорное дело не согласятся отцы и матери, его запретят князь-старшины. За самовольный брак из рода выгонят-изгоят. Изгой же – человек, лишенный рода, как ощипанная птица, как трава на дороге, ему каждый ветер в мороз, его любая нога потопчет. Так повелось издревле, от навьих. На гуннском побоище у пятерых братьев-россичей гунны семейства погубили, младшие двое были еще холосты. Братья отправились себе жен добывать и силой умыкнули девок. А чтобы девки не убежали, чтобы их свои родовичи не отыскали, братья далеко ходили, по-волчьи. Свой волк летом близ берлоги скотину брать никогда не будет. Отсюда и слово «невеста» повелось. Невесть, не знает, без вести от своих осталась. Дальше так и шло, по отцовскому примеру, только ныне девушек не умыкали силой, а брали ведомо, по сговору из своих росских родов.
Конные и вооруженные чужие родовичи с Ратиборовой невестой привезли еще трех. Каждая на своей телеге въехали невесты в ворота. И – будто опять домой вернулись.
Кто видел один росский град, тот все видел. Такой же ров с тыном, из-за которого крыши не видать, такая же улица, те же глухие ограды с окнами-бойницами, грузные калитки, тяжелые ворота.
Невест встречали всем родом, все старые и малые – и посмотреть любопытно, и честь оказать надо. Встречали с криком, с хохотом, с общим весельем. Молодые парни тянули на веревке ручного медведя, потешно одетого мужиком: вот жених, чем нехорош.
Кони в телегах попятились от медвежьего рева и запаха. Здоровенные руки вцепились в оглобли: как бы не вывернулся свадебный поезд к бесчестью. Встречающие впряглись в лямки, устроенные сбоку телег, чтобы в трудном месте хозяин мог помочь коню, схватились за постромки, за оголовья, потащили и телеги и лошадей.
Городские псы, потревоженные шумом и громом, прыгали на улицу через дворовые ограды. Увидев, что народ не дерется, не слыша хозяйского зова на бой, собаки сбились в глухой конец улицы и уселись мохнатыми глыбами, одни во всем граде безразлично-спокойные. По очереди свадебный поезд останавливался перед каждым домом, куда шла невеста. Из ворот выносили договорный выкуп за девушку: ткани или кожи, одежду, оружие или что иное. Выкуп вручался поезжанам открыто, при всех и по счету. Обеленную выкупом девушку-невесту поезжане с рук на руки передавали отцу или матери жениха с приговором о том, что «наше стало ваше, а мы в вашу часть вступаться не будем».
И невеста в длинной белой рубахе, в венке из полевых цветов вступала в дом, где ей придется век вековать.
На улицу выносили столы и скамьи, тащили заготовленную снедь. Весь град был одной семьей, происшедшей от одного корня, к свадьбам готовились в каждом доме, не разбирая, в нем ли торжество или у соседей.
Пили, ели, кричали. Ребятишки покрупнее сновали у столов, наделяемые сладкими кусками, прихлебывая из общих чаш пиво и ставленный мед. Малые дети требовали своей доли, с кулачонками нападая на ноги пирующих.
Россичи умели подолгу обходиться без пищи, без воды. Охотники, уходя на три, на четыре дня, не брали куска из дому, чтобы не обременять себя ношей. Ленясь отрубить кусок мяса с добычи и испечь его в золе, ложились спать на голую землю, с пустым животом. Зато дома себе не отказывали в обильном столе.
Ели много и сочно. Мясо зверей и вольной птицы, мясо домашнего скота, мед диких пчел, густое молоко сильных, мало раздоенных коров, сыр и масло, лук, пшеничные, овсяные, гороховые каши, печеную брюкву, репу, морковь. Детей старались кормить жирнее и сытнее. Летом малые детишки мерли, как осенние мухи, трудно было ребенку перевалить через две первые весны. Зато и были выжившие на диво сильны.
За свадебным пиром взрослый мужчина, в одиночку орудуя острым ножом, приканчивал бараний окорочок на закуску. Передохнув, шарил несытыми глазами и тянул к себе поближе корыто с печенными на раскаленных камнях окунями, линями, язями и мягкой сомятиной, чтобы легкой пищей побаловать зубы. Деревянной ложкой хлебал жидкую студенистую гороховую кашу, щедро сдобренную цеженым медом. И тут, поди ж ты, в ноздри ударяло жгучим соблазном свинины. Из чьего-то двора хозяева, сами впрягшись в телегу, везли новую, с пылу горячую, только что доспевшую еду: свиные туши, набитые луком, целиком запеченные в яме, обложенной камнем.
Весело трещали бубны с натянутой на обрез вязового или ивового дупла желто-палевой скобленой кожей. Свистели-визжали сопелки – тростниковые дудочки на пять и на семь дырок. И ухало-рычало кожаное било, великий бубен. Его слышно верст на пять, в тихую погоду – на все десять. Это липовая двухохватная бадья. Било есть в каждом граде, его гул созывает родовичей в случае беды. А теперь, пользуясь праздничной вольностью, любитель могучего рева натянутой кожи то давал деревянными колотушками частую дробь, то гудел редко: ударит всей силой и прижмется ухом к бадье, опьяняясь звуком, чудовищно преломленным костями собственного черепа.
Чествуя новобрачных, родовичи славили Ратибора, восхваляли слобожан. Как же не возносить их! Таких стрелков да наездников нигде нет, и воины они умные, и воевода у них вещий, сам во всем первый из первых, да живет он два века!
Вдруг, как забытая в мотке шерсти игла, из добрых слов высунулось жало: слобода-де на наших кормах обороняет же всю Рось-реку.
Вспомнилось незабываемое. Все знают, почему россичи бедней соседей. И Павно, Ратиборов сосед по граду, буйно грозился во хмелю:
– Было при дедах, толкались мы с жадными илвичами-лежебоками за пойменные угодья. Пора их так, так! – И Павно показывал, как взнуздывают строптивого коня. – И каничей так, так!..
Вот и солнце опустилось вполдерева – кончался длинный день. Уже утоптали сапогами и босыми пятками улицу. Не одна молодежь потешилась в быстром плясе, и старшие порастрясли туго набитые животы так, что хоть опять садись за столы. И садились, добирали остатки.
Солнца не стало. Всевидящее око Сварога сменилось миганием звездочек-гвоздиков, набитых на небесную твердь. Людям пора к покою, молодоженам – к честному делу.
Чинно, без шума разводят молодых к постелям. Вольный на язык, умеющий навек прилепить ядреное прозвище, для насмешки не упускающий самого мелкого повода, россич во многом и ограничен. Права рода, власть старших и отцовско-материнская, предки, могилы, боги, женская честь, мужская доблесть – с ними не шутят. Над брачным делом смеяться считают зазорным, бесчестным. За глупое слово тут же накажут. И больно, не скоро забудешь.
Запирают ворота. За тын уже ушли двое очередных сторожей, вооруженные мечами и копьями. Не в оружии сила охраны. С ними два десятка городских псов росской породы, из которых пара берет медведя и останавливает тура. Умные псы приучены немо бродить по окрестностям. Тревогу они поднимут не зря, а по настоящей опасности, защитят сторожей, дадут им отойти к граду. Так грады охраняются каждое лето, пока молчаливая осень не закроет степную дорогу.
В дальних углах амбара заслонами засыпано зерно первых умолотов. Мерцает глиняный светильник на дощечке над корчагой с водой.
Провожавшие невесту и жениха остались во дворе. Мать вошла с молодыми в амбар. Шепча заклинания, Анея четырежды осыпала мужа и жену зернами пшеницы. Иное пшеничное зерно одно дает три колоса, в каждом же колосе десятки зерен.
Пятясь, Анея с порога бросила последнюю горсть. Заперла дверь, и сразу сделалось тихо. Новые пары размещены.
Широкая постель устроена посередине амбара – ложись с любой стороны. Снопы намолоченного хлеба уложены туго, вперевязку, в три ряда – почти на высоту пояса. На них – Ратибор узнал по запаху – мать настелила добрых трав. Их сухие пучки висели в клетях, томясь в тени и не теряя силы.
По снопам натянута ткань-ровнина, положено одеяло из спинок диких коз. Коричневое при свете дня, оно сейчас казалось черным, увеличивая и без того широкое брачное ложе. Смутно белели заячьи шубки, брошенные в изголовье.
Между Ратибором и Млавой еще не было сказано слова. Они и не нужны на брачном пиру, молчание молодых уместно как знак скромности и смущения. Успеют наговориться, оставшись одни.
Ратибор сел, снопы зашуршали, сминаясь под тяжестью тела. Млава подошла, опустилась на колени. Девушка знала обязанности жены, внушенные ей перед свадьбой дотошными во всех мелочах старыми женщинами, блюстительницами обычаев и правил рода.
Муж не воспрепятствовал жене стянуть с него мягкие сапоги. Он глядел на голову, покрытую тонким платком. Еще дома родные расплели девичьи косы и невеста оплакала свое вольное девичество. Млава пошла вымыть руки в корчаге с водой под светильником. Она, боясь неизбежного, сообщенного ей женщинами, таинственного, как все неиспытанное, медлила, плеща водой. Слабенькое пламя светильника колебалось от дыхания и движений девушки. В тенях взгляд Ратибора угадывал длинную женскую одежду, надетую впервые. На девичьем теле должна быть длинная рубаха, которую каждой девушке шьют перед браком, однажды в жизни. В ней же сожигают тело, когда женщина свершит свою жизнь.
Млава повернулась – Ратибор вспомнил, что не знает ее лица. Он не смотрел на невесту за пиром, не мог бы сказать, какого цвета у нее глаза. Теперь, мельком взглянув, он успел заметить очень светлые волосы. И еще, обладатель тонкого чутья, Ратибор уже знал, уже запомнил запах Млавы, ее запах иной, чем у других.
Глаза и волосы хазаринки были черные… Десятки дней минули, и кончилось колдовское очарование мертвой. Уйдя в день вчерашний, чары лишились власти, не жгли, не давили разум, не томили сердце. «Может быть, – думал Ратибор, – так рука привыкнет к обручью, подбородок – к шлейному ремню, а тело – к парной тяготе доспеха. И сердце – к утрате». Утратить же, никогда не имев, – колдовская тайна, непонятная уму.
Невидимая, Млава шагнула к постели и остановилась, робея. И вдруг решилась. Ратибор слышал, как девушка за его спиной разбиралась. Зашуршали, шевельнулись снопы.
Было совсем темно, светильник едва мерцал, на нагоревшем угле фитиля плясала синенькая стрелка. Ратибор проснулся, как от толчка, очнулся от сна, как всегда, сразу, свежим, готовым к действию и зная, где он и что с ним. Так собака успевает проснуться, телом услышав содрогание земли, обонянием – запах дегтя и кожи, и успевает отскочить, ощутив шерстью прикосновение тележного колеса.
Ратибор сел. Будь не крыша, а открытое небо, он сразу узнал бы, сколько времени осталось до рассвета. Сейчас он знал лишь, что ночь еще длится.
Ночь еще длилась, и Ратибор очнулся не зря. Мать стояла перед ним. Ее присутствие разбудило сына. Старуха подняла руку и ударила Ратибора по темени, не сильно, сухим коротким ударом, как она его наказывала в детстве. Она только рукой била сына.
Приподняв опущенную голову сына за подбородок, Анея другой рукой указала за его спину, на Млаву.
– Я не могу. Не хочу, – сказал Ратибор. В соединении этих слов была ложь, которую он почувствовал сам.
Схватив сына за плечо, Анея заставила его встать. Они вышли. В темноте слышался храп; в соломе и сене, в распряженных телегах повсюду спали люди, как кому пришлось лечь после пира.
«Откуда она узнала?» – думал Ратибор. Он был уверен, что Млава ничего не могла сказать Анее. Анея узнала сама.
Со страстным упреком мать шептала сыну:
– Ты солгал мне, согласившись, ты опозоришь род. Ты знаешь, что ее отвезут домой. Ты хотел посмеяться над нами?
Поблизости пропел петух, ему ответили другие. Петушья перекличка прокатилась по деревянному граду, вернулась, сделала еще круг и смолкла.
Чтобы жило племя
Концом копья искормлены.
«Слово о полку Игореве»
1
Не пошел Ратибор сам к матери. Просил друга-дружинника, чтобы тот поскакал к граду, поклонился бы старой Анее и сказал, что сын по материнской воле согласен взять в жены ту девушку, что ему назначена. Смотреть же ее Ратибор не будет, для него любой выбор хорош, как мать скажет. Привез брат ответ Ратибору, чтобы ему быть дома в назначенный день.
В родах везде кончили жатву, свезли хлеб. Сварог дал и пшеницы, и полбы, и ячменя, и овса, и проса с горохом.
В такую пору лета россичи мелют новинку, пекут пироги, сидят[1 - Сидеть пиво – старинное русское значение: варить пиво.] пьяное пиво из ячменя и свадьбы играют.
Россичи не бранились внутри своего рода. На такое зазорное дело не согласятся отцы и матери, его запретят князь-старшины. За самовольный брак из рода выгонят-изгоят. Изгой же – человек, лишенный рода, как ощипанная птица, как трава на дороге, ему каждый ветер в мороз, его любая нога потопчет. Так повелось издревле, от навьих. На гуннском побоище у пятерых братьев-россичей гунны семейства погубили, младшие двое были еще холосты. Братья отправились себе жен добывать и силой умыкнули девок. А чтобы девки не убежали, чтобы их свои родовичи не отыскали, братья далеко ходили, по-волчьи. Свой волк летом близ берлоги скотину брать никогда не будет. Отсюда и слово «невеста» повелось. Невесть, не знает, без вести от своих осталась. Дальше так и шло, по отцовскому примеру, только ныне девушек не умыкали силой, а брали ведомо, по сговору из своих росских родов.
Конные и вооруженные чужие родовичи с Ратиборовой невестой привезли еще трех. Каждая на своей телеге въехали невесты в ворота. И – будто опять домой вернулись.
Кто видел один росский град, тот все видел. Такой же ров с тыном, из-за которого крыши не видать, такая же улица, те же глухие ограды с окнами-бойницами, грузные калитки, тяжелые ворота.
Невест встречали всем родом, все старые и малые – и посмотреть любопытно, и честь оказать надо. Встречали с криком, с хохотом, с общим весельем. Молодые парни тянули на веревке ручного медведя, потешно одетого мужиком: вот жених, чем нехорош.
Кони в телегах попятились от медвежьего рева и запаха. Здоровенные руки вцепились в оглобли: как бы не вывернулся свадебный поезд к бесчестью. Встречающие впряглись в лямки, устроенные сбоку телег, чтобы в трудном месте хозяин мог помочь коню, схватились за постромки, за оголовья, потащили и телеги и лошадей.
Городские псы, потревоженные шумом и громом, прыгали на улицу через дворовые ограды. Увидев, что народ не дерется, не слыша хозяйского зова на бой, собаки сбились в глухой конец улицы и уселись мохнатыми глыбами, одни во всем граде безразлично-спокойные. По очереди свадебный поезд останавливался перед каждым домом, куда шла невеста. Из ворот выносили договорный выкуп за девушку: ткани или кожи, одежду, оружие или что иное. Выкуп вручался поезжанам открыто, при всех и по счету. Обеленную выкупом девушку-невесту поезжане с рук на руки передавали отцу или матери жениха с приговором о том, что «наше стало ваше, а мы в вашу часть вступаться не будем».
И невеста в длинной белой рубахе, в венке из полевых цветов вступала в дом, где ей придется век вековать.
На улицу выносили столы и скамьи, тащили заготовленную снедь. Весь град был одной семьей, происшедшей от одного корня, к свадьбам готовились в каждом доме, не разбирая, в нем ли торжество или у соседей.
Пили, ели, кричали. Ребятишки покрупнее сновали у столов, наделяемые сладкими кусками, прихлебывая из общих чаш пиво и ставленный мед. Малые дети требовали своей доли, с кулачонками нападая на ноги пирующих.
Россичи умели подолгу обходиться без пищи, без воды. Охотники, уходя на три, на четыре дня, не брали куска из дому, чтобы не обременять себя ношей. Ленясь отрубить кусок мяса с добычи и испечь его в золе, ложились спать на голую землю, с пустым животом. Зато дома себе не отказывали в обильном столе.
Ели много и сочно. Мясо зверей и вольной птицы, мясо домашнего скота, мед диких пчел, густое молоко сильных, мало раздоенных коров, сыр и масло, лук, пшеничные, овсяные, гороховые каши, печеную брюкву, репу, морковь. Детей старались кормить жирнее и сытнее. Летом малые детишки мерли, как осенние мухи, трудно было ребенку перевалить через две первые весны. Зато и были выжившие на диво сильны.
За свадебным пиром взрослый мужчина, в одиночку орудуя острым ножом, приканчивал бараний окорочок на закуску. Передохнув, шарил несытыми глазами и тянул к себе поближе корыто с печенными на раскаленных камнях окунями, линями, язями и мягкой сомятиной, чтобы легкой пищей побаловать зубы. Деревянной ложкой хлебал жидкую студенистую гороховую кашу, щедро сдобренную цеженым медом. И тут, поди ж ты, в ноздри ударяло жгучим соблазном свинины. Из чьего-то двора хозяева, сами впрягшись в телегу, везли новую, с пылу горячую, только что доспевшую еду: свиные туши, набитые луком, целиком запеченные в яме, обложенной камнем.
Весело трещали бубны с натянутой на обрез вязового или ивового дупла желто-палевой скобленой кожей. Свистели-визжали сопелки – тростниковые дудочки на пять и на семь дырок. И ухало-рычало кожаное било, великий бубен. Его слышно верст на пять, в тихую погоду – на все десять. Это липовая двухохватная бадья. Било есть в каждом граде, его гул созывает родовичей в случае беды. А теперь, пользуясь праздничной вольностью, любитель могучего рева натянутой кожи то давал деревянными колотушками частую дробь, то гудел редко: ударит всей силой и прижмется ухом к бадье, опьяняясь звуком, чудовищно преломленным костями собственного черепа.
Чествуя новобрачных, родовичи славили Ратибора, восхваляли слобожан. Как же не возносить их! Таких стрелков да наездников нигде нет, и воины они умные, и воевода у них вещий, сам во всем первый из первых, да живет он два века!
Вдруг, как забытая в мотке шерсти игла, из добрых слов высунулось жало: слобода-де на наших кормах обороняет же всю Рось-реку.
Вспомнилось незабываемое. Все знают, почему россичи бедней соседей. И Павно, Ратиборов сосед по граду, буйно грозился во хмелю:
– Было при дедах, толкались мы с жадными илвичами-лежебоками за пойменные угодья. Пора их так, так! – И Павно показывал, как взнуздывают строптивого коня. – И каничей так, так!..
Вот и солнце опустилось вполдерева – кончался длинный день. Уже утоптали сапогами и босыми пятками улицу. Не одна молодежь потешилась в быстром плясе, и старшие порастрясли туго набитые животы так, что хоть опять садись за столы. И садились, добирали остатки.
Солнца не стало. Всевидящее око Сварога сменилось миганием звездочек-гвоздиков, набитых на небесную твердь. Людям пора к покою, молодоженам – к честному делу.
Чинно, без шума разводят молодых к постелям. Вольный на язык, умеющий навек прилепить ядреное прозвище, для насмешки не упускающий самого мелкого повода, россич во многом и ограничен. Права рода, власть старших и отцовско-материнская, предки, могилы, боги, женская честь, мужская доблесть – с ними не шутят. Над брачным делом смеяться считают зазорным, бесчестным. За глупое слово тут же накажут. И больно, не скоро забудешь.
Запирают ворота. За тын уже ушли двое очередных сторожей, вооруженные мечами и копьями. Не в оружии сила охраны. С ними два десятка городских псов росской породы, из которых пара берет медведя и останавливает тура. Умные псы приучены немо бродить по окрестностям. Тревогу они поднимут не зря, а по настоящей опасности, защитят сторожей, дадут им отойти к граду. Так грады охраняются каждое лето, пока молчаливая осень не закроет степную дорогу.
В дальних углах амбара заслонами засыпано зерно первых умолотов. Мерцает глиняный светильник на дощечке над корчагой с водой.
Провожавшие невесту и жениха остались во дворе. Мать вошла с молодыми в амбар. Шепча заклинания, Анея четырежды осыпала мужа и жену зернами пшеницы. Иное пшеничное зерно одно дает три колоса, в каждом же колосе десятки зерен.
Пятясь, Анея с порога бросила последнюю горсть. Заперла дверь, и сразу сделалось тихо. Новые пары размещены.
Широкая постель устроена посередине амбара – ложись с любой стороны. Снопы намолоченного хлеба уложены туго, вперевязку, в три ряда – почти на высоту пояса. На них – Ратибор узнал по запаху – мать настелила добрых трав. Их сухие пучки висели в клетях, томясь в тени и не теряя силы.
По снопам натянута ткань-ровнина, положено одеяло из спинок диких коз. Коричневое при свете дня, оно сейчас казалось черным, увеличивая и без того широкое брачное ложе. Смутно белели заячьи шубки, брошенные в изголовье.
Между Ратибором и Млавой еще не было сказано слова. Они и не нужны на брачном пиру, молчание молодых уместно как знак скромности и смущения. Успеют наговориться, оставшись одни.
Ратибор сел, снопы зашуршали, сминаясь под тяжестью тела. Млава подошла, опустилась на колени. Девушка знала обязанности жены, внушенные ей перед свадьбой дотошными во всех мелочах старыми женщинами, блюстительницами обычаев и правил рода.
Муж не воспрепятствовал жене стянуть с него мягкие сапоги. Он глядел на голову, покрытую тонким платком. Еще дома родные расплели девичьи косы и невеста оплакала свое вольное девичество. Млава пошла вымыть руки в корчаге с водой под светильником. Она, боясь неизбежного, сообщенного ей женщинами, таинственного, как все неиспытанное, медлила, плеща водой. Слабенькое пламя светильника колебалось от дыхания и движений девушки. В тенях взгляд Ратибора угадывал длинную женскую одежду, надетую впервые. На девичьем теле должна быть длинная рубаха, которую каждой девушке шьют перед браком, однажды в жизни. В ней же сожигают тело, когда женщина свершит свою жизнь.
Млава повернулась – Ратибор вспомнил, что не знает ее лица. Он не смотрел на невесту за пиром, не мог бы сказать, какого цвета у нее глаза. Теперь, мельком взглянув, он успел заметить очень светлые волосы. И еще, обладатель тонкого чутья, Ратибор уже знал, уже запомнил запах Млавы, ее запах иной, чем у других.
Глаза и волосы хазаринки были черные… Десятки дней минули, и кончилось колдовское очарование мертвой. Уйдя в день вчерашний, чары лишились власти, не жгли, не давили разум, не томили сердце. «Может быть, – думал Ратибор, – так рука привыкнет к обручью, подбородок – к шлейному ремню, а тело – к парной тяготе доспеха. И сердце – к утрате». Утратить же, никогда не имев, – колдовская тайна, непонятная уму.
Невидимая, Млава шагнула к постели и остановилась, робея. И вдруг решилась. Ратибор слышал, как девушка за его спиной разбиралась. Зашуршали, шевельнулись снопы.
Было совсем темно, светильник едва мерцал, на нагоревшем угле фитиля плясала синенькая стрелка. Ратибор проснулся, как от толчка, очнулся от сна, как всегда, сразу, свежим, готовым к действию и зная, где он и что с ним. Так собака успевает проснуться, телом услышав содрогание земли, обонянием – запах дегтя и кожи, и успевает отскочить, ощутив шерстью прикосновение тележного колеса.
Ратибор сел. Будь не крыша, а открытое небо, он сразу узнал бы, сколько времени осталось до рассвета. Сейчас он знал лишь, что ночь еще длится.
Ночь еще длилась, и Ратибор очнулся не зря. Мать стояла перед ним. Ее присутствие разбудило сына. Старуха подняла руку и ударила Ратибора по темени, не сильно, сухим коротким ударом, как она его наказывала в детстве. Она только рукой била сына.
Приподняв опущенную голову сына за подбородок, Анея другой рукой указала за его спину, на Млаву.
– Я не могу. Не хочу, – сказал Ратибор. В соединении этих слов была ложь, которую он почувствовал сам.
Схватив сына за плечо, Анея заставила его встать. Они вышли. В темноте слышался храп; в соломе и сене, в распряженных телегах повсюду спали люди, как кому пришлось лечь после пира.
«Откуда она узнала?» – думал Ратибор. Он был уверен, что Млава ничего не могла сказать Анее. Анея узнала сама.
Со страстным упреком мать шептала сыну:
– Ты солгал мне, согласившись, ты опозоришь род. Ты знаешь, что ее отвезут домой. Ты хотел посмеяться над нами?
Поблизости пропел петух, ему ответили другие. Петушья перекличка прокатилась по деревянному граду, вернулась, сделала еще круг и смолкла.