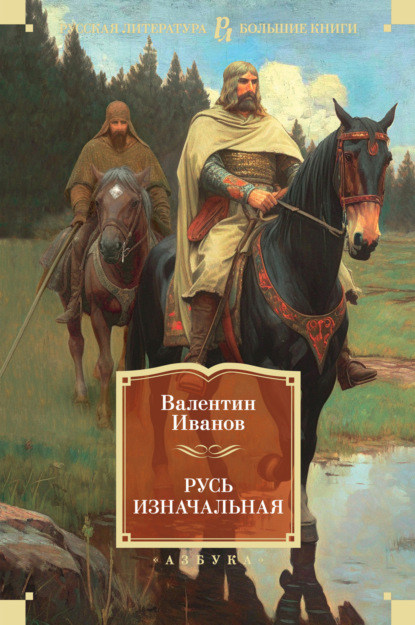По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русь изначальная
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Облитые потом, тела бойцов влажно блестели. На плече Всеслава сочилась кровь из длинного пореза.
– Красно биться стал ты, красно, – одобрил воевода.
Ратибор подошел, высосал ранку. Кровь не выплюнул – братская кровь святая.
Всеслав развел руки, оплетенные толстыми мышцами; темное, как земля, тело вздулось узлами и буграми. Воевода глубоко вздохнул. Пот щипал ранку, нужно приложить жеваных листьев болотной сушеницы. Ратибор рвал в избе лекарство из заготовленных пучков.
Да, бьется парень, как муж. Круто ему пришлось с постылой свадьбой, но не должна кончиться им одним такая сила, нужна она роду и братству.
Один из сторожевых сбежал с вышки, достал и принес отломленный клинок. Отдать кузнецам, пусть сварят железо попрочнее.
Ратибор приложил листья сушеницы к порезу, ловко прикрепил их тонким мочалом. Первый раз, соревнуясь с воеводой в двоеруком бою, он отметил противника. До сих пор бывало иначе. Он не знал, что Всеслав нарочно поддался. У кого много нежности, у кого – мало. Каждый дает, сколько может и как сумеет.
Так минула короткая Ратиборова молодость. Да и детство у тех людей было куда покороче, чем у их дальних потомков. Не у одного Ратибора годы текли зло, исполненные суровости жизни. И других гнули много, били, ковали. Под беспощадно-настойчивым боем тягучее железо твердело, глина же разлеталась пыльной трухой.
3
Еще вчера на легких паутинках летали малые паучки, цеплялись за подсохшие былки, за ветви, за усы, за брови и, пробежав по лицу, пускали новую нитку, чтобы дальше лететь…
Дождь принялся, как сказали сторожевые, с ранней ночи. Будто сеяли его через мучное сито, наземь сыпались тонкие брызгочки-капельки. От них сединой пробивало коричневую шерсть козьих плащей и внизу, с отреза, с длинных косм текли струйки.
На утоптанном щебнем слободском дворе грязи нет. Вода, еще не успев насытить хрящеватую почву, проходит внутрь кургана, как в губку. И в глубоком колодце еще не помутнела вода, как мутнеет зимой. Перехватывая одубелую, крепкую от воды веревку, слобожанин вытягивает бадью хрустально-прозрачной влаги. Вода свежа, холодна, чуть пахнет пенькой. Поставив бадью на закраину сруба, человек пьет и уступает место другому.
Хмурится день. Между небесной твердью и землей протянулся влажный пар – оболока земли. Нынче сверху уже не увидишь, что творится внизу. И снизу вверх тоже не видно. Слышишь, как тихо дышит земля, засыпая. В ее дыхании, как и в человеческом, движется душа. Уснет – и дыхания почти не станет.
Ни в хмурое утро, ни в зимние ночи нет покоя человеку. Он несет в себе колючий ком беспокойных желаний, не знает, даже после совершения лучшего из задуманного, тихого покоя земли.
Ныне росский воевода одному отдался – иметь совершенное орудие своей силы; воинов самых смелых, искусных, послушно ему преданных, как пальцы руки.
Мелкий дождь сеется на длинные волосы Всеслава, мелкие капельки копятся на длинных усах. Поднимая бадью, он пьет, держа на весу двухпудовую тяжесть, как берестяной ковш.
Вволю напившись, слобожане артелями едят кашу из молодой крупы. Каша крутая, холодная – варили вчера ввечеру, – и ложек не надо. Глотают твердый сыр из варенного с телячьим желудком творога, режут ломтями мясо. Насыщались быстро, как придется: кто сидя, кто и стоя.
Поспешая, выходили из изб вооруженные по-охотницки – копье, нож за голенищем, колчан с двумя десятками стрел и лук. От дождя лук спрятан в чехле из кожи, промасленной костяным жиром.
Полный капель воздух пахнул мокрой землей, жухлой травой, лошадью, крепким мужским телом, дубленой и сыромятной кожей. Для Ратибора то был не сравнимый ни с чем запах слободы – без прелости хлева, дымно-избяного чада и смрада градских нечистот.
У некоторых слобожан были свои излюбленные лошади, больше же ловили и брали, какая попадет под руку. Балуя и притворяясь, что пугает узда, молодой жеребец захрапел, попятился, тесня других лошадей. Хотел взмахнуть на дыбы, но опоздал: в ноздри клещами впилась рука. И, послушно скаля зубы, жеребец принял железо уздечки, покосился на человека, лебедем вывернув шею, выкатывая глаз в кровавых жилках на яблоке, но укусить не посмел. Он живо помнил науку, помнил, сколько быстрой, жестоко-повелительной силы скрывается в теле двуногого.
Снуя в ручном, но всегда взволнованном табуне, слобожане седлали коней и верхом выезжали к Рось-реке. Лошади, скользя на будто салом смазанном склоне берега, упирались на задние ноги. Вслед им неслось ржанье – оставшиеся прощались со своими.
За лето река открыла брод-перекат. Всадники кучно вошли в воду, которая едва достигала путового сустава лошади. Дно было сложено галькой с намытым песком. Уши наполнились особенным плеском речных струй под копытами. Рось влажно пахла рыбой, водорослями, со степной стороны дубовая роща посылала аромат своих чар. Сила коня и твоя, братья кругом, и впереди день охоты – всем было вольно и счастливо.
Вслед всадникам через Рось переправлялись шесть телег. Телеги длинные, колеса высокие, почти в рост человека. На таких только и ездят по лесным полянам, лугам, мелколесью и степи. Телеги шли за охотничьей добычей.
От реки слобожане, разминая коней, пошли широким шагом, потом вскачь, потом опять шагом. В ту пору лошади выезжались на шаг и на скачку, другого хода у них не бывало. Всадники, как привыкли, ехали походно, по два в ряд, и тесно, на хвосте. Чередуя шаг и скачку, добрались до Турьего урочища. Здесь ныне нет дозора, пусты землянки. Набегов не жди, скоро зима, степные люди сидьмя сидят, и россичи ездят в степь невозбранно.
От Турьего урочища взяли правее, на закат. Местами были заметны следы тележных колей. Они кончались у взлобка. Здесь были подкопы, виднелась желтовато-серая, жирная под дождем земля. Сюда россичи и все их соседи ездили за славной белой глиной для корчаг, горшков, блюд, тарелок, бокалов, детских куколок и разных свистулек. По левому берегу Роси, в лесу, нигде не бывало такой пригодной для гончарных дел глины. И приходилось за ней ходить в дикую степь.
Недалеко за белоглинными раскопами в глубокой балке, густо заросшей лесом, тек ручей Тикич. Всадники не стали ломиться в балку, а поехали опушкой на полдень, имея Тикич на правой руке. Налево же развернулось высокое, очень ровное место. До самого края были по степи разбросаны дубы, редкие, кряжистые, корявые, каким бывает дерево, растущее в одиночку. Оно тянет более вширь, чем вверх. Дубовая степь – будто кто здесь сеял дубы, редко бросая желуди на волю степного ветра. В жаркую сушь с сухими грозами Сварог молниями побил лес. Много здесь было бугров от пней, заросших землей. Тут осенями любили пастись дикие быки и коровы. Никого не боится степной тур – ни сотенных стай волков, ни лесного медведя. Осенью туры уходили ближе к лесам, покидая выжженную, вытоптанную степь и опасаясь единственного врага – гололедицы.
Россичи расчетливо и бережно брали туров, туры много давали славянину. Из рогов делали луки, рукоятки оружия, гребни для волос, для чесания пряжи и шерсти, вытачивали и вырезали застежки для рубах, кафтанов, полушубков. Толстая шкура шла на подошвы, а хребтина была незаменимо хороша для доспеха. Толщиной в полтора пальца, с нашитыми копытами или железными бляхами, хребтинные доспехи отбивали и меч и стрелу.
Из турьей кожи выгибали шлемы и подшлемные шапки, делали кожанцы-калиги. Мясо солили и коптили впрок. Турьи мытые кишки набивали вареным мясом с салом, сохраняя так пищу надолго. Туша убитого тура вся шла для дела.
Ветер дул с севера и с полуночи. Слобожане сделали длинный объезд, чтобы охватить туров с полудня. Среди турьих стад паслись дикие лошади-тарпаны разных мастей, разных статей. Одни по виду ничем не отличаются от росских, другие же с длинными седлистыми спинами, с головами большими, тяжелыми, как коровьи. Считали, что тарпаны повелись от одичавших, отбившихся лошадей. От века ходили по степям разных языков люди, от века бились в степях и в предстепьях. И всегда разбегались кони, потерявшие хозяев. Говорили же, что на Припять-реке, по островам средь болот и озер живут дикие люди-сыроядцы, которые кутаются в невыделанные шкуры и забыли, как добывают огонь. Тоже бежали когда-то от беды и забились столь далеко, что не нашли назад дороги, одичав на безлюдье. Тарпанов россичи охотно били для мяса: оно вкуснее, чем мясо дворовой лошади.
Туры паслись и паслись, а тарпаны, подзрев всадников, забеспокоились. Вот табунок голов в десять бросился по ветру в балку Тикича. И уже с той стороны послышалось ржание жеребца-хозяина, собиравшего своих. Там и сям убегали тарпаны, а туры, по своей силе не столь осторожные, глядели на всадников и опять опускали головы, срывая траву.
Утренний серо-дымный полог небес прорисовывался летучими горами, дождь иссякал, становилось яснее. Сделался виден матерый бык на холмике. Он, уставившись на людей, равнодушно катал жвачку по горлу.
От места, где находились сейчас слобожане, до балки ручья Сладкого, где побили хазаров, расстояние было верст восемь, если идти прямо на восход солнца. Далее, отойдя верст на двенадцать, начиналась днепровская пойма камышистыми болотами и топями да глубокими старицами от древних русел Днепра.
За спиной слобожан Тикич поворачивал прямо на юг и верст через шестьдесят вливался в Синь-реку. Между Тикичем и днепровской поймой по сухим плоским гривам, размежевывающим безыменные балки безыменных ручьев, лежали пути из степи на Рось. Туры, кони и люди с телегами – был ход всем и всему. Оттуда летом тянуло бедой. Осенью же приходили дикие стада будто выкупом за чинимое степью злосчастье.
Всадники ехали шагом среди турьих стад. Приближались люди – и коровы с телятами неспешно отходили вправо, влево, куда придется. Быки косились и тоже отступали. Не от праха. Присутствие чужого теснило вольного зверя.
Небо расчищалось, ветерок сушил степь. Слобожане растолкали туров. Под молчаливым нажимом всадников голов до сорока туров отступили к северу, к краю леса, где летом жил дозор.
Всадники двигались изогнутой линией, края шли быстрее, а середина отставала, будто напряженная тетива. Туры перестали кормиться, телята жались к маткам. Быки, их было шестеро, начали сердиться. Двое уставились на всадников, будто и первый раз их заметили. Задний, поменьше, опустил голову и негромко взревел. Другой молча и медленно шел на людей. Вдруг он заревел еще громче, мощнее, чем первый. Несколько турих с телятами скачками прибежали на зов.
Горяча себя, быки били копытами землю. Потом, наклонив головы, грозя рогами в полтора локтя, быки поскакали на всадников. Коровы спешили следом.
Слобожане бросились в стороны, открывая в своей цепи широкий проход. Туры уже разогнались до скорости, с которой умеет соперничать не каждая лошадь. Они не искали боя, шли прямо, стрелой.
Пропустив их, всадники замкнули цепь. А туры, прорвавшись, замедлили скок. Быки теперь шли сзади, охраняя коров.
Между лесом и охотниками оставались четыре быка, с десяток коров, голов пятнадцать молодняка.
Думая за зверя, Ратибор понимал, что и зверь набирается мудрости от житейского опыта, судит сам по себе. Чего-чего не встретится стаду, которое бродит в степи от Теплого моря до самых чащ приросских лесов! А эти, видно, еще никогда не встречали человека вплотную. Может, только в их крови, как и в крови Ратибора, живет голос воспоминаний, переданных от предков. Ничто не поможет диким быкам.
В полуверсте от опушки звери остановились. У быков заклокотало в стесненных гортанях, длинные хвосты с темными метелками шерсти на концах били по ребрам. Молодняк жался к старшим.
Как воины, выстроились быки, и было видно – ни один не отступит больше назад. Пришел час выкупа за власть над самкой, над стадом, за мощь тела, похожего на глыбу дикого камня, за веру в себя. Пора платить собой, расставаясь с вольностью жизни, с былыми волнениями любви, со степным простором. Было, было все, и нет ничего, кроме битвы.
Всадники приближались. Понимая самое легкое давление ноги, незаметный для глаза наклон тела всадника, кони переступали шаг за шагом, спокойные, послушные, усмиренные однажды, но всегда помнящие силу колен человека, удар его кулака между ушей и полосу жгучей боли от плети.
Сближаясь со Всеславом, Ратибор о чем-то попросил, и воевода закричал:
– Не бить заднего!
Самый большой бык ждал боя чуть сзади трех других.
Толчком одной ноги всадник поворачивает лошадь, другой ногой удерживает. На сжатых коленях человек приподнимается над седлом, чтобы дать свободу нижнему усу лука. Сообразив силу ветра и откуда он тянет, стрелок растягивает тетиву до уха и метит в левый пах быка. Оттянутая средним и указательным пальцами, тетива срывается будто сама и щелкает по кожаной рукавичке, защищающей левую руку.
От звяка тетивы, от шмелиного гуда уходящей стрелы конь вздергивает голову. Может быть, он умеет увидеть в полете прорезь стрелы в кресте оперенья?
Конь стоит, подобрав задние ноги под круп, собравшись, готовый ответить новому приказу всадника. Нет приказа, и конь продолжает глядеть.
– Красно биться стал ты, красно, – одобрил воевода.
Ратибор подошел, высосал ранку. Кровь не выплюнул – братская кровь святая.
Всеслав развел руки, оплетенные толстыми мышцами; темное, как земля, тело вздулось узлами и буграми. Воевода глубоко вздохнул. Пот щипал ранку, нужно приложить жеваных листьев болотной сушеницы. Ратибор рвал в избе лекарство из заготовленных пучков.
Да, бьется парень, как муж. Круто ему пришлось с постылой свадьбой, но не должна кончиться им одним такая сила, нужна она роду и братству.
Один из сторожевых сбежал с вышки, достал и принес отломленный клинок. Отдать кузнецам, пусть сварят железо попрочнее.
Ратибор приложил листья сушеницы к порезу, ловко прикрепил их тонким мочалом. Первый раз, соревнуясь с воеводой в двоеруком бою, он отметил противника. До сих пор бывало иначе. Он не знал, что Всеслав нарочно поддался. У кого много нежности, у кого – мало. Каждый дает, сколько может и как сумеет.
Так минула короткая Ратиборова молодость. Да и детство у тех людей было куда покороче, чем у их дальних потомков. Не у одного Ратибора годы текли зло, исполненные суровости жизни. И других гнули много, били, ковали. Под беспощадно-настойчивым боем тягучее железо твердело, глина же разлеталась пыльной трухой.
3
Еще вчера на легких паутинках летали малые паучки, цеплялись за подсохшие былки, за ветви, за усы, за брови и, пробежав по лицу, пускали новую нитку, чтобы дальше лететь…
Дождь принялся, как сказали сторожевые, с ранней ночи. Будто сеяли его через мучное сито, наземь сыпались тонкие брызгочки-капельки. От них сединой пробивало коричневую шерсть козьих плащей и внизу, с отреза, с длинных косм текли струйки.
На утоптанном щебнем слободском дворе грязи нет. Вода, еще не успев насытить хрящеватую почву, проходит внутрь кургана, как в губку. И в глубоком колодце еще не помутнела вода, как мутнеет зимой. Перехватывая одубелую, крепкую от воды веревку, слобожанин вытягивает бадью хрустально-прозрачной влаги. Вода свежа, холодна, чуть пахнет пенькой. Поставив бадью на закраину сруба, человек пьет и уступает место другому.
Хмурится день. Между небесной твердью и землей протянулся влажный пар – оболока земли. Нынче сверху уже не увидишь, что творится внизу. И снизу вверх тоже не видно. Слышишь, как тихо дышит земля, засыпая. В ее дыхании, как и в человеческом, движется душа. Уснет – и дыхания почти не станет.
Ни в хмурое утро, ни в зимние ночи нет покоя человеку. Он несет в себе колючий ком беспокойных желаний, не знает, даже после совершения лучшего из задуманного, тихого покоя земли.
Ныне росский воевода одному отдался – иметь совершенное орудие своей силы; воинов самых смелых, искусных, послушно ему преданных, как пальцы руки.
Мелкий дождь сеется на длинные волосы Всеслава, мелкие капельки копятся на длинных усах. Поднимая бадью, он пьет, держа на весу двухпудовую тяжесть, как берестяной ковш.
Вволю напившись, слобожане артелями едят кашу из молодой крупы. Каша крутая, холодная – варили вчера ввечеру, – и ложек не надо. Глотают твердый сыр из варенного с телячьим желудком творога, режут ломтями мясо. Насыщались быстро, как придется: кто сидя, кто и стоя.
Поспешая, выходили из изб вооруженные по-охотницки – копье, нож за голенищем, колчан с двумя десятками стрел и лук. От дождя лук спрятан в чехле из кожи, промасленной костяным жиром.
Полный капель воздух пахнул мокрой землей, жухлой травой, лошадью, крепким мужским телом, дубленой и сыромятной кожей. Для Ратибора то был не сравнимый ни с чем запах слободы – без прелости хлева, дымно-избяного чада и смрада градских нечистот.
У некоторых слобожан были свои излюбленные лошади, больше же ловили и брали, какая попадет под руку. Балуя и притворяясь, что пугает узда, молодой жеребец захрапел, попятился, тесня других лошадей. Хотел взмахнуть на дыбы, но опоздал: в ноздри клещами впилась рука. И, послушно скаля зубы, жеребец принял железо уздечки, покосился на человека, лебедем вывернув шею, выкатывая глаз в кровавых жилках на яблоке, но укусить не посмел. Он живо помнил науку, помнил, сколько быстрой, жестоко-повелительной силы скрывается в теле двуногого.
Снуя в ручном, но всегда взволнованном табуне, слобожане седлали коней и верхом выезжали к Рось-реке. Лошади, скользя на будто салом смазанном склоне берега, упирались на задние ноги. Вслед им неслось ржанье – оставшиеся прощались со своими.
За лето река открыла брод-перекат. Всадники кучно вошли в воду, которая едва достигала путового сустава лошади. Дно было сложено галькой с намытым песком. Уши наполнились особенным плеском речных струй под копытами. Рось влажно пахла рыбой, водорослями, со степной стороны дубовая роща посылала аромат своих чар. Сила коня и твоя, братья кругом, и впереди день охоты – всем было вольно и счастливо.
Вслед всадникам через Рось переправлялись шесть телег. Телеги длинные, колеса высокие, почти в рост человека. На таких только и ездят по лесным полянам, лугам, мелколесью и степи. Телеги шли за охотничьей добычей.
От реки слобожане, разминая коней, пошли широким шагом, потом вскачь, потом опять шагом. В ту пору лошади выезжались на шаг и на скачку, другого хода у них не бывало. Всадники, как привыкли, ехали походно, по два в ряд, и тесно, на хвосте. Чередуя шаг и скачку, добрались до Турьего урочища. Здесь ныне нет дозора, пусты землянки. Набегов не жди, скоро зима, степные люди сидьмя сидят, и россичи ездят в степь невозбранно.
От Турьего урочища взяли правее, на закат. Местами были заметны следы тележных колей. Они кончались у взлобка. Здесь были подкопы, виднелась желтовато-серая, жирная под дождем земля. Сюда россичи и все их соседи ездили за славной белой глиной для корчаг, горшков, блюд, тарелок, бокалов, детских куколок и разных свистулек. По левому берегу Роси, в лесу, нигде не бывало такой пригодной для гончарных дел глины. И приходилось за ней ходить в дикую степь.
Недалеко за белоглинными раскопами в глубокой балке, густо заросшей лесом, тек ручей Тикич. Всадники не стали ломиться в балку, а поехали опушкой на полдень, имея Тикич на правой руке. Налево же развернулось высокое, очень ровное место. До самого края были по степи разбросаны дубы, редкие, кряжистые, корявые, каким бывает дерево, растущее в одиночку. Оно тянет более вширь, чем вверх. Дубовая степь – будто кто здесь сеял дубы, редко бросая желуди на волю степного ветра. В жаркую сушь с сухими грозами Сварог молниями побил лес. Много здесь было бугров от пней, заросших землей. Тут осенями любили пастись дикие быки и коровы. Никого не боится степной тур – ни сотенных стай волков, ни лесного медведя. Осенью туры уходили ближе к лесам, покидая выжженную, вытоптанную степь и опасаясь единственного врага – гололедицы.
Россичи расчетливо и бережно брали туров, туры много давали славянину. Из рогов делали луки, рукоятки оружия, гребни для волос, для чесания пряжи и шерсти, вытачивали и вырезали застежки для рубах, кафтанов, полушубков. Толстая шкура шла на подошвы, а хребтина была незаменимо хороша для доспеха. Толщиной в полтора пальца, с нашитыми копытами или железными бляхами, хребтинные доспехи отбивали и меч и стрелу.
Из турьей кожи выгибали шлемы и подшлемные шапки, делали кожанцы-калиги. Мясо солили и коптили впрок. Турьи мытые кишки набивали вареным мясом с салом, сохраняя так пищу надолго. Туша убитого тура вся шла для дела.
Ветер дул с севера и с полуночи. Слобожане сделали длинный объезд, чтобы охватить туров с полудня. Среди турьих стад паслись дикие лошади-тарпаны разных мастей, разных статей. Одни по виду ничем не отличаются от росских, другие же с длинными седлистыми спинами, с головами большими, тяжелыми, как коровьи. Считали, что тарпаны повелись от одичавших, отбившихся лошадей. От века ходили по степям разных языков люди, от века бились в степях и в предстепьях. И всегда разбегались кони, потерявшие хозяев. Говорили же, что на Припять-реке, по островам средь болот и озер живут дикие люди-сыроядцы, которые кутаются в невыделанные шкуры и забыли, как добывают огонь. Тоже бежали когда-то от беды и забились столь далеко, что не нашли назад дороги, одичав на безлюдье. Тарпанов россичи охотно били для мяса: оно вкуснее, чем мясо дворовой лошади.
Туры паслись и паслись, а тарпаны, подзрев всадников, забеспокоились. Вот табунок голов в десять бросился по ветру в балку Тикича. И уже с той стороны послышалось ржание жеребца-хозяина, собиравшего своих. Там и сям убегали тарпаны, а туры, по своей силе не столь осторожные, глядели на всадников и опять опускали головы, срывая траву.
Утренний серо-дымный полог небес прорисовывался летучими горами, дождь иссякал, становилось яснее. Сделался виден матерый бык на холмике. Он, уставившись на людей, равнодушно катал жвачку по горлу.
От места, где находились сейчас слобожане, до балки ручья Сладкого, где побили хазаров, расстояние было верст восемь, если идти прямо на восход солнца. Далее, отойдя верст на двенадцать, начиналась днепровская пойма камышистыми болотами и топями да глубокими старицами от древних русел Днепра.
За спиной слобожан Тикич поворачивал прямо на юг и верст через шестьдесят вливался в Синь-реку. Между Тикичем и днепровской поймой по сухим плоским гривам, размежевывающим безыменные балки безыменных ручьев, лежали пути из степи на Рось. Туры, кони и люди с телегами – был ход всем и всему. Оттуда летом тянуло бедой. Осенью же приходили дикие стада будто выкупом за чинимое степью злосчастье.
Всадники ехали шагом среди турьих стад. Приближались люди – и коровы с телятами неспешно отходили вправо, влево, куда придется. Быки косились и тоже отступали. Не от праха. Присутствие чужого теснило вольного зверя.
Небо расчищалось, ветерок сушил степь. Слобожане растолкали туров. Под молчаливым нажимом всадников голов до сорока туров отступили к северу, к краю леса, где летом жил дозор.
Всадники двигались изогнутой линией, края шли быстрее, а середина отставала, будто напряженная тетива. Туры перестали кормиться, телята жались к маткам. Быки, их было шестеро, начали сердиться. Двое уставились на всадников, будто и первый раз их заметили. Задний, поменьше, опустил голову и негромко взревел. Другой молча и медленно шел на людей. Вдруг он заревел еще громче, мощнее, чем первый. Несколько турих с телятами скачками прибежали на зов.
Горяча себя, быки били копытами землю. Потом, наклонив головы, грозя рогами в полтора локтя, быки поскакали на всадников. Коровы спешили следом.
Слобожане бросились в стороны, открывая в своей цепи широкий проход. Туры уже разогнались до скорости, с которой умеет соперничать не каждая лошадь. Они не искали боя, шли прямо, стрелой.
Пропустив их, всадники замкнули цепь. А туры, прорвавшись, замедлили скок. Быки теперь шли сзади, охраняя коров.
Между лесом и охотниками оставались четыре быка, с десяток коров, голов пятнадцать молодняка.
Думая за зверя, Ратибор понимал, что и зверь набирается мудрости от житейского опыта, судит сам по себе. Чего-чего не встретится стаду, которое бродит в степи от Теплого моря до самых чащ приросских лесов! А эти, видно, еще никогда не встречали человека вплотную. Может, только в их крови, как и в крови Ратибора, живет голос воспоминаний, переданных от предков. Ничто не поможет диким быкам.
В полуверсте от опушки звери остановились. У быков заклокотало в стесненных гортанях, длинные хвосты с темными метелками шерсти на концах били по ребрам. Молодняк жался к старшим.
Как воины, выстроились быки, и было видно – ни один не отступит больше назад. Пришел час выкупа за власть над самкой, над стадом, за мощь тела, похожего на глыбу дикого камня, за веру в себя. Пора платить собой, расставаясь с вольностью жизни, с былыми волнениями любви, со степным простором. Было, было все, и нет ничего, кроме битвы.
Всадники приближались. Понимая самое легкое давление ноги, незаметный для глаза наклон тела всадника, кони переступали шаг за шагом, спокойные, послушные, усмиренные однажды, но всегда помнящие силу колен человека, удар его кулака между ушей и полосу жгучей боли от плети.
Сближаясь со Всеславом, Ратибор о чем-то попросил, и воевода закричал:
– Не бить заднего!
Самый большой бык ждал боя чуть сзади трех других.
Толчком одной ноги всадник поворачивает лошадь, другой ногой удерживает. На сжатых коленях человек приподнимается над седлом, чтобы дать свободу нижнему усу лука. Сообразив силу ветра и откуда он тянет, стрелок растягивает тетиву до уха и метит в левый пах быка. Оттянутая средним и указательным пальцами, тетива срывается будто сама и щелкает по кожаной рукавичке, защищающей левую руку.
От звяка тетивы, от шмелиного гуда уходящей стрелы конь вздергивает голову. Может быть, он умеет увидеть в полете прорезь стрелы в кресте оперенья?
Конь стоит, подобрав задние ноги под круп, собравшись, готовый ответить новому приказу всадника. Нет приказа, и конь продолжает глядеть.