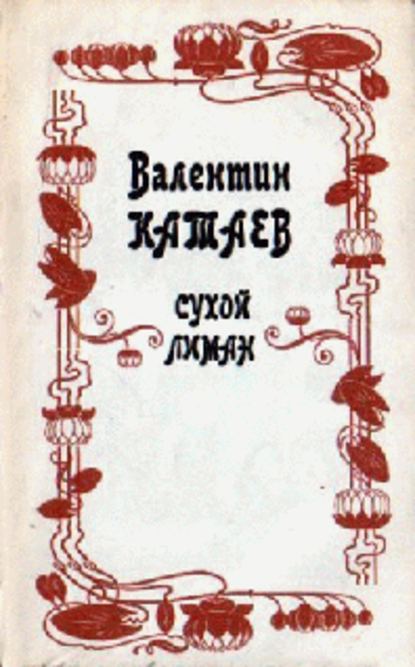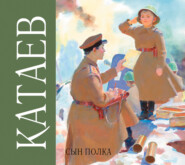По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Спящий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Крестьяне, а особенно крестьянки, сидя на возу и прикрывая юбками привезенные продукты, рассматривали какую-нибудь воздушную батистовую шемизетку времен конца девятнадцатого века и совершенно не обращали внимание ни на фасон, ни на отделку, а только придирчиво рассматривали ткань на свет, считая, что чем плотнее материал, тем лучше, причем с пренебрежением говорили: «Це реденько!»
Но что было с них взять! Простота! Народ!
Лучше всего шли простыни, а их накопилось за всю жизнь – уйма, так что на ужин всегда подавались котлеты.
Спящий особенно отчетливо видел проплывающее блюдо горячих котлет, посыпанных укропом – таким кружевным, таким зеленым, какой может присниться только в цветном сне.
Вечерние котлеты особенно привлекали молодую компанию после длительной морской прогулки на яхте. Впрочем, не только котлеты и крепко заваренный, почти красный чай с сахаром. Красавица Нелли и ее младшая сестра Маша могли поспорить с котлетами.
Нелли пела романсы, а Маша аккомпанировала ей. Царили Рахманинов, Гречанинов и этот, как его? – снова забываю его фамилию. Да. Черепнин.
«Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидит месяц… В небе звездочка скатилась…»
Или нечто подобное.
Оно и сейчас звучало во сне.
У Нелли было сильное, хотя еще не отработанное, домашнее, меццо-сопрано. Ее прелестный голос как бы ударялся в поднятую черную лакированную крышку еще не проданного рояля, наполняя комнату чудными звуками, которые улетали через открытые окна сначала в небольшой внутренний дворик, потом на улицу, на перекресток, на бульвар и затихали где-то на загородном шоссе, там, где стояла давно уже неподвижная зеленая паровая трамбовка с трубой, как у паровоза, и асфальтово-серым передним трамбовочным колесом.
А голос все звучал, звучал: «…в саду малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы…»
Спящий плакал во сне от счастья и видел загородное шоссе с зеленой трамбовкой, кучками щебенки и двух девушек – красавицу Нелли и ее сестру Машу, которые шли на теннисную площадку, держа в руках ракетки. Они были одинаково одеты в летние спортивные костюмы – эпонжевые жакетки и английские юбки, тоже эпонжевые, шершаво-белые. Старшая – красавица с блестящими черными волосами, гладко причесанными на прямой ряд, с испанским черепаховым гребешком на затылке, придававшим ей нечто царственное, с удлиненным лицом, как говорится, цвета слоновой кости и с бровями, не вызывавшими сомнения, что она родная дочь прокурора. А младшая, считавшаяся дурнушкой, небольшая, еще не вполне выросшая, почти девочка, вся выдалась в прокуроршу: те же ласковые телячьи глаза, легкие белокурые волосы, доброта, разлившаяся по всему ее нежному лицу, с родинкой на шее пониже уха, вся светящаяся молочной белизной, с ресницами, бросавшими тень на крылья некрасивого, но ужасно симпатичного носика, и незаконченность во всех движениях.
Старшая шла уверенно, слегка поигрывая ракеткой с маркой «Дэвис», стеклянно блестящей на солнце, а на полшага сзади нее шел ее жених, владелец яхты Вася, коренастый, только что успевший окончить гимназию, еще в гимназической куртке, хотя и без пояса, и было что-то исконно русское, даже, может быть, крестьянское, если не купеческое, в его походке, в его русых волосах, аккуратно постриженных. Из таких пареньков некогда рождались русские миллионеры. Он боготворил свою невесту и назвал ее именем яхту: «Нелли».
Как счастливый невольник, он нес за своей госпожой сеточку с шершавыми теннисными мячами.
И в это же время откуда ни возьмись появился еще один юноша, с загорелым цыганским лицом и жесткими темными волосами, – Васин товарищ по гимназии. Это был я.
Мимо меня как-то незаметно прошла красота старшей, но с первого взгляда до самого сердца дошла прелесть младшей. Я еще не понял, что уже влюблен, но мне уже хотелось идти рядом с младшей, болтать всякий вздор и читать стихи Фета.
Спящий видел на шоссе две парочки, идущие к теннисным кортам.
Но когда все это было? Весной? Летом? Осенью? Во всяком случае, не зимой.
Во сне все времена года происходили одновременно.
Чудо совместимости.
Кажется, было грифельно-темное, почти черное небо, обещавшее майскую грозу, томительно назревавшую, как первая любовь. На фоне грозового неба отчетливо рисовались крупные почки конских каштанов, как бы вымазанные столярным клеем, готовые вот-вот лопнуть, -…вот они уже лопнули – и выпустили на волю еще бессильно повисшие, как тряпки, новорожденные пятипалые волосатые листья с крошечными восковыми елочками еще не родившихся соцветий.
Каштаны уже распустились и даже бросали тень. В то же время светилось акварельное осеннее небо с треугольником журавлей над кострами листопада, а ночью серебрилось звездное небо, отраженное в заливе, и, как это ни странно, степная вечерняя заря угасала над белокаменной стеной монастыря и над полуразрушенной башней старого маяка, а в монастыре звонили к вечерне -…вечерний звон, вечерний звон… – и над обрывом в монастырском саду буйно цвела майская сирень, которую мы ломали, а потом с громадными темно-лилово-сине-голубыми букетами возвращались на трамвае в город, с тем чтобы, едва дождавшись рассвета, отправиться по улицам еще по-ночному безлюдного города в порт, где возле причала покачивалась яхта. А вечером опять в столовую вошла из кухни прокурорша с блюдом, и вся компания навалилась на котлеты.
Компания представлялась спящему чем-то единым, плохо разборчивым, кроме нескольких знакомых лиц. Остальные были просто каким-то сборищем случайно сблизившихся молодых людей, которые даже не вполне хорошо знали друг друга.
Иные из них возникали неожиданно и были безличны. Иные вовсе не появились, а потом опять вдруг начинали один за другим появляться, и все это было в духе того странного времени беспечности и свободы.
После котлет красавица Нелли снова пела. У нее были холодные глаза. А Вася стоял рядом с раскрытым роялем и с обожанием смотрел на свою нареченную.
Потом младшая сестра вышла из душной комнаты на балкон и положила на железные перила руки, уставшие от клавишей. За нею как намагниченный вышел на балкон и я. Маша и я стояли рядом как бы висящие над колодцем двора, положив руки на перила, и молча смотрели на зеленое вечернее небо, уже почти ночное, с первыми звездами над черепичными крышами.
Преодолевая несвойственную робость, я очень медленно, почти незаметно придвинул по железным перилам свою руку к Машиной руке. Я думал, что она отодвинет свою руку, но она не отодвинула. Ее мизинчик вздрогнул, но не отодвинулся. Может быть, даже еще ближе придвинулся. Тогда я как бы случайно, бессознательно положил свою ладонь на Машину руку, прижатую к перилам. Маша стояла неподвижно, как будто бы ничего не произошло особенного, но я чувствовал, что сердце ее бьется, а рука, покрытая моей ладонью, притаилась и замерла, как небольшая птица, например голубь, и так продолжалось довольно долго в полуобморочном безмолвии сновидения. Это могло бы продолжаться вечно, если бы не настала пора расстаться: не стоять же всю ночь на балконе в чужом доме.
На другой день, все еще не говоря друг другу ни слова о любви, мы вдвоем сидели в ее комнатке, где на письменном столике были аккуратно разложены прошлогодние гимназические учебники и откуда-то вдруг появились два небольших зеркала, поставленных друг против друга, а между ними горела стеариновая свеча.
Что это было? Физический опыт или сон во сне?
Меж двух зеркал острей кинжала язык свечи. Сбегаются струйками в зеркала ее лучи. Глаза зеркал глядят друг в друга, как два лица. Одна свеча над бездной млечной белым-бела. И, озаренной, бесконечной, ей нет числа.
Очарованные, мы заглядывали в этот зеркальный, бесконечно уходящий в вечность зеркальный коридор взаимных отражений.
Спящий пребывал в перспективе этого бесконечного зеркального коридора, и сон его стал еще более глубок, чем прежде, но ненадолго.
В природе что-то изменилось. Может быть, прошла ночная гроза, которую он не услышал.
Малахитовые волны почернели. Пена на них стала еще белее. Тень Манфреда упала на далекое побережье, где назревал шквал.
Яхта уже ушла далеко в открытое море, и Вася переложил руль вправо, желая поскорее, пока не поздно, изменить галс. Это был поворот оверштаг. Грот и кливер на некоторое время перестали ловить ветер, затрепетали и безжизненно повисли, но почти в тот же миг гик грота медленно и тяжело перешел справа налево, едва не ударив по голове Леньку Грека, крепившего шкот вырвавшегося из рук кливера. Паруса уже ловили ветер, как бы подувший с другой стороны.
Яхта уходила от шквала, который уже покрывал море черной дробью своих порывов. Черная дробь шквала догоняла яхту, ставшую глубоко нырять в рассерженных волнах. Ореховая скорлупка маленького тузика как бешеная запрыгала за кормой, стараясь сорваться с привязи.
«Облака бегут над морем, крепнет ветер, зыбь черней, будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней», – пел Манфред своим сильным голосом, стараясь перекричать шум шквала.
Конечно, он не был Манфредом. Это было всего лишь его прозвище. Как было его настоящее имя, никто не знал. И это беспокоило спящего.
Манфред стоял во весь рост, расставив ноги на качающейся палубе, и не спускал слишком светлых влюбленных глаз с Нелли. Она сидела на палубе возле спуска в каюту, обхватив колени руками и положив на них подбородок.
Между Нелли и Манфредом что-то происходило. Какой-то молчаливый спор, в котором Нелли уже готова была сдаться.
Шквалистый ветер порывами клал яхту на бок. Если бы не ее киль со свинцовой сигарой на конце, служив-
шей противовесом всему волшебному инструменту яхты, то яхта, конечно, легла бы плашмя всеми своими парусами на волны – как бабочка, неосторожно попавшая в бассейн.
Яхта звенела под ветром, как мандолина.
Небо стало совсем черное. Всех охватил страх. Девушки вскрикивали, как чайки. Чайки носились над яхтой – белые на черном фоне. Кто-то кинулся в каюту. Кто-то лег плашмя на палубу, схватившись руками за медные утки с намотанными концами шкотов. Кто-то прижался к мачте.
Я обнял Машу за плечи, и ее яркий шелковый платок вдруг развязался и улетел в море, обнажив растрепавшиеся льняные легкие волосы. На ее щеках блестели, как слезы, капли морской воды, даже на вид горько-соленые.
Яркий платок еще некоторое время летал над волнами, как бы желая унестись за черный горизонт, пока не скрылся из глаз, поглощенный грозовой тучей.
Только Манфред и Нелли оставались спокойными, неподвижными, и в их неподвижности было нечто зловещее. Они были как Демон и Тамара. Если бы кто-нибудь обратил на них внимание, то понял бы, что в этот миг решается их судьба.
Добрый милый Вася всем своим крепким телом налег на румпель, изо всех сил заставляя яхту повернуть к берегу, до которого было не так-то близко.
Дельфины, спутники шторма, сопровождали яхту. Их черные горбатые спины то и дело показывались из волн и снова погружались в недра разгневанного моря. Спинные треугольные плавники выскакивали из пены и снова исчезали, не успев поймать отражения далеких молний.
Казалось, неминуемая гибель грозит яхте.