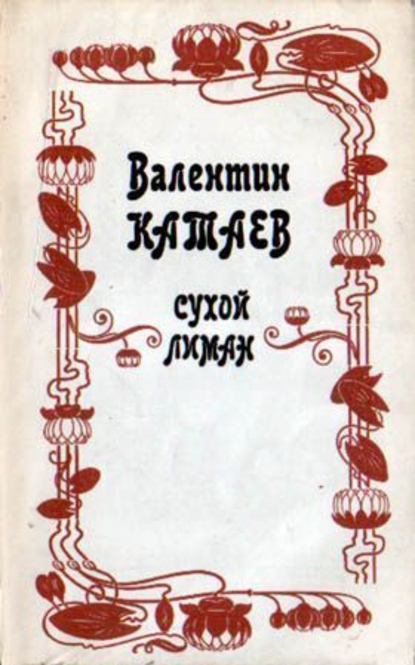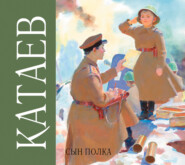По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Юношеский роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь я уже не свободный и независимый молодой человек – охотник-волонтер, – имеющий право в любой момент уехать домой из действующей армии, а нижним чин, канонир, подчиненный суровой воинской дисциплине.
За церковной оградой растет береза с молочно-белой атласной корой. Воздушное кружево ветвей, сероватых от инея, замечательно красиво рисуется падающей сетью на чистом морозном небе…
…Выступление на позиции. Утро. Девять часов. Парк, где стоят орудия нашей батареи, похож на конскую ярмарку. Кубы прессованного сена. Лошади. Зарядные ящики. Орудия. Передки… Все это производит впечатление беспорядка, хотя полный порядок. Все делается строго по уставу.
Офицеры с молодыми, утренними лицами. Пожилой командир батареи в серой бекеше выезжает вперед на своой смирной лошадке.
– Шапки долой! – кричит он добрым слабым голосом. – Ну, ребята, перекрестимся на дорогу!
Серьезный морозный ветерок пробегает по обнаженным короткоостриженным солдатским головам и по проборам офицеров.
Командир батареи размашисто осеняет себя крестным знамением, и котором мне чудится что-то кутузовское.
Мелькают руки, шапки. Все крестятся, и вместе со теми я тоже.
– Накройсь! Шагом марш!
Колеса скрипят по сырому снегу. Звенит упряжь. Я иду рядом со своим орудием номер четыре. Несмотря на январь, слегка подтаивает. Под ногами мокровато. Похоже на раннюю весну. В сердце грусть и одиночество.
Делаем переход в двадцать пять верст с двумя пятиминутными и одной получасовой остановками. Дорога в пловом лесу. Среди свежей по-зимнему, густой хвои, в чаще которой всегда легкий синеватый туман, белеют по-девичьи стройные стволы нестеровских берез. Опять сильно подморозило. Во время получасовой остановки на льду замерзшей речки бегу отогреваться в первую попавшуюся халупу, уже битком набитую нашими батарейцами. Пылает огонь в печурке. Пахнет ельником. Откуда-то взялся большой медный луженый чайник, и в нем уже бушует кипяток. Обжигаясь, пьем чай из самодельных кружек, бывших некогда консервными банками. Кусаем сахар. Мои замерзшие сапоги оттаивают. По всему телу разлипается приятная теплота. Хорошо бы завалиться на душистые еловые ветки, устилающие пол, и всхрапнуть как следует.
Но, увы, полчаса истекли.
Надо торопиться попасть засветло на позицию, откуда все громче и громче слышатся редкие орудийные выстрелы.
Но вот мы уже на месте. Стемнело. Вокруг ничего не видно, кроме деревьев. Ночь. Электрические фонарики орудийных фейерверкеров бегло освещают землянки и орудийные ровики, где совсем недавно стояли трехдюймовки батареи, которую мы сменяем.
Вот тут-то поскорее бы установить наши орудия и залечь спать в обжитой и хорошо натопленной землянке.
Ан нет!
Оказывается, мой второй взвод назначен на самую что ни на есть передовую секретную позицию в двух шагах позади пехотных окопов.
Отрываемся от своей батареи и, соблюдая всяческую осторожность, под покровом ночной темноты выезжаем вперед еще версты на три, то есть совсем под носом у немцев, где для нас уже заранее приготовлена саперами и надежно замаскирована удобная позиция: места для орудий, землянки для прислуги и телефонистов.
В темном звездном небе с трех сторон то тут, то там взлетают немецкие осветительные ракеты, и тогда бескрайние снега вокруг нас, хвойные рощи, сугробы снега волшебно, но в то же время как-то очень зловеще озаряются голубоватым бенгальским огнем, плывущим по окрестностям и как бы заливающим вместе с собою всю панораму зимней ночи.
Сюда уже залетают шальные пули немецких часовых. Иногда эти пули проносятся небольшой стайкой, как птички, с противным щебетаньем и посвистыванием. Это значит, что дают залп немецкие сторожевые охранения.
Пока – все.
Завтра или послезавтра, если бог даст, напишу продолжение. Вы не находите, что у нас с Вами происходит нечто вроде романа в письмах, причем главным образом пишу я, а Вы отмалчиваетесь? Не сердитесь! Роман!… Дождешься от Вас романа! За редкие письма Ваши большое спасибо. Они такие теплые. Мне очень приятно, что мои излишне подробные и длинные писания доставляют Вам удовольствие. Буду писать еженедельно. Если можете – отвечайте. Это будет мне тоже очень приятно.
Кроме знакомых, как Вы пишете, «девочек», которых у меня не так уж и много, я получаю письма и от «мальчиков». Девочки пишут сентиментальные письма, а мальчики – мои товарищи – пишут письма умные, содержательные. Все же мое одиночество остается незаполненным.
Пишите, дорогая Миньона! Ужасно медленно идут письма. Ваше письмо от 14 января получил только вчера. Уже поздно. Пишу в землянке, глубоко под землей, при невозможных условиях. Привет Вашей маме, сестрам – родным и двоюродным. Шлю Вам свой братский привет и вместе с ним немножко вьюги, хвойных лесов, звездных ночей и любви. Вспоминаете ли Вы дачу Вальтуха? А. П.».
Следующее письмо на довольно больших листах папиросной бумаги, мелким почерком, выцветшими чернилами. Откуда эта бумага? Что за чернила? Где писано? этого я уже совершенно не помнил. Руку свою разбирал с трудом, как чужую. Малоинтересный манускрипт прошлых веков! Но все-таки в этих строчках была какая-то часть меня, полустертый остаток моей прошлой жизни.
«Действующая армия. 8-11-16 г. Милая Миньона! Как ото ни странно, – не без труда разбирал я выцветшие слова, – но после Вашего письма у меня появилась непреодолимая потребность делиться с Вами всеми мелочами моего поенного быта. Вы одна из всех тех, кто мне пишет, правильно поняли, что главное – это мелочи. Именно мелочи. Из них складывается жизнь, хотя бы даже и на передовой линии с ежеминутной возможностью смерти. Мелочи главное самого главного, потому что главпое состоит именно из них, из этих как бы незначительных мелочей.
Некоторые пишут мне, чтобы я сообщал о сильных переживаниях, о боевых эпизодах, о подвигах, о ранениях и т. д. Один мой товарищ дословно пишет: «Правда ли „там“ – хорошо? Сильно? И хорошо именно оттого, что сильно?» А одна, как Вы выражаетесь, «девочка» молится за меня, пишет: «Да хранит Вас бог! Я молюсь за Вас и буду молиться»…Это, конечно, трогательно. Но когда я получаю подобные письма, мне становится как-то очень неловко, как будто бы я обманываю чьи-то ожидания, и я не знаю, что отвечать.
Моя жизнь сейчас наполнена бытовыми мелочами, которые подавляют все остальные, так называемые героические чувства. Например, во время артиллерийской дуэли: мысли о том, что каждую секунду могут ранить или убить, то есть уничтожить. Поймите: у-нич-то-жить. Совсем, навсегда, неотвратимо. Это уже не просто страх, а ужас! Чувствуешь все это, а в то же время, как это ни странно, какой-то внутренний мальчишеский голос кричит во мне: «А ну-ка еще! Еще! Шарь! Не боюсь!» А на самом деле не просто боюсь, а теряю сознание от ужаса перед тем, что может сию минуту произойти. И в то же самое время соображение, что если убьют, то смерть почетная, хорошая, большая. Но это редко и то проблесками.
А жизнь, ее обстоятельства наполняют мозг соображениями о том, что до конца месяца не хватит сахару, что нужно стирать белье, что долго из дому нет посылки, что письма запаздывают и т. п.
На днях я по неведению не стал во фронт командиру дивизиона Шереметьеву, которого не знал в лицо. Он сделал мне замечание и сказал:
– Доложите своему батарейному командиру, что вы не изволили стать во фронт командиру дивизиона.
Я доложил и потом целую неделю ждал с волнением, что меня поставят под ранец с полной выкладкой. И это волнение, ей-богу, было сильнее того волнения, которое я испытал, когда увидел, что на том самом месте, где десять минут назад я брал из приехавшей походной кухни борщ и кашу для своего орудия, разорвалась немецкая граната и осколками убило лошадь».
На этом месте я перестаю читать письмо. Устали глаза. Я задумываюсь. Что-то в этом моем письме мне теперь не нравится. Память, обогащенная прожитой жизнью, подсказывает мне, что тогда – в те легендарно далекие годы – все, что я с таким старанием описывал, на самом деле было не совсем так. Или, вернее, так, да не так. Память как бы сдувает туманную оболочку с событий и обнаруживает некоторую их искусственность, некоторые пустоты, которые вдруг заполняются тем, что я тогда вольно или невольно скрыл, несмотря на явное, настойчивое желание быть до конца правдивым.
Например, случай с дивизионным полковником Шереметьевым: во время затишья я слонялся по местности недалеко от батареи и столкнулся с полковником Шереметьевым, еще не зная его в лицо. По снежной тропинке шел красивый полковник в шинели, отлично скроенной и сшитой из лучшего солдатского сукна, так называемого гвардейского, без пуговиц, а на крючках, туго подпоясанный широким офицерским ремнем. Из специально прорезанного кармана шинели торчал золотой эфес почетной шашки – золотого ружия – с георгиевской лентой темляка и крошечным белым эмалевым Георгиевским крестиком на нижней части эфеса, а вся шашка скрывалась под шинелью – особый чисто фронтовой шик, дававший понять всякому, что полковник не какой-нибудь штабной тыловик, а настоящий боевой офицер, «слуга царю, отец солдатам».
Проходя мимо, я залюбовался красивым лицом полковника с мужественно постриженными усами и черным бархатным околышем парадной артиллерийской фуражки, говорящей о том, что полковник не прячется от неприятельских наблюдателей, прикрывшись фуражкой защитного циста или же серой смушковой папахой, а презирает опасность и вообще привык не обращать внимания на свист пуль и осколки бризантных снарядов.
Я почувствовал патриотический восторг и, вытянувшись изо всех сил, прошел мимо полковника строевым шагом, напряженно приложив руку в меховой перчатке к своей но по уставу белой папахе. Полковник мгновенно заметил и этумою глупую папаху, и не по уставу кожаную куртку, и всю щуплую, глубоко штатскую фигуру, шагающую в юфтевых сапогах с ремешками по скрипучему снегу, и погоны с накладными пушечками. Он, конечно, тут же понял, что это новый вольноопределяющийся, протеже командира бригады, с которым был в контрах.
– Вольноопределяющийся! – окликнул он меня не-громко. – Подойдите! Вы что же это? Не знаете устава? Мы обязаны знать в лицо своего дивизионного командира и становиться ему при встрече во фронт. И что это у вас за разболтанный вид и почему вы обмундированы не по форме? Извольте доложить об этом своему батарейному командиру и кр-ру-гом ар-рш! Ступайте.
Я почувствовал холод в желудке, расслабление кишечника, чуть было, как говорят солдаты, не наложил в шаровары и даже немного помочился.
Возвратившись к себе во взвод, я не знал, что предпринять. Старик батарейный командир болел и совсем не показывался, даже, кажется, его уже отправили на тыловуюслужбу. Нового командира батареи еще не было. Его должность исполнял полубатарейный поручик Тесленко, во он тоже у нас во втором взводе, стоявшем отдельно, бывал редко.
Кому же докладывать?
Фельдфебеля я боялся как огня.
Я залез в свою тесную орудийную землянку и посоветовался с бомбардиром-наводчиком Ваней Ковалевым, тем самым нежным красавцем с карими девичьими глазами и черными усиками. Ковалев посоветовал мне вовсе никому не докладывать – «бо, ей-богу же, той полковник Шереметьевский уже забыл это дело, так что лучше всего вы сидите тихо и не рыпайтесь».
Я внял мудрому совету и не рыпался, но все время испытывал страх, что мое преступление всплывет наружу, отягощенное тем, что я не исполнил приказа дивизионного командира, и тогда мпе не миновать ранца с полной выкладкой.
Я уже однажды видел, как провинившийся батареец стоял под ранцем, то есть в полной пехотной выкладке, с обнаженным бебутом у плеча, с ранцем на спине, в который было наложено фунтов десять груза. Он стоял по стойке «смирно», не шевелясь, на морозе, с красным лицом, как истукан. Это был канонир из какой-то соседней батареи, мимо которого я проходил по тропинке в канцелярию за письмами.
Страх мучил меня днем и ночью до тех пор, пока солдатский телеграф пе сообщил, что полковник Шереметьев уехал в отпуск. Только тогда яуспокоился.
…Что касается упоминания дачи Вальтуха, то здесь заключается тончайший намек. На первую встречу с Миньоной, на наш якобы роман, которого, впрочем, совсем не было, а он только еще смутно намечался и то не с ее, а с моей стороны, а с ее стороны – неизвестно.
Но она была любимой дочкой генерала, а тогда, перед войной, еще полковника, приехавшего со всей семьей из Тирасполя, где была расположена его артиллерийская часть.
Их квартира выходила окнами и балконом на старый, запущенный, так называемый Ботанический сад, или попросту Ботаника, с дубовой рощей. Этот балкон, куда однажды мы с Миньоной вышли вечером и стояли, облокотившись на железные перила, как бы висел в воздухе посреди этой черной дубовой рощи с умирающими листьями, запахом которых мы дышали.
Только что взошедшая из-за дачи Вальтуха большая осенняя луна как бы висела на дубовом сучке и уже напустила на нас ночной холод. Я осторожно подвинул к ее локтю свою руку, а она сделала вид, что совсем этого не заметила и что все это с моей стороны напрасные поползновения и так далее. Я делал вид, что влюблен в Миньону. А на самом деле в это время не переставал безнадежно и горько любить совсем другую…
«Наш взвод, то есть два орудия – третье и четвертое, – как я уже, кажется, Вам писал, стоит в одной версте от немцев. Я нахожусь в числе прислуги при четвертом орудии. Живем мы в двух землянках, глубоких, как погреб, куда надо опускаться по земляным ступенькам, обшитым тесом. Окон нет, и слабый свет проникает через небольшое стекло, вделанное сверху в дощатую дверь. Словом, вечная 'подземная поэма, запах сырости и сосновых бревен, положенных в три наката вместо потолка. Спим мы на земляных нарах, покрытых еловыми ветками и соломой. Свечей не выдают, и мы жжем керосин в жестяной лампочке без стекла. Лампочка – коптилка! Лица наши постоянно в саже, и болят глаза. Теснота ужасная!